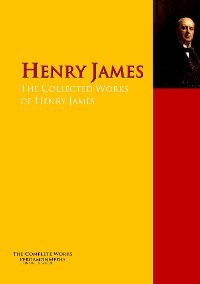Полная версия
Золотая чаша
Стоило бы посмотреть на эту сцену какому-нибудь постороннему зрителю! Он, возможно, по-своему истолковал бы это глубинное общение без слов или хотя бы получил чисто эстетическое удовольствие, удовлетворив столь ценимое в наши дни чувство стиля – а это в наши дни почти то же самое, что и чувство прекрасного. Во всяком случае, нельзя отказать в наличии стиля темноволосой, аккуратно причесанной головке миссис Ассингем, чьи тугие черные кудри были уложены в такое множество рядов, что соответствовали последней моде даже больше, чем ей хотелось бы. Относясь весьма настороженно ко всему, что бросается в глаза, она тем не менее вынуждена была мириться со своей яркой внешностью и по мере сил справляться с собственным обликом. Насыщенные краски, внушительный нос, черные, словно у актрисы, брови – все это вкупе с пышной фигурой, на которой уже заметна была печать «среднего возраста», придавало ей вид одной из дочерей юга или даже скорее востока, создания из мира гамаков и диванов, вскормленного шербетом и привыкшего повелевать толпами покорных рабов. Глядя на нее, можно было подумать, что ей в жизни не приходилось ничего делать, кроме как перебирать струны мандолины, раскинувшись среди подушек, или угощать любимую газель засахаренными фруктами. На самом же деле миссис Ассингем не была ни капризной еврейкой, ни томной креолкой; Нью-Йорк породил ее, а воспитала неизменная «Европа». Одевалась она в желтое и лиловое, утверждая, что лучше уж выглядеть похожей на царицу Савскую, чем на revendeuse[6]; по той же причине она носила жемчуг в волосах и надевала к вечернему чаю алое с золотом платье, исходя из теории о том, что сама природа дала ей кричащую внешность, и следовательно, раз уж себя переделать невозможно, остается только заглушать собственную экзотичность экзотичностью одежды. И потому вся она была увешана и кругом обставлена всевозможными безделушками, явно поддельными, с удовольствием развлекая этим своих друзей. Друзья же охотно играли с ней в эту игру, основанную на различии между внешностью и характером. Характер живо отражался в сменяющих друг друга выражениях ее подвижного лица, убеждая наблюдателя в том, что она отнюдь не пассивно воспринимает все смешное в этом мире. Она наслаждалась теплой дружеской атмосферой, она жить без этого не могла, но из-под иерусалимских век смотрели глаза уроженки большого американского города. Одним словом, при всей своей поддельной праздности, поддельном безделье, поддельных жемчугах, пальмах, двориках и фонтанах была она человеком, для которого жизнь состоит из бесчисленных мелких подробностей, и подробности эти могла перебирать без конца, бесстрашно и неутомимо.
«Пусть я покажусь чересчур утонченной», – ее любимая присказка, – тем не менее она была неизменно готова сочувствовать другим. Это было для нее безотказным способом занять себя и (опять-таки по ее собственному выражению) не давало закисать. В ее жизни имелось два зияющих пробела, которые следовало чем-то заполнить, и она сама говорила, что собирает в эти дыры обрывки светских знакомств, как пожилые дамы в Америке во времена ее молодости собирали в корзинки обрезки тканей, чтобы затем соорудить из них лоскутное одеяло. Одним из этих пробелов, нарушающих идеальную завершенность миссис Ассингем, было отсутствие детей; другим – недостаток богатства. Удивительно, но ни то ни другое совсем не бросалось в глаза. Сочувствие и любопытство помогали ей относиться к объектам своего интереса практически как к собственным детям; равным образом муж-англичанин, в период военной службы «заправлявший хозяйством» в своем батальоне, умел заставить домашнюю экономию расцвести пышным цветом, подобно розе. Полковник Боб через несколько лет после женитьбы оставил службу в армии, исчерпав, очевидно, все возможности обогащения собственного жизненного опыта в ее рядах, и мог теперь целиком посвятить себя вышеупомянутой разновидности садоводства. Среди младшего поколения друзей этой парочки ходила легенда, настолько древняя, что она уже не подлежала никакой критике, будто сам этот в высшей степени удачный брак совершился на заре времен, когда девушки из Америки еще не считались «приемлемыми»; так что эта приятная чета проявила незаурядную смелость и оригинальность, вследствие чего могла теперь, на склоне лет, пользоваться славой своего рода первооткрывателей брачного Северо-Западного пути[7]. Про себя-то миссис Ассингем прекрасно знала, что ничего они не открыли: за многовековую историю, начиная с Покахонтас, не было ни дня, чтобы какой-нибудь английский юноша не потерял голову, а какая-нибудь американская девушка ничтоже сумняшеся не ответила на его чувство; но наша милая дама охотно принимала лавры первопроходца, ведь, в конце-то концов, она и вправду была на деле старейшиной ныне живущих представителей этого племени переселенцев женского пола, а главное – иные из подобных комбинаций и впрямь были делом ее рук, хотя и не в случае с Бобом. То была исключительная заслуга самого Боба, он додумался до нее совершенно самостоятельно, начиная с первого проблеска удивительной идеи, и во все последующие годы находил в этом неопровержимое доказательство своего умственного превосходства. А если и жена его проявляет недюжинный ум, так тем больше ему чести. Временами она и сама чувствовала, что он никак не мог допустить в ней какой бы то ни было ограниченности. Но истинное испытание для ума миссис Ассингем наступило, когда ее сегодняшний гость в конце концов произнес:
– Знаете, по-моему, вы плохо со мной обращаетесь. У вас есть что-то на душе, а вы мне ничего не рассказываете.
Следует также признать, что ее ответная улыбка оказалась, вне всякого сомнения, несколько неопределенной.
– Разве я обязана рассказывать вам все, что у меня на душе?
– Речь идет не обо всем, а только лишь о том, что может непосредственно касаться меня. Таких вещей вы не должны от меня скрывать. Вы же знаете, я хочу действовать чрезвычайно осторожно, все учитывать, чтобы не совершить невзначай ошибки, которая могла бы задеть ее.
На это миссис Ассингем после маленькой заминки по какой-то непонятной причине переспросила:
– Ее?
– Ее и его. Обоих наших друзей. Мегги и ее отца.
– Меня и в самом деле кое-что беспокоит, – ответила через минуту миссис Ассингем. – Случилось нечто неожиданное. Но к вам все это, строго говоря, не имеет отношения.
Князь немедленно расхохотался, откинув голову назад.
– Что значит «строго говоря»? Мне в этом видится бездна смысла. Так выражаются люди, которые… которые выражаются неправильно. А я выражусь правильно. Что же такое случилось, связанное со мной?
Хозяйка дома тут же подхватила его интонацию.
– Ах, я буду только рада, если вы возьмете на себя свою долю. Шарлотта Стэнт в Лондоне. Только что приезжала ко мне.
– Мисс Стэнт? Да что вы говорите? – Князь недвусмысленно выразил удивление, встретившись со своей приятельницей взглядом, в котором сквозило довольно ощутимое потрясение. – Она приехала из Америки? – спросил он быстро.
– Видимо, она приехала сегодня в полдень из Саутгемптона и остановилась в гостинице. Она заехала ко мне после ланча и просидела больше часа.
Молодой человек слушал с интересом, хотя и не настолько сильным, чтобы от этого пострадала его веселость.
– Так вы думаете, что в этом событии есть и моя доля? Какая же именно?
– Да какая хотите – вы ведь так настаивали, чтобы я с вами поделилась.
В ответ князь посмотрел на нее, сознавая всю нелогичность собственных слов, и миссис Ассингем заметила, что он покраснел. Но говорил он все так же небрежно.
– Ну, это я еще не знал, о чем речь.
– Не думали, что дело настолько плохо?
– По-вашему, дело очень плохо? – спросил молодой человек.
– Я сужу по тому, как это подействовало на вас, – улыбнулась миссис Ассингем.
Он колебался, по-прежнему чуть раскрасневшись, по-прежнему не сводя с нее глаз, все еще не совсем придя в себя.
– Но вы признались, что обеспокоены.
– Да… Просто потому, что я ее совсем не ждала. Я думаю, – сказала миссис Ассингем, – что и Мегги ее не ждала.
Князь задумался; потом как будто обрадовался, что можно наконец сказать нечто абсолютно естественное и правдивое:
– Да, вы правы. Мегги ее не ждала. Но я уверен, – прибавил он, – что Мегги будет очень рада ее видеть.
– Это уж наверняка, – отвечала хозяйка дома с какой-то новой серьезностью.
– Она будет просто в восторге, – продолжал князь. – Мисс Стэнт от вас поехала к ней?
– Она поехала к себе в гостиницу, чтобы перевезти сюда свои вещи. Я не могла допустить, – сказала миссис Ассингем, – чтобы она оставалась одна в гостинице.
– Да, я понимаю.
– Раз уж она приехала, нужно, чтобы она жила у меня.
Князь осмыслил ее слова.
– Так она вот-вот явится сюда?
– Я жду ее с минуты на минуту. Если подождете, вы ее увидите.
– О, очаровательно! – тут же откликнулся князь, но слово это прозвучало так, словно им в последнюю минуту заменили нечто совсем другое. Оно показалось случайным, тогда как князь хотел, чтобы прозвучало твердо. Соответственно, он постарался проявить твердость в своих следующих словах. – Если бы не то, что должно произойти в ближайшие дни, Мегги, конечно, пригласила бы ее к себе.
Собственно говоря, – продолжал он простодушно, – все происходящее как раз дает причину для приглашения, разве нет?
Миссис Ассингем вместо ответа молча смотрела на него, и это, видимо, подействовало сильнее, чем любые слова, поскольку он задал, казалось бы, довольно непоследовательный вопрос:
– Зачем она приехала?
Его собеседница рассмеялась.
– Ну как же, именно за тем, о чем вы сейчас говорили. На вашу свадьбу!
– Мою? – удивился он.
– На свадьбу Мегги – это одно и то же. Приехала на ваше с Мегги великое событие. И потом, – сказала миссис Ассингем, – она ведь так одинока.
– Она назвала это в качестве причины?
– Право, не помню. Она привела столько разных причин. Бедняжка, у нее их предостаточно. Но одну я помню всегда без всяких напоминаний.
– Какую же? – У князя был такой вид, словно он должен бы догадаться, но не может.
– Да просто тот факт, что у нее нет дома – совершенно никакого дома. Она необычайно одинока.
Князь снова осмыслил ее слова.
– А также нету средств к жизни.
– Очень мало. Это-то, впрочем, не причина ей носиться туда-сюда по свету, при нынешних ценах на поезда и отели.
– Совсем наоборот. Но она не любит свою страну.
– Свою, дорогой мой друг? Какая же это «ее» страна! – Притяжательное местоимение, видимо, рассмешило хозяйку дома. – Она поехала туда и тут же вернулась, а там ей особенно нечего делать.
– Ах, сказав «ее», я с тем же успехом мог бы назвать эту страну моей, – светским тоном пояснил князь. – Уверяю вас, я уже чувствую, что этот великий континент в большей или меньшей степени принадлежит мне.
– Ну, это ваша точка зрения и ваше везение. Вам принадлежит – или скоро будет, по сути, принадлежать – весьма немаленькая часть этой страны. А у Шарлотты, по ее словам, нет никакого имущества в этом мире, за исключением двух огромнейших чемоданов – я разрешила ей перевезти сюда только один из них. Она обесценит в ваших глазах ваше богатство, – прибавила миссис Ассингем.
Он думал об этом, он думал обо всем, но воспользовался своим всегдашним выходом из положения – обратить все в шутку.
– Она приехала с коварными планами на мой счет? – И, словно почувствовав, что получилось все-таки чересчур серьезно, попытался заговорить о том, что как можно меньше касалось бы его самого: – Est-elle toujours aussi belle?[8]
Почему-то это казалось самой нейтральной темой в связи с Шарлоттой Стэнт.
Миссис Ассингем откликнулась вполне охотно:
– Она нисколько не изменилась. Вот человек, чья внешность, на мой взгляд, лучше всего воспринимается окружающими. Ею все восхищаются, кроме тех, кому она почему-либо не нравится. Ну и, конечно, ее критикуют.
– Ах, это несправедливо! – сказал князь.
– Критиковать ее? Ну, вот вам и ответ.
– Вот мне и ответ. – Он комически изобразил послушного ученика, успешно прикрыв минутное смущение демонстрацией благодарной покорности. – Я всего-навсего хотел сказать, что лучше, пожалуй, не относиться к мисс Стэнт критически. Когда кого-нибудь критикуешь, стоит только начать… – Он великодушно не закончил фразу.
– Вполне согласна с вами – лучше от этого воздерживаться, пока можно. Но если уж приходится…
– Да? – спросил он, поскольку она замолчала.
– Нужно по крайней мере знать, что у тебя на уме.
– Понимаю. А может быть, – улыбнулся он, – я сам не знаю, что у меня на уме.
– Вот как раз сейчас-то вам бы уж надо это знать. – Но миссис Ассингем не стала больше распространяться об этом, видимо устыдившись собственного тона. – Разумеется, вполне понятно, что она захотела приехать, ведь они с Мегги такие близкие подруги. Она поступила необдуманно, но совершенно бескорыстно.
– Она поступила прекрасно, – сказал князь.
– Я говорю «бескорыстно» в том смысле, что она не посчиталась с расходами. Теперь ей придется, во всяком случае, их подсчитать, – продолжала миссис Ассингем, – но это не имеет значения.
Князь вполне понимал, как мало значения имеют в данном случае подобные вещи.
– Вы о ней позаботитесь.
– Я о ней позабочусь.
– Значит, все в порядке.
– Все в порядке, – сказала миссис Ассингем.
– Так о чем же вы беспокоитесь?
Она вскинулась, но лишь на мгновение.
– Я ни о чем не беспокоюсь – не больше вашего.
Темно-голубые глаза князя были очень красивы и в эту минуту больше всего на свете напоминали высокие окна на фасаде римского дворца работы одного из величайших старых архитекторов, распахнутые праздничным утром навстречу золотистому воздуху. В такие мгновения он сам походил на картину, на портрет какого-нибудь аристократа, который величественно возникает в окне под приветственные клики собравшейся толпы, опираясь на подоконник, застланный драгоценными старинными тканями, – является не ради себя самого, но ради своих восхищенных подданных: нужно же им хоть изредка полюбоваться, разинув рот, на своего повелителя. Вот точно так же в выражении лица молодого человека возникало нечто живое, очень конкретное – отражение некой замечательной личности, истинного князя, правителя, воина, покровителя, одним своим появлением озаряющего великолепную архитектуру, придавая ей цель и смысл. Кто-то удачно сравнил эту особенность его лица с явлением призрака одного из самых гордых его предков. Кто бы ни был сей предок, в настоящую минуту князь как раз вышел к народу, то бишь к миссис Ассингем. Казалось, он осматривает панораму сияющего дня, облокотившись на узорчатые алые шелка. Он казался моложе своих лет; он смотрел рассеянно и невинно. Голос его зазвенел:
– Ах, я-то ничуть не беспокоюсь!
– Еще бы вы беспокоились, сэр! – откликнулась она. – У вас нет ни малейшего повода для беспокойства.
Он искренне согласился, что отыскать подходящий повод было бы чрезвычайно трудно. Они так старались убедить друг друга в незамутненном спокойствии своей души, словно только что избежали опасности безвозвратно его утратить. Вот разве что, установив столь отрадный факт, неплохо было бы миссис Ассингем как-то объяснить свою довольно оригинальную манеру в начале беседы, и она заговорила об этом прежде, чем они сменили тему.
– Мое первое побуждение – относиться ко всему на свете таким образом, как будто я боюсь различных осложнений. Но я их не боюсь – на самом деле я люблю осложнения. Это моя стихия.
Князь не стал оспаривать такую трактовку. Сказал только:
– А если никаких осложнений нет?
Она возразила:
– Когда красивая, умная, необычная девушка приезжает погостить, это всегда осложнение.
Молодой человек взвесил ее слова, точно подобная постановка вопроса была для него совершенно нова.
– И долго она собирается гостить?
Его приятельница рассмеялась:
– Откуда я знаю? Вряд ли я могла ее об этом спросить.
– О, да. Вы не могли.
Но что-то в его тоне вызвало у нее новый приступ веселья.
– А вы, по-вашему, могли?
– Я? – Он задумался.
– Не могли бы вы вызнать у нее, для меня, – долго ли она намерена здесь пробыть?
Князь доблестно принял вызов.
– Пожалуй, если вы дадите мне такую возможность.
– Вот вам ваша возможность, – отозвалась миссис Ассингем, ибо в эту самую минуту услышала, как у дверей дома остановился кеб. – Она вернулась.
3
Это было сказано в шутку, но пока они в молчании ждали появления своей знакомой, молчание мало-помалу навеяло серьезность, и серьезность эта не рассеялась, даже когда князь снова заговорил. Все это время он был занят тем, что обдумывал сложившуюся ситуацию и принимал решение. Когда красивая, умная, необычная девушка приезжает погостить, это и вправду осложнение. Тут миссис Ассингем права. Но есть и другое: добрые отношения между обеими девушками еще со школьных дней и очевидная уверенность приехавшей в уместности своего появления.
– Знаете, она в любой момент может переехать к нам.
Миссис Ассингем отозвалась на его слова с иронией, не снисходящей до смеха:
– Вы хотели бы, чтобы она сопровождала вас в свадебном путешествии?
– О нет, на это время вы должны приютить ее у себя. А вот после – почему бы и нет?
Хозяйка дома с минуту молча смотрела на него; затем в коридоре послышался голос, и они встали.
– Почему нет? Вы неподражаемы!
В следующее мгновение перед ними появилась Шарлотта Стэнт. Дворецкий встретил ее при выходе из экипажа и, как видно, своим ответом на вопрос, заданный на лестнице, предупредил ее о том, что миссис Ассингем не одна. Она не смотрела бы на эту леди так прямо и жизнерадостно, если бы не знала заранее, что и князь тоже здесь, – это продолжалось всего лишь мгновение, но позволило князю рассмотреть ее лучше, чем обернись она сразу же к нему. Он прекрасно подмечал все эти детали и не преминул воспользоваться представившимся случаем. Таким образом, на несколько секунд его обозрению была явлена высокая, полная сил, очаровательная девушка, показавшаяся по первому впечатлению воплощением своей полной приключений жизни; все в ней – движения, жесты, живой и яркий, и в то же время чрезвычайно удачный, наряд, от аккуратной шляпки, которая была ей удивительно к лицу, до оттенка рыжевато-коричневых башмаков, – все говорило о таких вещах, как волны и ветер, и таможни, далекие страны и долгие путешествия, умение справляться с дорожными трудностями и рожденная опытом привычка к бесстрашию. В то же время он понимал, что в основе всего этого лежит отнюдь не тип «волевой» женщины, как можно было бы ожидать. Он за свою жизнь повидал довольно англоязычных дам и внимательно проанализировал достаточно подобных характеров, чтобы сразу же заметить разницу. Кроме того, у него уже была возможность составить представление о силе характера этой молодой леди. Имелись основания предполагать, что сила эта велика, но ни в коем случае не в ущерб игре ее неповторимого, неизменно занятного личного вкуса. Это качество в настоящую минуту сверкало, подобно лучу света, – возможно, она сознательно пустила его в ход, чтобы успокоить встревоженные глаза князя. Он видел ее в сиянии этого света: обращаясь исключительно к хозяйке дома, она словно поднимала над собой лампу, зажженную исключительно ради него. В этом свете ему было видно все, и прежде всего – что она существует в мире одновременно с ним самим и так непоправимо близко; факт, выступивший вдруг резко и четко, даже более четко, чем факт его предстоящей женитьбы, хотя и вкупе с другими моментами, мелкими, второстепенными, с теми особенностями лица и внешности, о которых говорила миссис Ассингем как о предмете для критики. Таковы они и были, увиденные им вновь и тем самым немедленно утверждающие свою связь с ним. Строгий критический разбор, во всяком случае, сближает. Безусловно, у него могло составиться лишь одно мнение на этот счет, ввиду всего уже известного.
Итак, если обратиться к неуклюжим количественным меркам, лицо у нее было слишком узкое и слишком длинное, глаза невелики, зато рот никак не назовешь маленьким: полные губы и крепкие, самую чуточку выступающие вперед зубы – впрочем, ровные и ослепительно-белые. Но странное дело, сейчас он воспринимал эти черты Шарлотты Стэнт как будто свое собственное имущество, словно набор предметов из длинного перечня, которые были надолго убраны «на хранение» в шкаф, упакованные и надписанные. Пока она разговаривала с миссис Ассингем, дверца шкафа сама собой приоткрылась; князь вынимал памятные сувениры один за другим, и с каждой минутой все сильнее казалось, что она специально дает ему на это время. Он снова увидел, что ее пышные волосы можно, шаблонно выражаясь, назвать каштановыми, но при «критическом разборе» в них становился заметен рыжеватый оттенок осенних листьев – совершенно неописуемый цвет, которого князь не встречал больше ни у кого, минутами придававший ей сходство с лесной охотницей. Он видел рукава ее жакета, закрывающие запястья, но опять-таки различал, что руки под слоем ткани круглы и грациозны той сверкающей стройностью, которую так любили флорентийские скульпторы великой эпохи, выражая ее зримую упругость в своем старом серебре и старой бронзе. Он знал ее узкие ладони, знал длинные пальцы, цвет и форму ногтей, знал особую красоту ее движений, плавную линию спины, идеальную слаженность всех составных частей, словно у какого-то удивительно изысканного музыкального инструмента, у предмета, созданного для выставок и премий. А лучше всего была ему знакома необыкновенно тонкая, гибкая талия, будто стебель роскошно распустившегося цветка; здесь можно также представить себе длинный шелковый кошелек, полный золотых монет, но схваченный посередине золотым кольцом, сквозь которое его продели, когда он был еще наполовину пустым. За несколько мгновений, пока она не повернулась к нему, князь будто успел взвесить этот кошелек в руке и даже услышал тихое позвякивание металла. А когда она наконец обернулась, в ее глазах отразилось понимание того, что с ним происходит. Она не придала большого значения этой неожиданной встрече, вот разве только ее понимающий взгляд мог придать значение практически чему угодно. Если со спины она напоминала охотницу, то, подойдя ближе, показалась ему – может быть, и не вполне правильно – скорее похожей на музу. Но сказала она просто:
– Вот видите, вы еще от меня не избавились. Как поживает душечка Мегги?
Случилось так, что очень скоро молодому человеку без всяких усилий с его стороны сама собой представилась возможность задать вопрос, подсказанный ему миссис Ассингем. В течение нескольких минут, пожелай он того, князь был волен поинтересоваться у молодой леди, долго ли она планирует с ними пробыть. Дело в том, что миссис Ассингем вдруг потребовалось уйти по каким-то мелким домашним делам, предоставив своих гостей самим себе.
– Миссис Беттерман там? – спросила она Шарлотту, имея в виду какую-то из служанок, которой было поручено встретить ее и принять у нее чемоданы. На это Шарлотта ответила, что видела только дворецкого и нашла его весьма любезным. Она уверяла, что о ее багаже можно не беспокоиться, но хозяйка дома мгновенно вскочила с подушек; видимо, упущение миссис Беттерман было более серьезно, чем могло показаться непосвященному. Короче говоря, дело требовало ее немедленного вмешательства, хоть гостья и воскликнула: «Давайте я пойду!» – и долго с улыбкой сокрушалась о том, что из-за нее возникли такие хлопоты. В эту минуту князю стало абсолютно ясно, что и ему пора уходить; заботы о размещении мисс Стэнт никоим образом его не касались, оставалось только удалиться… если не было особых причин задерживаться. Но причина у него имелась, это было не менее ясно. Князь не ушел, и надо сказать, уже довольно давно ему не приходилось действовать столь осознанно и целенаправленно. Даже больше: от него потребовалось определенное усилие воли, какое чаще всего сопутствует поступкам человека, борющегося за идею. Идея была налицо и состояла в том, чтобы выяснить нечто, чрезвычайно его интересовавшее, причем выяснить не завтра, не когда-нибудь в будущем, короче говоря, без долгих гаданий и ожиданий, а, по возможности, еще прежде, чем он покинет этот дом. К тому же собственное любопытство сочеталось в данном случае с поручением миссис Ассингем. Князь ни за что бы не признался, что задерживается с целью задать бестактный вопрос: нет никакой бестактности в том, что у него имеются собственные мотивы. Если уж на то пошло, скорее было бы бестактно покинуть старую знакомую, не перемолвившись с ней словечком.
Вот он и получил полную возможность перемолвиться с нею словечком, ибо уход миссис Ассингем многое упростил. Небольшой домашний кризис продолжался меньше, чем мы о нем рассказываем; затянись он надолго, князю, естественно, пришлось бы взяться за шляпу. Оказавшись наедине с Шарлоттой, он отчего-то был рад, что не совершил столь непродуманного поступка. Он придерживался правила ничего не делать впопыхах, видя в этом особого рода постоянство, точно так же, как постоянство принимал за своего рода достоинство. А разве он не вправе обладать чувством собственного достоинства, будучи с избытком одарен чистой совестью, которая есть основа этого приятного качества? Он не делал ничего предосудительного – собственно говоря, он вообще ничего не делал. Повидав в своей жизни, как уже упоминалось, множество женщин, он мог наблюдать, как сам бы выразился, постоянно повторяющийся феномен, столь же неизбежный, как восход солнца или наступление дня такого-то святого, и состоящий в том, что женщина непременно так или иначе себя выдаст. Она делает это неизменно, неотвратимо, она просто не может иначе. В этом ее природа, ее жизнь, а мужчине остается лишь дожидаться, не шевельнув и пальцем. В этом его преимущество, преимущество каждого мужчины: ему достаточно запастись терпением, и все наладится само собой, просто-таки, можно сказать, вопреки его воле. Ну и, соответственно, предсказуемость поступков женщины – это ее слабость, такое же несчастье, как красота. Отсюда и возникает та смесь жалости и жадности, из которой, собственно, и состоит отношение к ней любого мужчины, если он не совсем уже бессмысленное животное. Это и дает мужчине основание угождать женщине и в то же время быть к ней снисходительным. Она, конечно, старается как-то прикрыть свои действия, замаскировать и приукрасить, проявляя при этих ухищрениях огромную изобретательность, с коей сравниться может только лишь ее малодушие: она готова выдать свои поступки за что угодно, только не за то, что они представляют собой в действительности. Чем, по всей видимости, и занималась в настоящую минуту Шарлотта Стэнт; в этом, несомненно, заключалась подоплека каждого ее движения и взгляда. Она – женщина двадцатого века, она следует своему предначертанию, но ее предначертание отчасти и в том, чтобы обеспечивать соблюдение условностей, ему же остается только выяснить, как она намерена действовать. Он готов ей помочь, готов действовать с нею заодно – в разумных пределах; единственно, нужно понять, какие именно условности следует соблюсти и каким образом это лучше всего сделать. Сделать и соблюсти должна, разумеется, она; сам он, слава богу, никаких безумств не совершал и скрывать ему нечего, кроме идеальной гармонии между поступками и долгом.