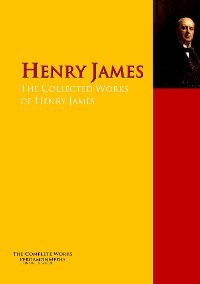Полная версия
Золотая чаша

Генри Джеймс
Золотая чаша
© Перевод, «Центрполиграф», 2023
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2023
Часть первая
Князь
1
Князю нравилось бывать в Лондоне с тех самых пор, как он узнал этот город; князь принадлежал к числу тех современных римлян, что находят на берегах Темзы истинный образчик древнего государства, более убедительный, нежели оставленный ими на берегах Тибра. Воспитанный в мифологии великого Города, которому целый мир приносит дань, князь находил, что такая роль по своим масштабам подходит современному Лондону значительно лучше, нежели Риму наших дней. Если уж речь идет об Империи, говорил он себе, и если, будучи римлянином, человек стремится заново обрести, хотя бы отчасти, соответствующее мироощущение, предаваться этому занятию лучше всего на Лондонском мосту или даже в Гайд-парке в погожий майский денек.
Впрочем, в настоящую минуту, когда мы уделили ему свое внимание, князь направлялся не к одному из этих мест, предрасположенность к которым выражалась у него, в конце концов, не так уж однозначно. Он просто-напросто забрел на Бонд-стрит; воображение, стесненное сравнительно узкими рамками, вынуждало его время от времени останавливаться перед какой-нибудь витриной, где массивные, тяжеловесные изделия из золота и серебра, украшенные или же обезображенные драгоценными камнями, кожей, сталью и бронзой, были навалены грудами, словно трофеи победоносных сражений дерзостной Империи в неких отдаленных землях. Впрочем, движения молодого человека не выказывали сколько-нибудь сосредоточенного внимания даже в тех случаях, когда остановка была вызвана внезапно мелькнувшим многообещающим отражением хорошенького личика, скрывающегося в тени громадной шляпки с лентами или под прозрачной сенью шелкового зонтика, наклоненного под немыслимым углом, в стоящем у обочины экипаже с откидным верхом. А между тем подобная рассеянность князя была весьма симптоматична, ибо, хотя лето подходило к концу и яркие краски улиц уже начинали тускнеть, все же в этот августовский день возможности, таящиеся в мелькающих личиках, оставались одним из ощутимых акцентов в пейзаже. Но дело в том, что князь был настроен чересчур беспокойно, чтобы сосредоточиться на какой-то одной идее, и уж менее всего была близка ему в эту минуту идея погони в какой бы то ни было форме.
Вот уже шесть месяцев не отдыхал он от погони, преследуя свою цель, как никогда прежде не случалось ему преследовать что-либо в своей жизни, и сейчас мы застаем его в минуту некоторой растерянности от осознания того, что погоня завершена. Преследование закончилось поимкой добычи – или, как предпочел бы выразиться князь, его усилия увенчались заслуженным успехом. Впрочем, пока эти мысли приводили его скорее в серьезное, нежели в ликующее расположение духа. Чувство отрезвленности, более приличествующее потерпевшему поражение, преобладало в его красивом лице с правильными, строгими чертами, и в то же время, как ни странно, лицо это представлялось – так сказать, в функциональном плане – почти сияющим, с этими темно-голубыми глазами, темными усами и выражением отнюдь не чрезмерно «иностранным» для английского взгляда; лишь изредка случалось кому-нибудь заметить, не слишком, впрочем, к месту, что он похож на «рафинированного» ирландца. Произошло же следующее: только что, в три часа пополудни, судьба его практически была решена, и пусть на данный момент это ни у кого не вызывало возражений, все же было в случившемся нечто, напоминающее зловещий скрежет ключа, поворачивающегося в самом прочном на свете замке. Более того, в настоящее время ничего не оставалось делать, кроме как прочувствовать достигнутый результат, чем и занимался наш герой, бесцельно бродивший по городу. Как будто бракосочетание уже свершилось – с такой определенностью, благодаря усилиям поверенных, была в три часа пополудни назначена дата, и так мало оставалось дней до этой даты. В половине восьмого князю предстоял обед с юной леди, от имени которой – а также от имени ее отца – лондонские юристы пришли к столь отрадному согласию с его собственным поверенным в делах, беднягой Кальдерони, только что прибывшим из Рима и в эту минуту, видимо, переживавшим тот волшебный процесс, который называют «знакомиться с Лондоном», прежде чем вновь его покинуть со всей возможной поспешностью, причем «знакомство» осуществлялось под личным руководством самого мистера Вервера – мистера Вервера, чье беспечное отношение к собственным миллионам выразилось на этот раз в крайней нетребовательности при обсуждении условий брачного контракта. Более всего поразило князя именно проявление этой нетребовательности, вследствие коего Кальдерони в настоящую минуту любовался на львов вместо того, чтобы сопровождать его самого. Если и было сейчас у молодого человека какое-то определенное намерение, то состояло оно в том, чтобы стать более достойным зятем, нежели большинство его знакомых, выступавших в той же роли. Об этих знакомых, от которых предстояло ему так разительно отличаться, князь думал по-английски; мысленно он обозначал свое отличие от них английскими словами. Будучи знаком с этим языком с самого раннего детства, так что ни губам его, ни уху эти звуки нисколько не казались чуждыми, князь находил его весьма удобным для описания большинства жизненных отношений. Удобным – вот странность! – даже в случае отношений с самим собой, хотя и при сознании того, что со временем могут появиться в его жизни иные отношения, и в том числе более интимный вариант упомянутого выше, которые потребуют (и, может быть, крайне настоятельно) более широкого или более точного – какого же именно? – использования языковых средств. Мисс Вервер как-то заметила ему, что он слишком хорошо говорит по-английски, – это был единственный его недостаток, и даже ради нее он не смог заставить себя говорить хуже. «Видишь ли, когда я говорю хуже, я говорю по-французски», – пояснил он, давая понять, что существуют особые случаи, несомненно, довольно низменного свойства, в которых этот язык наиболее уместен. Девушка усмотрела в его словах (немедленно высказав свое впечатление вслух) намек на ее собственные познания во французском языке, который она всегда мечтала освоить как следует, освоить еще лучше; не говоря уже о том, что молодой человек, очевидно, считал, будто его реплика выше ее понимания. На подобные замечания князь отвечал, – очень мягко и обаятельно, иных ответов еще не слышали от него участники столь недавно заключенного соглашения, – что он упражняется в американском языке, дабы беседовать с мистером Вервером, если можно так выразиться, на равных. Его будущий тесть, говорил князь, столь блестяще владеет этим наречием, что сам он при любой дискуссии оказывается в невыгодном положении; кроме того… а кроме того, он произнес в разговоре со своей невестой слова, которые она нашла решительно самыми трогательными из всего, сказанного им до сих пор.
– Знаешь ли, я считаю его истинным galantuomo[1], «будьте уверены»! Вокруг полным-полно поддельных. Просто, по-моему, он лучший человек из всех, кого я видел в жизни.
– Что ж, милый, почему бы ему не быть таким? – весело ответила девушка.
Это-то и заставило князя призадуматься. Обстоятельства или, по крайней мере, большинство обстоятельств, сделавших мистера Вервера таким, каким он был, невольно заставляли пожалеть о том, сколько блестящих возможностей было растрачено практически впустую другими людьми из числа знакомых молодого человека, не сумевших достичь подобного результата.
– Ну, как сказать, – отозвался он, – ведь его «воспитание» могло бы, пожалуй, вызвать определенные сомнения.
– Папино воспитание? – Она никогда не задумывалась об этом. – По-моему, он не получил ровно никакого воспитания.
– Не получил такого, как мое… И даже такого, как твое.
– «Даже» – вот спасибо! – рассмеялась девушка.
– О, душа моя, ты бесподобно воспитана. Но твой отец тоже по-своему человек воспитанный, это-то я понял. Так что не сомневайся. Вопрос в том, чего он добился благодаря этому.
– Он добился всего благодаря тому, что он такой хороший, – возразила на это наша юная дама.
– Ах, дорогая, думается мне, никто и никогда еще ничего не добился благодаря тому, что был хорошим. Быть по-настоящему хорошим – это такое качество, которое скорее мешает человеку добиться чего бы то ни было. – Князя забавляло, что собственные рассуждения настолько увлекли его. – Нет, все дело в его особом стиле. Это – его неотъемлемая черта.
Но девушка оставалась задумчивой.
– Это просто американский стиль, вот и все.
– Именно – вот и все! А я больше ничего и не говорю. Этот стиль ему подходит, а значит, на что-то он все-таки годится.
– Как ты думаешь, подойдет ли он тебе? – с улыбкой спросила Мегги Вервер.
На это у князя нашелся чрезвычайно удачный ответ:
– Если ты в самом деле хочешь это знать, так я думаю, душа моя, что мне уже ничто не может ни помочь, ни повредить – такому, какой я есть… Но ты сама увидишь. Скажем, по крайней мере, что я – galantuomo, на что смиренно уповаю; в лучшем случае я похож на цыпленка, которого ощипали, распотрошили, мелко нарезали и приготовили с соусом «де воляй»; твой же отец – природная птица, разгуливающая по двору. Перья, движения, кукареканье: все это – те составные части, которых я лишен.
– Ах, еще бы – ведь цыпленка невозможно съесть живьем!
Князь нисколько не рассердился, но отвечал с большой решительностью:
– Ну, я-то как раз пытаюсь съесть твоего отца живьем, это единственный способ как следует его распробовать. И я намерен продолжать в том же духе, и поскольку особенно живым он бывает, когда говорит по-американски, то и я должен изучить этот диалект для полноты картины. Ни на каком другом языке он не мог бы нравиться так сильно.
Девушка продолжала отнекиваться, но это была лишь радостная игра.
– По-моему, он мог бы нравиться хоть на китайском.
– Это совершенно лишнее. Я хотел сказать, что он в каком-то смысле – продукт своей интонации, неотделимой от него самого. Следовательно, моя симпатия отдана интонации – без которой он не мог бы существовать.
– О, этого ты еще наслушаешься, – рассмеялась она, – прежде, чем с нами покончишь.
Эти слова, по правде говоря, заставили его слегка нахмуриться.
– Объясни, будь так добра, что ты имеешь в виду, говоря, что я с вами «покончу»?
– Ну, узнаешь о нас все, что только можно узнать.
Князь сумел воспринять это как легкую шутку.
– Ах, любовь моя, с этого я начал! Мне кажется, я узнал достаточно, чтобы ничему уже не удивляться. А вот вы, между прочим, – продолжал он, – ничего на самом деле и не знаете. Я сделан из двух частей. – Что-то словно толкало князя продолжать. – Одна складывается из истории, из поступков, браков, преступлений, капризов и бесконечных глупостей, сотворенных другими, позорно растратившими, среди прочего, все те деньги, которые могли бы достаться мне. Все это записано: в буквальном смысле записано в толстые книги, хранящиеся по библиотекам, и все это столь же общедоступно, сколь и отвратительно. Любой может ознакомиться с этими сведениями, и вы оба удивительным образом бестрепетно смотрели им в лицо. Но есть и другая часть, очень маленькая, конечно, по сравнению с первой, но такая, какая есть, она представляет собою то, что отличает лично меня, что никому не известно и никому не интересно – никому, кроме вас. Вот об этом вы пока ничего не знаете.
– К счастью, милый, – отважно заявила девушка, – чем бы иначе могла я занять себя в будущем?
Молодой человек до сих пор вспоминал удивительную ясность – он не мог подобрать другого слова – всего ее прелестного облика, когда она это сказала. Вспоминал он и то, как ответил с волнением:
– Говорят, самые счастливые царствования – те, у которых нет истории.
– О, я не боюсь истории! – Она всегда была в этом уверена. – Считай, что это худшая твоя часть, если хочешь, но, во всяком случае, очень заметная. Из-за чего же еще я и стала-то думать о тебе? – прибавила Мегги Вервер. – Уж наверное, ты заметил, что дело было вовсе не в том, что ты называешь своей неизвестной величиной, присущей только тебе. Нет, тут главное было – поколения твоих предков, безумства и преступления, грабежи и зверства, и злобный папа римский – главное чудовище, которому посвящено столько томов из вашей семейной библиотеки. Хоть я пока прочла всего два или три, но с тем большим увлечением займусь остальными, как только у меня будет на это время. А следовательно, – повторила она свой вопрос, – где бы ты был без этих своих архивов, анналов и позорного прошлого?
Князь вспоминал, как ответил очень серьезно:
– Возможно, я был бы в значительно лучшем финансовом положении.
Впрочем, его реальное положение в этом плане настолько мало их заботило, что князь, к тому времени до глубины души прочувствовавший свою удачу, не запомнил ответа девушки. Ответ этот всего лишь окрасил нежным оттенком сладостные воды, в которые князь был погружен, словно туда подлили некую ароматическую эссенцию из хрустального флакона с золотою пробкой. Еще никому из его предшественников, даже печально знаменитому папе римскому, не довелось сидеть по самую шейку в подобной ванне. А это показывает, кстати говоря, что потомку столь древнего рода все-таки не дано уйти от истории. Разве не история, и притом именно их родовая история, стала той основой, благодаря которой ему теперь представлялась возможность распоряжаться такими деньгами, какие и не снились его прародителю – строителю дворца? На этой волне возносился он в упоительную высь, Мегги же при случае прибавляла в приятно плещущие струи одну-другую утонченно расцвеченную каплю. То был цвет… чего именно? Чего же еще, если не удивительной, чисто американской доверчивости? То был цвет ее невинности и в то же время – ее пылкого воображения, окрашивающий все его отношения с этими людьми. И вот сейчас мы показываем читателю, как молодой человек перебирает свои воспоминания об этом разговоре, и припоминается ему то, что он сказал затем, ибо это был голос его удачи, умиротворяющий и неизменный.
– Вы, американцы, романтичны до невероятности.
– Ну, конечно. Поэтому у нас все так хорошо.
– Все? – переспросил он с сомнением.
– Все, что вообще есть хорошего. Весь мир, такой прекрасный, – или все то, что прекрасно в этом мире. Я хочу сказать, мы столько всего видим.
Он взглянул на нее, думая о том, что сама она – одна из прекрасных, одна из прекраснейших вещей этого прекрасного мира. Но ответил он так:
– Вы слишком много видите, и это приводит иногда к большим осложнениям. По крайней мере, если не считать тех случаев, – поправился он, подумав, – когда вы видите слишком мало.
Но он не скрывал, что понимает ее мысль и что предостережение его было, пожалуй, излишним. В своей жизни князь достаточно повидал романтического вздора, но в этих людях как-то не было заметно ничего вздорного, ничего нельзя было поставить им в вину, кроме лишь невинных удовольствий – удовольствий, за которыми не следует наказания. Им доставляло радость воздавать должное окружающему без каких-либо потерь для себя самих. Забавно только, заметил князь со всем подобающим почтением, что ее отец, хоть он и старше, и мудрее, и мужчина вдобавок, в этом отношении ничуть не лучше – то есть не хуже – ее самой.
– Ах, он гораздо лучше, – воскликнула она, – в смысле гораздо хуже. Он неисправимый романтик по отношению к тому, что он ценит в жизни – и, по-моему, это прекрасно. Вот и его приезд сюда – я не знаю, что может быть романтичнее.
– Ты имеешь в виду то, что он задумал для своего родного города?
– Да, коллекция, музей, который он хочет подарить городу, – ты же знаешь, он только этим и занят. Это труд всей его жизни. Все его поступки подчинены одной цели.
Молодой человек в своем теперешнем расположении духа готов был вновь улыбнуться, как улыбнулся ей тогда.
– Той же цели подчинено и его согласие на наш брак?
– Да, милый, безусловно, – по крайней мере, в каком-то смысле, – ответила она. – Между прочим, Америкэн-Сити – не его родной город. Город моложе его, хоть он и не стар. Но он там начинал, у него осталось чувство к этому городу, и город вырос, как говорит папа, наподобие своего рода благотворительной программы. А ты – часть его коллекции, – объяснила она, – один из тех предметов, которые можно приобрести только здесь, за океаном. Ты – редкость, диковинка, нечто очень красивое, очень ценное. Может быть, не совсем уникальное, но настолько выдающееся, что найдется очень немного равных тебе. Ты принадлежишь к досконально изученному разряду явлений. Ты, что называется, музейный экспонат.
– Понимаю. И, похоже, – отважился он, – я стою кучу денег.
– Понятия не имею, сколько ты стоишь, – серьезно ответила она, и он пришел в восторг от того, как она это сказала. На мгновение он даже сам себе показался вульгарным. Но постарался справиться с этим, как умел.
– А разве это не выяснилось бы, если бы пришлось расстаться со мной? В этом случае пришлось бы оценить мою стоимость.
Она окинула его взглядом своих чудесных глаз, словно его стоимость была для нее очевидна.
– Да, если ты имеешь в виду, чем я согласилась бы заплатить, лишь бы не потерять тебя.
И снова он вспоминал свой ответ.
– Не говори обо мне – это ведь ты не из нашего века. Ты – существо из более утонченной и бесстрашной эпохи, ты не посрамила бы и Чинквеченто[2]в час его наивысшего золотого расцвета. А я его недостоин, и, если бы не знал кое-какие из экспонатов твоего отца, мог бы, пожалуй, опасаться, что знатоки раскритикуют Америкэн-Сити в пух и прах. Уж не планируешь ли ты, – спросил он затем с комически-жалобной гримасой, – отправить меня туда на хранение, для пущей надежности?
– Что ж, возможно, до этого еще дойдет.
– Я готов ехать, куда ты пожелаешь.
– Сперва посмотрим – это случится только при крайней необходимости. Некоторые вещи, – продолжала она, – разумеется, особо крупные и неповоротливые, папа оставляет, и очень многие уже оставил, на хранение здесь и в Париже, в Италии, в Испании, в хранилищах, сейфах, банках, в самых замечательных тайниках. Мы с ним словно парочка пиратов – таких, знаешь, театральных пиратов, которые подмигивают друг другу и говорят «Ха-ха!», приближаясь к тому месту, где зарыты их сокровища. Наши сокровища зарыты практически повсюду, кроме тех вещей, которые нам нравится постоянно видеть, держать их при себе во время своих поездок. Это предметы поменьше, мы их расставляем в гостиницах и в снятых на время домах, чтобы те стали, по возможности, не такими уродливыми. Конечно, это опасно, приходится следить за их сохранностью. Но папа очень любит красивые вещи – любит, как он говорит, ради них самих, и готов рискнуть, лишь бы его окружали подобные предметы. До сих пор нам необычайно везло, – не преминула заметить Мегги, – у нас еще ни разу ничего не украли. А ведь самые лучшие вещи часто бывают очень маленькими. Ты, наверное, знаешь, что ценность вещи чаще всего никак не связана с ее размером. Но у нас ничего не пропало, – закончила она свою речь, – даже самого крошечного предмета.
Князь рассмеялся:
– Мне нравится, в какую категорию ты меня поместила! Я буду одним из мелких предметов, которые вы с отцом распаковываете, чтобы украсить гостиничный номер или комнату в снятом на время доме, вот вроде этой чудесной комнаты, – чтобы поставить на полку рядом с семейными фотографиями и свежими журналами. Во всяком случае, я не настолько велик, чтобы меня закопать.
– О, – отозвалась она, – мы тебя не закопаем, милый, пока ты жив. Разве что для тебя отправиться в Америкэн-Сити – все равно что похоронить себя заживо.
– Прежде, чем высказываться по этому поводу, хотелось бы увидеть свою могилу.
Таким образом, ему все-таки удалось оставить за собой последнее слово; словесное состязание на том и закончилось, если не считать одного замечания, которое просилось к нему на язык еще в начале разговора, но тогда он удержал эту реплику, которая теперь вернулась вновь.
– Я надеюсь, ты веришь одному, что касается меня, – не знаю, хорошее оно, плохое или никакое.
Даже ему самому эти слова показались чересчур торжественными, но Мегги ответила весело:
– Ах, не ограничивай меня, пожалуйста, только «одним»! Я во столько всего верю, что связано с тобой, – даже если большая часть меня разочарует, кое-что еще останется. Я уж об этом позаботилась. Я разделила свою веру на водонепроницаемые отсеки. Как-нибудь не потонем!
– Ты веришь, что я не лицемер? Ты понимаешь, что я никогда не лгу, не обманываю, не притворяюсь? Этот отсек, по крайней мере, достаточно водонепроницаемый?
Князь вспоминал, что этот вопрос, заданный с довольно сильным чувством, заставил ее на мгновение задержать на нем свой взгляд и вспыхнуть, как будто его слова прозвучали еще более странно, чем было задумано. Он сразу заметил, что всякий серьезный разговор о верности и правдивости, а точнее – об их отсутствии, заставал Мегги врасплох, как будто для нее подобные мысли были совершенно новыми и непривычными. Он и раньше обращал на это внимание: то было чисто английское, чисто американское убеждение, что о сложных вещах, таких, как «любовь», можно говорить только в шутку. В подобные темы не следует «углубляться». Поэтому серьезный тон его вопроса прозвучал преждевременным, чтобы не сказать больше. Впрочем, подобный промах стоило совершить, хотя бы ради той чуть ли не преувеличенной шутливости, за которой она инстинктивно укрылась.
– Водонепроницаемый – самый большущий из отсеков? Да ведь там находится и каюта люкс, и главная палуба, и машинное отделение, и кладовка стюарда! Это, по сути, весь корабль и есть. Там и капитанский мостик, и весь багаж – хоть сейчас в плавание. – Она часто пользовалась такими сравнениями на пароходные и железнодорожные темы – это шло от близкого знакомства с самыми разными средствами сообщения, от опыта постоянных путешествий, в чем он пока не мог с ней тягаться; ему еще только предстояло освоиться с достижениями современной техники, и отчасти примечательность его положения состояла в том, что он способен был, не дрогнув, предвкушать обилие всевозможной механики в своем ближайшем будущем.
В сущности, хотя он был вполне доволен своей помолвкой, а невесту находил очаровательной, но главная «романтика» заключалась для него именно в этой своеобразной особенности, что придавало определенную контрастность состоянию его души, и князь был достаточно умен, чтобы сознавать это. Он был достаточно умен, чтобы ощущать глубокое смирение, чтобы стремиться избегать малейшей жесткости или прожорливости, не настаивать на тех или иных выгодах, короче – всячески остерегаться высокомерия и жадности. Довольно странно, по правде говоря, что он ощущал эту последнюю опасность – и это, помимо всего прочего, может служить хорошей иллюстрацией его воззрений на опасности, идущие изнутри. По мнению князя, сам он был лишен вышеупомянутых пороков, что весьма его радовало. Однако весь его род был ими наделен в полной мере, а князь постоянно ощущал неразрывную связь со своими предками, обретающимися в его сознании, подобно неотвязному аромату, пропитавшему его одежду, руки, волосы, все его существо, будто после погружения в некую химическую субстанцию – никаких конкретных проявлений ее воздействия не было заметно, и тем не менее князь все время ощущал свою беззащитность перед этим воздействием. Он прекрасно знал историю своего рода задолго до собственного рождения, знал во всех подробностях, и оттого источник воздействия не вызывал у него ни малейших сомнений. Князь спрашивал себя: если он осуждает все уродство своей семейной истории, что есть его осуждение, как не одна из сторон того смирения, которое он так тщательно в себе воспитывал? И что такое этот важнейший жизненный шаг, на который он только что решился, как не стремление положить начало новой истории, чтобы она, насколько это возможно, противоречила старой и даже попросту обесценила ее? Если доставшееся ему наследство никуда не годится, значит, нужно создать нечто совершенно иное. Он со всем смирением отдавал себе отчет в том, что материалом для такого созидания должны стать миллионы мистера Вервера. Больше ему не на что было рассчитывать; он уже пытался, но вынужден был посмотреть правде в лицо. При всем том он был не настолько уж смиренен, как если бы знал за собой какое-то особенное легкомыслие или глупость. У него была мысль, которая, возможно, позабавит историка, изучающего жизнь этого молодого человека: если уж ты настолько глуп, чтобы ошибиться в подобном вопросе, то неизбежно сознаешь это. Итак, он не ошибается: его будущее, возможно, будет связано с наукой. Во всяком случае, ничто в нем самом не исключает такого исхода. Он готов вступить в союз с наукой – ибо что есть наука, как не отсутствие суеверий при условии наличия денег? Жизнь его будет полна разнообразной механики, которая служит противоядием от суеверий, которые, в свою очередь, происходят от архивов, по крайней мере в качестве побочного продукта. Князь размышлял об этих вещах – о том, что он, во всяком случае, не совсем никчемная личность и принимает достижения века грядущего, – пытаясь этими раздумьями возместить перекос в восприятии себя самого своей будущей женой и ее отцом. Минутами он содрогался, ловя себя на мысли о том, что ему простили бы и полную никчемность. Для этих нелепых людей он был бы достаточно хорош даже и в таком виде. Настолько нетребователен верверовский романтизм! Они, бедняжки, и не ведают, что такое значит – быть по-настоящему никчемным. Он-то знал – он все это видел, испытал, измерил и ощутил на себе. В сущности, от этих воспоминаний следовало попросту отгородиться – вот точно так же, как только что на его глазах железная штора отгородила витрину рано закрывшейся лавки от затухающего летнего дня, с грохотом опустившись при повороте какого-нибудь там рычага. И снова его окружает механика, со всех сторон стеклянные витрины, деньги, власть, власть богатых людей. Что ж, он и сам теперь один из них, из богатых; он на их стороне или, в более приятной формулировке, они теперь на его стороне.