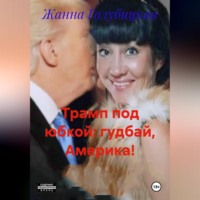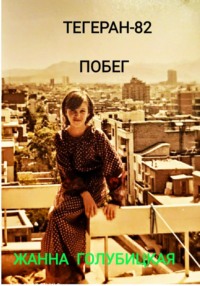Полная версия
Тегеран-82. Мир
– Папа, папа! – завопила я на всю площадь, чтобы не бежать назад. – Куда здесь бросать, не пойму?
Из-за шума на площади папа меня не слышал. Как назло, в этот момент он сосредоточенно копался в бардачке. И даже окно прикрыл, хотя было очень жарко. Наверное, боялся, что шустрые мальчишки могут стащить из «жопо» магнитолу даже при нем.
Тут я сама увидела отверстие для писем по-тегерански. Оно, как и сам почтовый ящик, было намного больше привычного, и располагалось сверху, а не спереди, как у нас.
Мимо шел какой-то сгорбленный старик, похожей на нищего, их в старой части города бродили целые толпы. Поравнявшись со мной, он вдруг поднял голову, из-под лохмотьев на меня сверкнул острый взгляд человека не старого и не изможденного нищетой и болезнями, и он произнес на чистейшем английском:
– Я тебя уже видел у Хорассанских ворот.
– Когда? – спросила я, чтобы хоть что-то спросить.
Но «нищий» уже ушел. Я немного растерялась: уж больно эта картинка была похожа на сцену из фантастического ужастика, который мы недавно посмотрели в нашем самодельном бимарестанском кинозале.
Когда мог видеть меня этот старик? Полчаса назад в машине, когда папа показывал мне Хорассанские ворота? Или в одной из прошлых жизней?
Смущенная, я прибежала назад. Папа продолжал копаться в бардачке. Я дернула дверцу с пассажирской стороны, она оказалась закрыта. Возмущенная, я постучалась в стекло. Папа поднял голову и открыл мне дверь.
– Ты чего от меня заперся? – обиделась я. – Тут ко мне старик какой-то приставал, говорил, что уже видел меня у Хорассанских ворот. Как такое могло быть?
– Да сумасшедший какой-нибудь, забудь, – папа не проявил любопытства к моему загадочному старику. – А заперся я не от тебя, я тут инструкцию к «жопо» изучал, увлекся, а кнопку опустил, чтобы хулиганы тем временем через пассажирскую дверь не вытащили твою сумку.
– Ой, спасибо, папуль! – обрадовалась я. Свою новую модную сумку с британским флагом, недавно подаренную мне ходжи Рухи, я действительно небрежно бросила на пассажирском сиденье.
Папа тронулся с места, а я принялась живописать, как применила дедуктивный метод, чтобы обнаружить в чужеземном ящике щель для писем. Папа посмеялся и похвалил меня.
Мы проехали совсем немного и остановились в тени чинаров неподалеку от какого-то старого мрачноватого здания.
– Это публичные бани Геблех, – пояснил папа. – На Востоке бани не только для мытья, но и важное место для мужских встреч.
– И что они там делают голые? – захихикала я.
– Они не голые, а в полотенцах. Проводят деловые встречи и тайные переговоры. При Насреддин-шахе, например, там казнили визирей, уличенных в измене правителю.
Я вспомнила, как мы помиловали в сценке про шахскую жизнь «визиря-изменника» Макса. Все-таки мой Грядкин благородный, раз настоял на этом. И, конечно, Артурчик все про него придумал! А вот настоящий шах казнил бы нашего бедного Макса в этой жутковатой бане, где все в полотенцах.
– А мама говорит, что опозорилась в публичной бане со своим полотенцем!
Эта история еще была свежа в моей памяти. Накануне 8-го марта торгпредские женщины пригласили мою маму в сауну, которая была на их территории. Мама собралась, как в московскую баню, в которую иногда ходила с подружками – взяла махровое полотенце, мыло, мочалку и резиновые тапочки. А баня в советском Торгпредстве оказалась скорее банкетом: женщины в красивых шелковых кимоно сидели за празднично накрытым столом в банном зале приемов, угощались, выпивали и лишь изредка заглядывали в сауну. На групповых фото того торжественного банного приема в честь Женского дня одна моя мама обернута в полотенце и не накрашена. А рядом улыбаются нарядные торгпредские дамы.
Потом мама долго ругала папу за то, что он ее не предупредил, и «выставил дурой». Папа уверял, что понятия не имел, как парятся торгпредские жены, и сам бы пошел в одном полотенце, если бы его позвали. Но мама не успокоилась, пока не купила себе шелковое кимоно – на случай, если ее вновь позовут на банную вечеринку.
– Ну, у вас, женщин, все по-другому, – ответил папа. – Мужчинам и в полотенцах нормально. Я сейчас отойду на пару минут, посидишь? Я в тенек машину поставил и хулиганов тут нет. Но все равно запрись изнутри на все кнопки и стекла подними. А то мало ли…
Папа ушел, а я рассматривала сквозь кроны вековых чинаров изъеденный столетиями каменный бок старинной башни и фантазировала. Вот если бы мой папа был персидским шахом, я бы точно уговорила его выдать меня замуж за Грядкина! Я слышала, что в Иране не выдают девушек замуж очень рано, как в других исламских странах, но сосватать могут заранее. Даже в 9 лет. И тогда жених будет верно ждать совершеннолетия своей невесты, чтобы сыграть свадьбу. А до этого будет приходить к ней в гости с подарками. Меня бы это очень устроило…
Вскоре мне стало душно. «Жопо» раскалился, несмотря на тенек от чинаров. Я приоткрыла щелку в окне. Я бы включила холодный обдув, но папа забрал ключи от зажигания. От жары расхотелось фантазировать про Грядкина. Мне стало казаться, что папы нет очень давно. Что он вообще забыл обо мне. Или с ним что-то случилось в этих его дурацких банях. Разболелась голова, потом вдруг стало страшно одной сидеть в машине посреди города, языка которого я не знаю. А что я буду делать, если папа не вернется до вечера?! Куда пойду, кого позову? Нет, я не могу выйти из машины, я должна ее сторожить!
А если хулиганы уже наблюдают за мной из-за чинаров, видят, что я одна в машине, и сейчас явятся, чтобы украсть магнитофон?! С этой мыслью я схватила с заднего сиденья ««Эттелаат» (местную газету), испещренную мелкой вязью, пересела на водительское место и закрылась газетой. Пусть воры думают, что я мужчина и местный, раз читаю на фарси. Может, я просто маленького роста, как наш господин Аршали!
Эту картину и застал вернувшийся папа:
– А я иду и думаю, что за иранского дядьку с газетой ты пустила за руль?!
– Тебя не было очень долго! Я думала, ты обо мне забыл! – возмущалась я.
Папа посмотрел на часы:
– Тебе из-за жары показалось, что долго. А я, на самом деле, один батман здесь, другой там. Пойдем кушать?
Я сразу растаяла. Уж очень я любила ходить в местные ресторанчики. Это мы делали только вдвоем с папой, втайне от мамы. Мама со своим навязчивым страхом антисанитарии этого не одобрила бы.
Мы зашли в софре-ханэ в подвальчике старинного жилого дома, в южной части города они были крохотными, семейными, зато очень уютными (см. сноску-5 внизу).
Стол в софре-ханэ – почти как дастархан (традиционный «постамент» для трапезы, где едоки сидят на уровне скатерти) в Туркмении, только скатерть кладут не прямо на топчан между сидящими на подушках гостями, а на низкий столик, установленный на топчане. Так кушать гораздо удобнее, чем когда тарелка и вовсе у твоих ног. А сидеть по-турецки мне всегда было удобнее, чем на стуле.
Хозяин поприветствовал нас и усадил на топчан.
Мы заказали челоу-кебаб из «гушт-е морг» – куриного мяса. «Челоу» на фарси рис, а кебаб – это как наш шашлык, только в Тегеране он казался мне совсем иным.
Хозяйские детишки резво притащили вазочки с фруктами и пиалушки с орешками. К фруктам – маленькие ножички и отдельные блюдца. Фрукты, даже те, которые порой «выбрасывали» на нашей родине, здесь были словно в квадрате. Апельсины, грейпфруты, бананы, абрикосы, персики – в разы ярче, румянее и слаще. Пока мы ими закусывали, ветерок доносил аппетитные запахи мангала.
Вскоре хозяин водрузил в центр нашего стола гигантское чеканное блюдо с желтой горой рассыпчатого шафранового риса, сверху щедро усеянной золотистыми кругляшками мяса.
Золотистым оно становилось от того, что его мариновали в масте (иранский густой кисломолочный напиток консистенции простокваши) с шафраном, а круглым – потому что разделывалось на мелкие кусочки для жарки на вертеле. Но в детстве я была уверена, что в Иране просто другие курицы. В отличие от отечественных, у иранских «морг» (курица) нет бледных зеленоватых ножек и костлявых прозрачных крылышек, они крепко сбиты из ярко-желтых упругих кругляшков и почти бескостны.
Жена хозяина принесла серебряный поднос с «сабзи» (зелень) и поставила перед каждым из нас по пиале «маста» и по блюдечку с «карэ» – индивидуальной упаковкой голландского сливочного масла.
В далеком 80-м нам, советским подданным, эти блестящие прямоугольные пачки с лоснящейся коровой на этикетке казались диковиной. На нашей родине сливочное масло продавалось вразвес: его криво рубала на прилавке недовольная продавщица и с хрустом (и, как мне казалось, с ненавистью), заворачивала неровные куски в глухо шелестящую белую бумагу. Порционные упаковки масла у нас появились гораздо позже, и то только в поездах и самолетах. Но те, что выдавались в Тегеране к каждому челоу, были намного больше. А на мой взгляд, еще и намного вкуснее.
Иранский челоу без маста и карэ немыслим, но их количество угощающая сторона всегда оставляет на усмотрение гостя. Поэтому и выдаются они каждому по отдельности.
В Иране я настолько привыкла к этим личным пачкам сливочного масла, что впоследствии меня еще долго удивляло масло в общей масленке. Как, впрочем, и отношение соотечественников к приему пищи в целом. Застольная деликатность иранцев настолько совпала с моими смутными чаяниями, что тоже стала существенной частью моей детской свободы.
Тегеранский общепит, равно как и походы в гости к местным, к которым мы тоже иногда заглядывали, нравились мне главным из-за здешней традиции самому накладывать себе из общего блюда, сколько считаешь нужным. В этом мне и виделась свобода выбора. Дома размер моей порции определяла мама и возмущалась, если я не доедала. Предполагала, что я заболела, раз плохо кушаю. И никак не хотела понять, что кушаю я хорошо, просто для сытости мне требуется меньше, чем кажется ей. И надо всего лишь не решать за меня, насколько я голодна.
У иранцев же пичкать и дергать – верх неуважения к вкушающему трапезу. Иранский столовый этикет исключает диктат, даже под знаком гостеприимства. Наблюдать, кто сколько положил себе из общего блюда и кто сколько съел, считается неприличным. И уж тем более это комментировать, даже из самых лучших побуждений. Это я подозревала еще задолго до приезда в Тегеран, а тут обрела понимание. За иранским столом даже детям оказывалось доверие и уважение к их вкусу и выбору. Они сами клали в свои тарелки то, что хотели, и сколько хотели.
А вот русские хозяйки не доверяли даже взрослым: сами наваливали в их тарелки свои коронные блюда, и если гости эту тарелку не вылизывали, напоказ огорчались. И при всех приставали с неудобными вопросами: невкусно, да? Ты не болеешь, а то аппетит плохой? Признайся, ты на диете? А, может, у тебя аллергия?
Выразить я тогда не умела, но кожей ощущала бестактность подобных ситуаций. Это каким же невоспитанным надо быть, чтобы вслух заявить, что невкусно?! К тому же, может, это мне невкусно, а другим очень даже нравится? Обманывать некрасиво, правдивый ответ обидит хозяйку, но зачем же тогда она пристала как банный лист со своим неловким вопросом?!
Уж какое невероятное количество раз в московских гостях я из вежливости через силу запихивала в себя угощения, чтобы не обиделась очередная тетя, которая это наготовила! Иногда это бывало вкусно, но всегда полтарелки назад! И только в Тегеране, в свои неполные десять, я, наконец, обрела то, чего смутно жаждала – возможность самоопределения за столом. А с ней и привычку неторопливо прислушиваться к организму: насколько он голоден, чего хочет в данную минуту?
Вернувшись в Союз, я еще долго удивлялась отношению к еде моих сверстников, оно казалось мне лишенным самоуважения. Советские дети отказывались от пищи напрочь, если дома их пичкали, и объедались до колик в животе тем, что им не давали дома.
В конце трапезы хозяин принес в кувшине воду с лимоном и лично омыл гостям в нашем лице руки. В подвальчике было прохладно, да и на улице зной слегка спал.
– О, гляди, солнце явно уже намылилось на ночевку к себе за Эльбурс, – сказал папа, когда мы вышли на улицу. – Пора и нам честь знать, а то стемнеет, не успеем оглянуться. Что скажем маме?
– Что ездили в дальний «Курош» и сарафан там купили, – бойко отрапортовала я.
Папа засмеялся. Я была сытой, сонной и довольной и полностью позабыла все свои страхи, испытанные перед баней Геблех.
* * *
В последнюю среду перед Новрузом папа привел меня к дому Рухи, к 9 вечера, как и договаривались.
Семья господина Рухи жила рядом с нами, на улице Каримхан, в симпатичном двухэтажном особняке на две семьи. В Москве я не видела таких жилых домов, где у каждой семьи по этажу с отдельным входом, общий внутренний дворик с бассейном и садом и общая плоская крыша, на которой тоже бассейн с шезлонгами, зимний сад и площадка для катания на скейтах и роликах. Самые маленькие гоняли по крыше на великах.
До войны Тегеран большую часть года жил на своих крышах. Я бы тоже на такой жила: днем там можно загорать и купаться, а с наступлением вечерней прохлады на крыше приятно пить чай, любуясь огнями города. Но с началом войны сидеть на крышах запретили, да и городских огней не стало.
На Чахаршанбе-сури 1359-го до войны оставалось ещё полгода. И хотя, как говорили взрослые, иракцы уже обстреляли какой-то приграничный иранский город, никто тогда не думал, что дело дойдёт до бомбежек Тегерана.
Папа позвонил в интерком (слова «домофон» мы тогда ещё не знали) и сказал что-то на фарси ответившему в микрофон мелодичному женскому голосу.
– Сейчас девочки выйдут за тобой, – сообщил он мне. – А я побежал. А то они будут приглашать в дом и обижаться, если откажусь. А если не откажусь, мама мне этого не простит! Я за тобой завтра зайду к вечеру и тогда и посижу с Рухишками.
Папа называл семью хаджи Рухи «рухишками», подразумевая, что в ней много детишек и вся жизнь вертится вокруг этих детишек.
Скоро я в этом убедилась.
Едва мой папа скрылся за ближайшим поворотом, а он и впрямь не пошёл, а бросился наутёк, из дверей, радостно вереща, выскочили мои подружки Ромина и Роя.
Обе худенькие, подвижные, смешливые и совсем не похожие на московских девчонок. Наши тоже часто хихикали, но обязательно над кем-то. Когда не ссорились, шушукались между собой, старших стеснялись и хлопали глазами. Роя с Роминой были совсем другими. Может, мне так казалось, потому что я не понимала, о чем они говорят между собой на фарси. Но не ссорились между собой они точно и взрослых не стеснялись совершенно. Да и взрослые вели себя с ними на равных, я бы даже сказала – уважительно. Не дергали каждую секунду и не делали замечания при посторонних. Увидев маму подружек, я с тоской вспомнила свою, которая любила в гостях показать мне вытянутый средний палец. Это значило: «Выпрями спинку!»
Марьям-ханум, жена хаджи Рухи, была из тех женщин, по которым сразу видно, что они добрые. Я до сих пор не знаю, как именно я это определяла, но никогда не ошибалась. У добрых людей особый взгляд, от них исходит тепло и ощущение радостного спокойствия. Еще у добрых людей есть запах. Они пахнут уютом, плюшками с ванилью и корицей и свежее-отглаженным бельём. Так пахла моя московская няня тетя Мотя.
Марьям-ханум в длинном платье с восточным рисунком и с высокой прической показалась мне похожей на Софи Лорен в кино. Она обняла меня и прижала к себе как любимую родственницу, хотя видела впервые в жизни. По-английски она не говорила и подружки перевели ей, что я рада с ней познакомиться.
Подружки были постарше меня: Ромине было 12, Рое 13, а их старшему брату Хамиду, у которого я вымогала сладости при помощи волшебной фразы "пуль фарда" – 15.
У Рои была прическа «сессон», как у меня, а у Ромины стрижка «под мальчика». Она объяснила мне, что сейчас это очень модно, и все ее одноклассницы так подстриглись.
Семья Рухи по тегеранским меркам принадлежала к не бедной интеллигенции. Хаджи Рухи происходил из аристократического азербайджанского рода Дарьян из Тебриза – того же города, где корни шахбану Фарах Диба.
При шахе Ромина с Роей ходили в дорогую школу в Саад-Абаде, возле резиденции Пехлеви. Но в последний год их перевели поближе к дому – на английское отделение армянской гимназии для девочек. При шахе в ней имелось даже русское отделение, а обучение было совместным. Но после исламской революции школа стала только для девочек, что было, конечно, скучновато.
Я и сама ходила в эту школу, но только на уроки английского в свой 3-й класс, четыре раза в неделю. Об этом мой папа за небольшую мзду договорился лично с учителем английского, ведь официально посещать иностранную школу советским детям запрещалось.
В 3-й класс армянской гимназии по уровню английского меня определили только потому, что в ней было 12 классов, а не 10, и в детей не торопились впихнуть все и сразу. Но уже в 4-м классе школьники говорили на английском так же легко, как на родном.
Свободно общались на нем и Роя с Роминой. При мне вся семья перешла на английский, а своей маме переводила Роя. Мне иногда не хватало слов, но понимала я все. Поэтому в гостях у «Рухишек» мне было комфортно. И все они казались мне будто сошедшими с киноэкрана или обложек иранских дореволюционных журналов, которые в изобилии валялись на последнем этаже нашего жилого дома.
Хаджи Рухи напомнил мне шаха Мохаммеда Пехлеви, каким я увидела его на фото в журнале шахских времен, освещающего светскую жизнь Тегерана. А если на хаджи ещё надеть парадную военную форму с золочеными эполетами, то и вовсе не отличишь! Хозяин дома все время улыбался. И даже когда не улыбался, глаза его смеялись, как у моего папы.
Таких просторных квартир, как у Рухишек, в Москве я тоже никогда не видела. Они занимали весь первый этаж дома. Прихожая вела сразу в большой зал, где почти не было мебели кроме огромного телевизора на напольной тумбе, длинного низкого дивана из белой кожи и напольных светильников. На стенах висели старинные картины. Ромина объяснила, что её отец коллекционирует живопись, и если бы не революция, она бы поехала учиться на художницу в колледж искусств Сан-Мартин в Лондоне. Но теперь ничего не выйдет: ислам запрещает изображать людей. Сказала об этом она довольно беззаботно.
Зал соединялся с кухней, где суетилась Марьям-ханум и ещё какая-то женщина. Девочки познакомили меня с ней, сообщив, что её зовут Фереште и она помогает Марьям-ханум по дому.
– Ее имя значит «ангел» и теперь оно запрещено законом! – заявила Ромина.
– Как это? – не поняла я.
– Шариат запрещает давать людям божественные имена, как у нашей Ангел-ханум. Еще соседка наша по имени Эллаха – богиня – тоже теперь вне закона. Мы же теперь живем по шариату.
«Запрещенная» шариатом Ангел-ханум только рассмеялась и шутливо замахнулась на Ромину кухонным полотенцем.
Роя осталась помогать на кухне, а Ромина стала показывать мне дом.
Квартира оказалась поделена на две части: в одной были личные помещения – спальни, комнаты и кабинеты. В «общей» части располагался зал, библиотека, кухня и веранда с выходом во внутренний дворик с бассейном. Рухишки, как и все тегеранцы, называли его на итальянский манер – патио.
В комнате Ромины меня больше всего поразило, что при ней имелась отдельная ванная с туалетом. Я сказала, что ей повезло, а у нас вся семья ходит в общий туалет в коридоре. Ромина очень удивилась и уточнила, ничего ли я не путаю?
– Как в спальне может не быть ванной? А умываться где по утрам? Душ принимать?
– В общей, на всю семью, – пояснила я.
– Но там же будет занято, особенно утром, когда все собираются на учебу и работу! Папа, брат, сестра, мама… – стала загибать пальцы Ромина. – Не, так я в школу опоздаю!
На это возразить мне было нечего.
Еще в подружкиной комнате обнаружилась масса восхитительных вещей – огромные наборы фломастеров, настоящий мольберт, какие-то невероятные пеналы с нарисованными на них девочками в джинсах, огромный двухкассетный магнитофон с колонками и куча кассет в специальных крутящихся подставках.
Мне показалось, что во всем доме Рухи даже пахнет как-то по-особенному – то ли буббл-гумом, то ли разноцветными и ароматными японскими школьными ластиками, которые у Ромины валялись по всей комнате. А какие красивые у нее были тетрадки! Не зеленые из шершавой бумаги, как у нас, а глянцевые, приятные на ощупь, в ярких обложках с наклейками, источающие восхитительный запах свежей бумаги!
Во всем этом великолепии Ромина вела себя так, будто оно ее не удивляло и не радовало! Да если бы у какой-нибудь московской девчонки были такие несметные богатства, она бы тут же задрала нос!
Все в комнате подружки меня удивляло, все хотелось потрогать и даже понюхать.
Обомлев от восторга, я похвалила синее мохнатое чудище с глазами-пуговками, болтающееся у Ромины под потолком. Подвешенная на пружинке мягкая игрушка порхала по комнате как синее привидение.
Ромина тут же подставила стул, ловко отцепила пружинку от крючка на потолке, раскачала на ней синее волосатое привидение и с размаху ударила им о пол. В ответ раздался громкий раскатистый хохот, моя мама назвала бы такой «гомерическим» и «неприличным». Никогда не понимала, при чем там Гомер, но словечко запомнила.
Диковинная игрушка скакала на пружинке и зловеще хохотала мужским голосом, как самое настоящее привидение, дикое и ужасное!
Я замерла от изумления, а Ромина тут же ловко скрутила пружинку, засунула привидение в черный бархатный мешочек с его же изображением и вручила мне со словами: «It’s yours!» («Оно твое!» – англ). Я пыталась вернуть ей привидение, но она только качала головой и повторяла, что оно мое.
Этот гомерический хохот довел до белого каления не одного учителя первой английской школы в Сокольниках. Еще года два после возвращения в Союз я таскала синее привидение в портфеле и на особо скучных уроках тихонько его там встряхивала, отчего оно начинало громко заливаться мужским смехом. Учителя не могли определить источник звука и одного за другим выставляли из класса всех мальчиков.
На самом деле, игрушка называлась «мешок смеха» и в Тегеране была привычной, но в Москве даже не представляли, что так натуралистично гоготать может какое-то устройство. Года через два «мешок смеха» появился у мальчика из параллельного класса, и тогда свой я носить в школу перестала. Мне нравился эксклюзив, хоть тогда я и не знала этого слова.
Как выяснилось позже, папа забыл меня предупредить, что хвалить в персидском доме ничего нельзя – тебе тут же это подарят.
Когда на следующий день я пришла из гостей с мешком подарков, словно Дед Мороз, папа рассказал мне про иранский тааруф, попутно рассказав, как однажды был вынужден уйти из гостей с ковром. Находясь в персидском доме, он мимоходом из вежливости похвалил ковер. А когда собрался уходить, обнаружил этот огромный ковер свернутым в рулон и стоящим у двери. Когда папа стал прощаться, гостеприимные хозяева вручили ему рулон со словами: «Он ваш!» Папа рассказал, что пытался отбояриться от ковра под предлогом, что он большой и тяжело тащить, но хозяева тут же заявили, что до папиной машины ковер донесет их старший сын.
– Если иранец уже объявил, что дарит тебе вещь, отказаться, смертельно его не оскорбив, уже невозможно, – пояснил папа. – Но если иранский хозяин спрашивает, не подарить ли вам эту вещь, отказаться нужно не менее трёх раз, не то все равно подарит.
Мои отказы принять в дар «мешок смеха» прервала Роя, позвавшая нас с Роминой к столу.
В еще час назад полупустом зале откуда-то появился большой стол и стулья с высокими спинками, как в кино про аристократов прошлых веков.
Фереште очень уговаривали поужинать с нами, но она наотрез отказалась, и Марьям-ханум отпустила её домой, сказав, что со стола уберёт сама.
Стол был сервирован в полном соответствии с книгой «Как себя вести», читать которую заставляла меня мама. Это пособие, переведенное с чешского, содержало в себе инструкции по хорошему тону на все случаи жизни. Больше всего мне нравились картинки: они иллюстрировали дурные манеры и потому были смешными.
Например, толстый дядька с салфеткой за шиворотом, как у малыша, размахивающий вилкой, зажатой в правом кулаке, и разговаривающий с набитым ртом. Он даже не замечает, что от него во все стороны летят кусочки пищи, и соседи по столу прикрываются салфетками. Мама добавляла, что русская поговорка «Когда я ем, я глух и нём» с точки зрения этикета тоже неправильна. За столом следует вести легкую ненавязчивую беседу, но высказываться только когда прожевал. «Кто некрасиво ест, – говорила моя мама, – по тому сразу видно, что он невоспитанный человек!»
Все Рухишки оказались воспитанные: вилку держали в левой руке, нож в правой, не утыкались носом в свои тарелки с оголодавшим видом, торопливо поглощая свою порцию, не лезли к жующим с расспросами и не навязывали свои угощения, а только спрашивали, что передать с другого конца обширного стола.