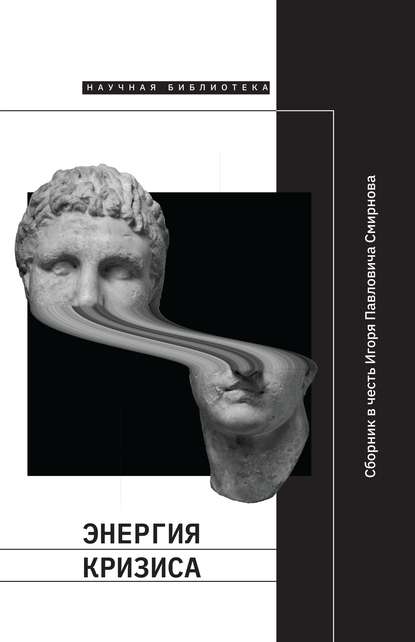Полная версия
Imago in fabula. Интрадиегетический образ в литературе и кино
Превратив искусственный образ в сакрально-эротический «идол» (с. 432/390), художник ревниво прячет его от чужих глаз, вписываясь тем самым в ряд типичных романтических мужей-ревнивцев – вместе с восточными деспотами, держащими жен взаперти в гареме, или же с героем греческой легенды царем Кандавлом (выведенным позднее, в 1844 году, в одноименной новелле Теофиля Готье Le roi Candaule), который тоже долго не решался никому показать свою красавицу-супругу.
Прекрасная прекословница
Итак, на «неведомом шедевре» Френхофера – по крайней мере, по авторскому замыслу – не миф и не портрет, а лукавая подмена одного другим; образ фантазматически слипается с собственным объектом. В этом контексте следует истолковывать и главное сюжетное событие новеллы Бальзака – появление второй модели, которая понадобилась Френхоферу, чтобы завершить свой шедевр. Зачем нужна вторая модель – об этом он говорит очень кратко, в связи со своей затеей поехать на Восток: «чтобы там найти себе модель и сравнить свою картину с различными натурами» (с. 430–431/388). И потом повторяет, уже увидев приведенную к нему красавицу: «О, предоставьте мне ее на одно мгновение […] и вы сравните ее с моей Катрин» (с. 434/392). Вторая модель нужна не для изображения, а для сравнения с первой, уже написанной красавицей; сравнивать будут сначала автор, а потом зрители-художники. Чтобы окончательно убедиться в совершенстве картины, ее нужно увидеть со стороны, сопоставить с натурой – но не с той, которая на ней собственно изображена; с той же целью в первой части новеллы, закончив поправлять картину Порбуса, Френхофер разглядывает ее в зеркале, то есть в искусственно искаженной, «остраненной» перспективе[140]. Семиотически это можно соотнести с трехчленной схемой знака: в нем соотнесены материальное означающее (расписанный холст) и виртуальное означаемое (фигура Катрин Леско), но образуемая ими структура должна быть привязана, словно якорем, к реальному референту – каковым в данном случае и служит новая натурщица. Она появляется во второй части новеллы и действует как разлагающий, аналитический элемент образа, делающий явным его расслоение.
Двойственность была внутренне присуща самой гипотетической героине картины. Как уже сказано выше, в ряде редакций новеллы она носит прозвище La Belle-Noiseuse. По форме оно соответствует именам других старинных куртизанок из произведений Бальзака – La Belle Imperia (одна из героинь «Озорных рассказов» / Contes drolatiques, 1832) или La Belle Romaine (эпизодический персонаж повести «Нелюбимый сын» / L’Enfant maudit, 1837). По смыслу же оно амбивалентно, подобно «фантастическому» облику художника, создавшего портрет Катрин Леско: она «прекрасная» (belle), но и «сварливая», «спорщица», «прекословница» (примерно таково значение редкого слова noiseuse)[141]. Референциальная двойственность живописного образа отражается в морально амбивалентном прозвище героини, которая двусмысленна и по социальному статусу – куртизанка, воплощение греховной любви. Последний мотив подчеркнут, так как фигура куртизанки, вообще значимая для Бальзака (ср. роман «Блеск и нищета куртизанок» / Splendeurs et misères des courtisanes, 1838–1847), представлена в «Неведомом шедевре» еще двумя женскими персонажами. Один из них – святая Мария Египетская на картине Порбуса. Согласно ее житию из «Золотой легенды», уже после религиозного обращения, во время паломничества из Египта в Иерусалим, ей пришлось расплатиться собственным телом за перевоз по морю, в последний раз прибегнув к своему низменному ремеслу. Именно этот морально двусмысленный эпизод изображен Порбусом, и юный Пуссен, восхищаясь его работой, особо отмечает «выражение нерешительности у лодочника» (с. 420/377) – подразумевается, что эта «нерешительность» вызвана двойственностью самой Марии, которая вот в этот самый момент превращается из блудницы в святую отшельницу.
В роли продажной женщины – продаваемой за право взглянуть на запретный образ – чувствует себя и единственная реальная, то есть не нарисованная героиня «Неведомого шедевра», подруга Никола Пуссена Жиллетта. Противясь его уговорам, она не хочет позировать Френхоферу, для нее это значит «погубить себя» (с. 429/387), отдаться – пусть лишь «визуально», в виде образа – чужому человеку. Показ эквивалентен проституции; в том же смысле и Френхофер не желает выставлять напоказ свою Катрин, объясняя, что это было бы «бесчестием» и «отвратительной проституцией» (с. 431/389); а Жиллетта, приведенная в его мастерскую, напоминает своим видом «юную грузинку, пугливую и невинную, похищенную разбойниками и отведенную ими к работорговцу», и слезы у нее на глазах являют «немой укор насилию над ее стыдливостью» (с. 433/391).
По замечанию одного критика, «„Неведомый шедевр“ состоит из истории трех пар – Порбуса и Марии Египетской, Пуссена и Жиллетты, Френхофера и Катрин Леско…»[142]. Можно добавить, что все эти пары изоморфны: в каждой из них есть художник и женщина, соотнесенная с живописным образом (изображенная, позирующая) и так или иначе, реально или символически проституирующая себя. Дело обстоит даже еще сложнее: слово «проституция», сказанное в сердцах Френхофером, относится не к профессии Катрин Леско, а к предполагаемой демонстрации ее сакрализуемого, свято оберегаемого образа; блудница Мария Египетская уже стала подвижницей, и «лодочник», которому она отдается, в замешательстве ощущает себя участником священного обряда; наконец, символическая измена Жиллетты мало того что носит образно-визуальный характер, но и совершается не ради денег или иных выгод, а ради чести, чтобы доказать возлюбленному готовность всем пожертвовать ради него. Проституция в «Неведомом шедевре» – не корыстная, а жертвенная, а то и просто сакральная, как у пушкинской Клеопатры из написанных в те же годы «Египетских ночей» («Клянусь, о матерь наслаждений, / Тебе неслыханно служу…»).
Известно, как внимателен обычно Бальзак к денежным расчетам и сделкам своих персонажей. В «Неведомом шедевре» мотив денег возникает всего однажды, когда Френхофер щедро платит два золотых за ученический эскиз Пуссена: сумма очевидно завышенная, но это вообще не плата за работу, а благотворительное пожертвование старого и богатого художника талантливому и бедному собрату. Убеждая самолюбивого юношу не отвергать эту помощь, его старший коллега Порбус сравнивает Френхофера с «королем» – действительно, принять милость от короля не может быть стыдно; то есть в мире новеллы нет буржуазной расчетливости, заботы о верной цене, деньги служат не рыночным средством платежа, а роскошным царским даром. Так же функционируют в этом мире и женщины: ими символически обмениваются мужчины, но это возвышенно-дарственный обмен. Он соревновательный, ставки в нем должны возрастать[143], и в конце концов на карту ставится то, что дороже всего: живая Жиллетта обменивается – в конечном счете добровольно обменивает себя, свой зримый образ – на нарисованную Катрин Леско, на право созерцать ее образ, предоставляемое ревнивым Френхофером Пуссену. «Но ведь тут женщина – за женщину!» (с. 432/390), – уговаривает старика Порбус, который служит посредником, сводником и в этой сделке. Он мог бы сказать «образ за образ», потому что в мире профессиональных образотворцев это и есть высшая ценность.
Как показал Юбер Дамиш, обмен в бальзаковском рассказе принимает разнообразные формы, но все время происходит по поводу искусства, по поводу визуального образа: вначале между художниками циркулируют имена (Пуссен подписывает свой рисунок, Френхофер готов подписать исправленную им картину Порбуса), а «после этого обмена именами, после обмена стыдливостью, если не девственностью, двух женщин [добавим: не просто женщин, а моделей. – С. З.] следует обмен взглядами, которым завершается цикл»[144]. Профессиональные взгляды двух художников – Френхофера на Жиллетту и Пуссена и Порбуса на его картину – получают символическую весомость как результат других, предшествующих обменов; эти обмены проецируются на главный визуальный образ новеллы, наполняя его энергией повествовательного сюжета. Сама по себе картина, где «ничего нет», оставалась бы лишь курьезом, не будь в нее вписаны, вложены уже после ее написания судьбы трех участников обмена – Пуссена, жертвующего любимой девушкой, Жиллетты, теряющей любовь, и самого Френхофера, чья работа утрачивает цель: «У меня нет ни таланта, ни способностей, я теперь просто богатый человек, который ходит, никуда не идя» (с. 438/396). Заветная картина для них словно игорный стол, на который все они выложили свои ставки – и все проиграли.
Как же деформируется визуальный образ, будучи включен в этот сюжет? Обмен между людьми – процесс, развернутый во времени, образующий «историю» и, что еще важно, дискретный. В нем четко разделены и противопоставлены позиции «контрагентов», и Бальзак подчеркивает это, например, в драматическом диалоге Пуссена и Жиллетты, которые непрестанно обмениваются не просто словами, но вызовами, уступками и жертвами, разыгрывая не столько любовную близость, сколько соперничество в чести. Этой своей дискретностью обмен противоречит творческим установкам Френхофера; через него диегезис разъедает мимесис, дисконтинуальное начало рассказа вторгается в континуальность образа.
Френхофер – убежденный художник-континуалист; он отрицает рисунок, проводящий дискретные членения на картине, и мечтает воссоздавать натуру, состоящую «из ряда округлостей, переходящих одна в другую» (с. 424/382). Его учитель Мабузе в качестве фокуса умел представить гнущуюся жесткими складками бумагу словно мягко, непрерывно струящийся шелк, наподобие полы одежды (по-французски pan, согласно трактовке Ж. Диди-Юбермана):
…когда ему случилось пропить шелковую узорчатую ткань, в которую ему предстояло облечься для присутствия при торжественном выходе Карла Пятого, Мабузе сопровождал туда своего покровителя в одеждах из бумаги, разрисованной под шелк. Необычайное великолепие костюма Мабузе привлекло внимание самого императора, который, выразив благодетелю старого пьяницы восхищение по этому поводу, тем самым способствовал раскрытию обмана (с. 427/384).
В этом анекдоте[145] идея иллюзорной имитации непрерывной, хотя гибкой поверхности представлена комически; но того же эффекта всерьез добивается и Френхофер на своей картине. Михаил Ямпольский сближает это с эффектом «близкого», не-дистантного зрения, когда объект видения как бы вплотную, без перспективного разрыва прилипает к сетчатке глаза и соответственно не дает дискретно-расчлененного образа:
Френхофер создает свою живопись в соответствии с принципами изображения на сетчатке […]. Чистое, нефигуративное видение – это видение чистого цвета, заменяющего фигурацию «оградой из красок»[146].
Действительно, для зрителей созданный Френхофером визуальный объект сплющен, лишен перспективы: вместо видимой глубины пространства – толща наложенных друг на друга цветовых пятен. И вот на этом-то сплошном фоне выступает одна опознаваемо фигуративная, то есть резко инородная деталь – виднеющийся «в углу картины кончик голой ноги», (с. 456/394). Эта отделенная от тела, неизвестно кому принадлежащая ножка – элемент дискретности, внедренный в визуальный образ.
В ней, безусловно, отражается фетишистское отношение Френхофера к образу/телу Катрин Леско. Как комментирует психоаналитик Поль-Лоран Ассун, «„обожать“ женщину удается лишь при ее „разделении на кусочки“», и таким способом мужчина-художник пытается избыть свой страх кастрации[147]. В плане собственно визуальных ассоциаций ножка «в углу картины» (вероятно, нижнем) кажется выступающей из-под полы, из-под подола – бесформенного нагромождения цветовых пятен, закрывающего от зрителей всю остальную фигуру словно платьем; возможно, Бальзак более или менее бессознательно имел в виду такую расхожую эротическую образность, изобретая главную деталь своей новеллы[148]. Тогда «хаос красок» на картине объясняется ревнивым стремлением живописца одеть вожделенную фигуру, оставив на виду только ножку-синекдоху, часть, по которой предлагается угадывать целое[149].
Можно, однако, пойти еще дальше. Если от гипотетической психологии Френхофера вновь обратиться к повествовательному развитию новеллы, то загадочная деталь на картине заставляет задаться вопросом о сеансе позирования, непосредственно предваряющем ее предъявление зрителям. Этот сеанс представлен в рассказе эллиптически, как «черный ящик»: на «входе» в мастерскую художника вступает натурщица, а на «выходе» появляется картина, которую художник объявляет своим «совершенным» творением (с. 434/393). Что же произошло в промежутке, за дверями мастерской?
Разумеется, подобные вопросы – «а как там было на самом деле?» – следует ставить осторожно, они не всегда применимы к художественному повествованию. Напомним: в его вымышленном мире существуют только факты, прямо или хотя бы намеком упомянутые в рассказе, и не существуют никакие другие, даже логически вытекающие из них[150]. Оттого бессмысленно гадать, например, о том, зачем в первой части новеллы Френхофер пришел в мастерскую Порбуса (мотив его визита никак не объяснен); или как случилось, что начинающий, нищий, никому не известный живописец Пуссен, едва приехав в Париж из провинции, завоевал там любовь красивейшей девушки Жиллетты (об этом сказано одной фразой, в самых общих словах). Подобные обстоятельства находятся за рамками рассказа, и их необъясненность входит в норму художественной условности. Иначе, однако, обстоит дело с позированием Жиллетты: это кульминационная сцена новеллы, к ней драматически подводит все предыдущее действие, и ее сокрытие специально подчеркивается как повествовательная аномалия. Эта сцена не только выведена за рамки читательского кругозора (как и все произведения искусства, фигурирующие в новелле), но и скрыта от остальных персонажей – от Порбуса и Пуссена, которые в течение всего сеанса ожидают у двери мастерской и могут лишь строить предположения о том, что творится внутри: «Ах, она раздевается… Он велит ей повернуться к свету!.. Он сравнивает ее…» (с. 434/393).
Фокализуя рассказ на этих не-видящих свидетелях, Бальзак искусно оставляет без ответа деликатный вопрос: действительно ли Жиллетте пришлось обнажаться перед Френхофером? Положительный ответ как будто очевиден и подтверждается рядом косвенных указаний: так предполагают Порбус и Пуссен, мыслью об этом заранее терзается сама стыдливая девушка, на это намекает, по крайней мере внешне, и реакция Френхофера на ее появление («он, по привычке художников, так сказать, раздевал девушку взглядом, угадывая в ее телосложении все, вплоть до самого сокровенного» – с. 433/391–392)[151]. Однако оговорки рассказчика обозначают гипотетичность изложения мыслей персонажа; в описаниях же своей картины тот ни разу не говорит определенно, что ее героиня изображена обнаженной; упоминаются лишь некоторые части ее тела – «как дышит грудь» (с. 432/390) и т. д., – которые могли бы быть и прикрыты одеждой. Жорж Диди-Юберман отметил, что Френхофера-художника вообще интересует не столько нагота, сколько телесность изображаемой фигуры[152] – «живая, пористая, влажная, теплая» поверхность кожи, где чувствовались бы «лоск и кровь»[153]. Такого эффекта можно добиться и не раздевая модель донага – достаточно лишь тщательно написать ее лицо, руки… или босую ногу.
Сеанс позирования Жиллетты не должен был продолжаться долго – «предоставьте мне ее на одно мгновение», просил Френхофер. Строго говоря, задуманное им сравнение живой натуры с готовой картиной вообще вряд ли могло называться позированием, однако Пуссен, убеждая подругу согласиться на неприятное для нее испытание, произносил именно такое слово: «…тебе пришлось бы позировать перед другим» (с. 429/387). А что если он угадал верно? Что если Френхофер, художник-перфекционист, мастер усовершенствований и «последних мазков», при виде новой прекрасной модели не удержался и взялся-таки снова за кисть? В первой части новеллы рассказано, как стремительно он умеет переделать картину; но, конечно, за короткое время он все же не успел бы радикально переписать «портрет» Катрин Леско, изобразив на нем Жиллетту. Что он мог бы сделать – это закрасить его, одеть «хаосом красок», подобно тому как в дальнейшем, после демонстрации коллегам, он «задергивал свою Катрин зеленой саржей» (с. 438/396–397). Но если все-таки допускать, что в картину каким-то способом оказалась включена сама Жиллетта, то напрашивается иная гипотеза: Френхофер написал с нее ножку, единственную опознаваемо-фигуративную деталь на своей картине, единственный «реалистический» элемент, добавленный к «абстрактной» композиции; единственный внятный образ, который еще связывает видение безумного живописца с видением его здравомыслящих собратьев. Если так, то на картине совмещены не просто два разных образа, но образы двух разных женщин – один вообще незримый (фигура полулегендарной Катрин Леско), другой фетишистски частичный (нога реальной Жиллетты).
Следует подчеркнуть: эти гипотезы недоказуемы, и Бальзак, надо полагать, намеренно сочинял финал своей новеллы так, чтобы заставить читателя теряться в «фантастических» догадках[154]. Для рецептивной структуры текста существенно именно то, что своими недомолвками и двусмысленностями он побуждает читателя к подобным гипотезам. Схема «черного ящика» получает специфическое наполнение: на входе – новая натурщица, отличная от первоначальной модели картины, на выходе – деталь самой картины, отличная от основного визуального объекта, который на ней представлен. Девушка Жиллетта и ножка на холсте уравниваются своей инаковостью, инородностью по отношению к картине или к ее референту. В любом случае иллюзионистская логика повествования – «после этого, значит вследствие этого»[155] – заставляет предполагать, что лицезрение Жиллетты повлияло на решение Френхофера показать зрителям свой шедевр, а стало быть именно оно и повлекло за собой катастрофическую развязку. Энергия читательских ожиданий, драматическая энергия вызовов и уступок между влюбленными, которые привели Жиллетту в мастерскую художника, была слишком велика, чтобы разрядиться простым сравнением двух женских фигур, при котором художник всего лишь убедился бы в превосходстве своего произведения над живой натурой. Эта энергия должна была как-то деформировать сам сокровенный образ на холсте.
Иконическая инородность Жиллетты – мотив, развернутый на всем протяжении рассказа о ней. В отличие от прочих персонажей новеллы (считая даже «закадровых» вроде Мабузе), эта девушка не только не является художницей, но и вообще враждебна образу. Она ревнует Пуссена к собственным изображениям, которые он с нее пишет, – «потому что в эти мгновения твои глаза мне больше ничего не говорят. Ты совсем обо мне не думаешь, хоть и смотришь на меня…» (с. 428–429/385); действительно, во время работы художник видит не модель, а образ, встающий в его воображении. Та же неприязнь к образу, а не просто стыд выставляться напоказ, была глубинной причиной ее нежелания позировать Френхоферу; если же в последний момент она все-таки дала согласие, то потому, что увидела, как Пуссен опять изменяет ей с образом, на сей раз с чужим, уже упоминавшимся в новелле раньше:
Она с гордостью подняла голову и бросила сверкающий взгляд на Френхофера, но вдруг заметила, что ее возлюбленный любуется картиной, которую при первом посещении он принял за произведение Джорджоне, и тогда Жиллетта решила:
– Ах, идемте наверх. На меня он никогда так не смотрел (с. 434/392).
В первой редакции текста, удалившись позировать Френхоферу, она вообще бесследно исчезала из рассказа; в дальнейших редакциях она появляется вновь на последней странице, «забытая в углу» (с. 438/396) спорящими друг с другом живописцами, потерявшая свою любовь и готовая умереть от отчаяния. Она остается единственной, кто совершенно не интересуется произведением Френхофера, не желает даже взглянуть на него. Подобно куртизанке Катрин, стыдливая Жиллетта на свой лад играет роль «прекрасной прекословницы», с нею связаны дискретно-негативные коммуникативные жесты новеллы – драматический диалог, обмен, несогласие, жертвенность. Она воплощает нарративное, а потому иконоборческое начало, и живописный шедевр Френхофера, да и он сам, не выдерживают встречи с нею[156].
В последней сцене новеллы, в строках, добавленных к ее тексту в первой книжной редакции 1831 года, безумный художник панически колеблется между двумя образами, двумя несовместимыми планами своего произведения, аккомодируя зрение то на одном, то на другом; сначала он яростно бранит зрителей-живописцев, отказывающихся распознать шедевр под «хаосом красок», потом в ужасе признает «ничтожность» этого шедевра, а в конце концов, впав в подозрительность, спроваживает гостей и уединяется со своими картинами – чтобы уничтожить их и умереть самому[157]. Этими маниакально-депрессивными метаниями героя завершается процесс раскачки и раздвоения, образующий динамическую структуру «Неведомого шедевра». Двойственность профанного и сакрального знания, двойственность жанра картины и ее таинственной героини, общая двойственность нарративного и визуального начал получают свое продолжение в двойственности, неопределенности главного визуального объекта, соответствующей раздвоению двух женских персонажей-моделей. Их образы, идеальный и реальный, воображаемый и зримый – в терминах самого Френхофера, «фигура» и «форма», – сталкиваются на полотне, не создавая стабильной структуры «означаемое + означающее», как при классическом режиме репрезентации. Пытаясь охарактеризовать их взаимодействие на собственно визуальном уровне, Юбер Дамиш использовал метафору «плетения, где нити попеременно поднимаются и опускаются, так что одна и та же нить проходит то сверху, то снизу, и ей невозможно приписать однозначного положения»[158]. Однако на уровне нарративном, в развитии рассказа это взаимодействие носит более конфликтный характер: два образа не просто мерцают один из-под другого, они борются между собой, оспаривают друг у друга главенство, и их противоборство заканчивается взаимным уничтожением. В итоге на картине от «фигуры» если что и осталось, то лишь «кончик прелестной, живой ноги», тогда как «форма» превратилась в свою противоположность – «хаос красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную [sans forme] туманность» (с. 436/394).
Эмансипация модели
Сюжет, где модель-натурщица перестает быть пассивным объектом художественного изображения и начинает энергично взаимодействовать с собственным образом, формируя и деформируя его, получил дальнейшее развитие. У Бальзака характер героини, чуть не пропавшей без вести еще до конца рассказа и «спасенной» лишь при последующей переработке текста, довольно схематичен и в основном описывается мелодраматическими стереотипами: красивая, гордая, любящая, жертвенная… У его последователей эта фигура усложняется, приобретает все большую значимость и всякий раз расценивается двойственно – как необходимый и вместе с тем инородный, конфликтный элемент искусственного образа: самостоятельный субъект, не желающий сводиться к визуальной иллюзии.
Новелла Теофиля Готье «Золотое руно» (La Toison d’or, 1839) написана «по мотивам» Бальзака, с которым Готье в те годы сотрудничал и дружил[159]. Герой новеллы, парижский эстет Тибурций, находит во Фландрии – стране, служившей неявным фоном в «Неведомом шедевре», – два воплощения чаемого им идеала белокурой красавицы: фигуру Марии Магдалины с картины Рубенса из Антверпенского собора (прекрасной куртизанки, как и бальзаковская Катрин Леско) и похожую на нее живую девушку Гретхен. Вернувшись домой, он хандрит из-за несовпадения образа с реальностью: искренняя любовь Гретхен, последовавшей за ним в Париж, не заменяет ему воспоминания о рубенсовской Магдалине, ибо он «не понимал природу в подлиннике, поэтому читал ее только в переводах»[160], а женскую красоту ценил лишь в искусстве или в сравнении с ним. За это эстетство его укоряет рассказчик:
…всецело отдавшись поэзии, вы отлучили себя от природы, мира и жизни. Любовницы были для вас картинами, более или менее удачными; ваша любовь к ним дозировалась по шкале – Тициан, Буше или Ванлоо, но вас никогда не волновала мысль: а может, под этой внешней оболочкой трепещет и бьется что-то живое? Горе и радость, хоть у вас и доброе сердце, вам кажутся гримасами, нарушающими гармоническое спокойствие линии: женщина для вас только теплая статуя[161].
Лекарство от меланхолии нашлось в художественной игре – создании новых образов: сначала Тибурций одевает Гретхен в платье XVI века, похожее на одежду Магдалины, и превращает ее в «живую картину» – «вы бы сказали, что это фрагмент картины Рубенса»[162]; а затем сама Гретхен, недовольная тем, что ее подменяют образом другой женщины, предлагает более эффективный способ избавиться от наваждения – написать с нее настоящую новую картину: «Если я не могу быть вашей любовницей, я буду хотя бы вашей натурщицей»[163]. Тут, в самом конце новеллы, Тибурций вдруг вспоминает, что «когда-то занимался живописью», и изображает свою подругу на холсте – не в виде Магдалины, копируя Рубенса, а в виде обнаженной Венеры, выходящей из волн; может быть, даже в виде статуи Венеры, с которой кокетливо сравнивает себя позирующая модель и на которую затем намекает рассказчик, говоря, что картина Тибурция хоть и «не стала совершенным произведением», но все же «будила воспоминание о цветущей поре греческой скульптуры»[164]. Образный экзорцизм, искусно осуществленный героиней Готье по отношению к возлюбленному, предвещает исцеление другого эстета, одержимого старинным художественным образом, – героя «Градивы» Вильгельма Йенсена (Gradiva, 1903), чья история стала знаменита благодаря анализу этой повести Зигмундом Фрейдом; венский психиатр определил у ее героя латентный фетишизм женской ноги, который мы уже видели в «Неведомом шедевре»[165]. У Готье живая модель своим появлением (в новелле она впервые мелькнула перед взором Тибурция еще до лицезрения Магдалины Рубенса) вносит перемену в пространство визуальных образов: они начинают множиться, накладываться друг на друга, и в конце концов на смену пустым «романтическим» грезам Тибурция приходит положительно-«классическое», пусть и любительское произведение искусства, украшающее его супружеский быт (новелла заканчивается его помолвкой с Гретхен).