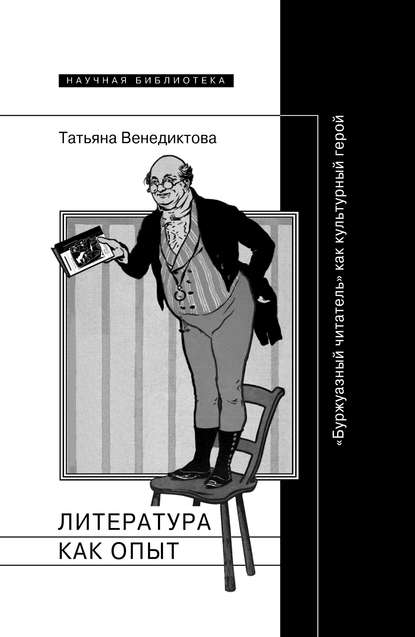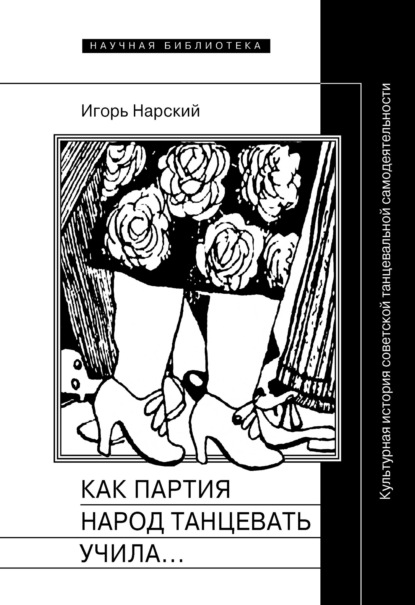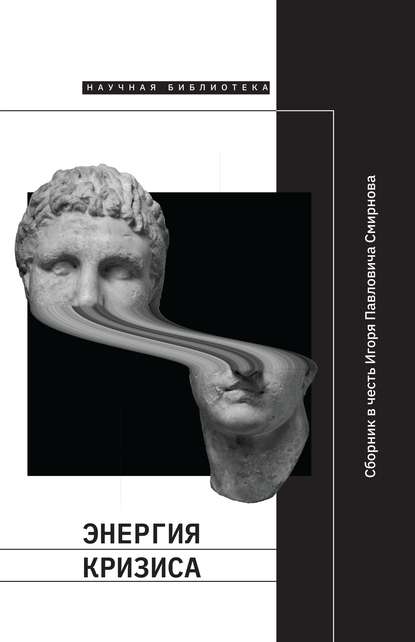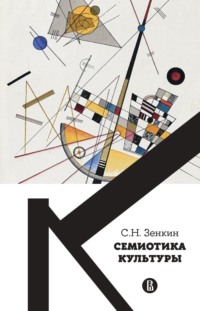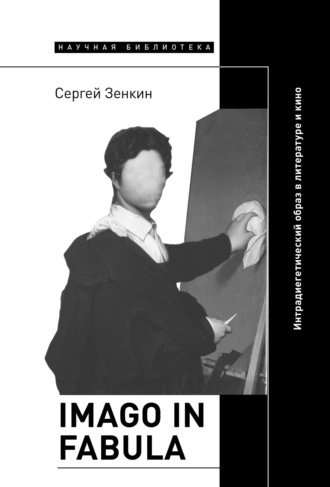
Полная версия
Imago in fabula. Интрадиегетический образ в литературе и кино
Глаза, «вырезанные из живого человека», – по-видимому, реминисценция из «Песочника» Гофмана; а слова о «высоком наслаждении, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет», отсылают к неоклассической эстетике Шиллера, к идее преодоления содержания формой. Невозможность такого Aufhebung’а, ощущаемая героем повести, как раз и означает, что перед ним не послушно-классический, а «дикий» интрадиегетический образ, не поддающийся смысловой редукции.
Подвижные глаза на неподвижном искусственном изображении – этот эффект также и в «Омфале» Готье предшествует сцене, где вся фигура дамы, одетой в львиную шкуру Геракла, оживает и сходит со шпалеры: «Когда я раздевался, мне показалось, что глаза Омфалы зашевелились […]. Мне почудилось, что она повернула ко мне голову»[83]. Еще прежде, чем выйти из рамки, фантастический образ утрачивает свою фиксированность, начинает гримасничать и бросать взгляды наружу. В его непрерывной полноте выделяются дискретные точки, которые инородны по отношению к целому и вносят в него негативность, свойственную символическому порядку, тексту, повествованию, – а вместе с нею и амбивалентность. Визуальная культура романтической эпохи добивалась подвижности образа в модных технических зрелищах вроде фантасмагории[84], окончательно она овладела этим эффектом лишь позднее, с изобретением кинематографа. Пришедший в движение образ сам собой нарративизируется, становится «диегезисом» в кинематографическом смысле слова, приобретает свойственное повествованию процессуально-временное измерение, и эта подвижность предрасполагает его к металептическому включению в рассказ. Иначе происходит нарративизация в новелле Эдгара По: на самом овальном портрете ничто не движется, даже когда его рассматривает охваченный лихорадкой рассказчик, зато повествовательный элемент прибавляется к нему извне. В конце новеллы экфрастическое описание картины сменяется рассказыванием ее истории, объясняющей, что портрет убил изображенную на нем молодую жену художника; образ в очередной раз оказался двойственным, прекрасно-пагубным, его форма непримиримо противоречит содержанию.
Итак, в структуре художественного произведения амбивалентность интрадиегетического образа обусловлена его двойственной феноменальной природой: это образ, перестающий быть только образом, приобретающий черты повествовательной истории. Нарративность – словно инородная инфекция, проникающая в безупречную целостность образа и разлагающая его изнутри, как некое начало Зла. Эту внутреннюю двойственность могут рационализировать с помощью варьирующихся, относительно случайных внешних характеристик: как разрыв между христианством и язычеством («Мраморная статуя» Эйхендорфа, «Венера Илльская» Мериме, «Аррия Марцелла» Готье), как расхождение между этикой и эстетикой («Портрет» Гоголя, «Овальный портрет» По) или же просто как двойственные чувства юноши-подростка, с удовольствием и опаской переживающего свое первое любовное приключение («Омфала» Готье). Два «Портрета» (Гоголя и По) особо интересны тем, что в них амбивалентность образа получает обобщенную смысловую разработку, превосходящую образ как таковой: у По это легендарная история о том, как художественное изображение поглощает жизненные силы изображаемого человека, а у Гоголя – развернутая во второй части повести и генетически связанная с гофмановским «Эликсиром дьявола» теологическая антитеза «хороших» и «дурных» (божественных и инфернальных) образов.
Наконец, последняя общая черта фантастически оживающих визуальных образов – это их эфемерность. На временной оси она так же ограничивает их, как рамка – в пространстве. Ее опять-таки могут внешне мотивировать их призрачным, сверхъестественным характером, но в структуре повествования она тоже обусловлена их нарративизацией, а значит подвижностью и нестабильностью. При первом своем появлении интрадиегетический образ нередко возникает из какой-то неопределенной среды – из темноты, как овальный портрет перед глазами героя По[85], из земли, как Венера Илльская или же слепок тела Аррии Марцеллы, из груды картин на полу лавки, как портрет в повести Гоголя; по ходу повествования он то является, то пропадает, а в финале исчезает окончательно. Различаются две формы такого исчезновения – распад и потеря.
У Эйхендорфа исчезновение колдовской статуи сопровождается распадом, превращением в руины при дневном свете всего древнего здания, где герой новеллы видел ее ночью. У Гофмана уничтожение Олимпии происходит насильственно, в травматичном видении безумного героя: куклу рвут на части ее создатели (своеобразный вариант древнего жертвенного растерзания – спарагмоса), причем один из них вырывает у нее глаза. В «Аррии Марцелле» Готье образ тоже распадается по чужой воле: колдовской симулякр женщины, пораженный проклятием ее отца-христианина, рассыпается в «горсть пепла, смешанного с обгорелыми обломками костей»[86]. Может показаться, что разрушением образа отменяется его амбивалентность; превращаясь в бесформенную субстанцию, образ сводится к своему ценностно нейтральному материальному носителю. За этими вариативными субстанциями скрывается повествование как таковое, которое и поглощает визуальный образ; оно не может рассыпаться в прах, потому что оно – текст, лишенный собственной материальной субстанции. Выясняется, однако, что оно тоже может «заразиться» амбивалентностью уже исчезнувшего образа.
В финале «Венеры Илльской» деревенские жители, напуганные бедами, которые навлекла на них статуя языческой богини, решают уничтожить ее, превратив в предмет христианского благочестия:
Мой друг г-н де П. пишет мне из Перпиньяна, что статуи больше не существует. После смерти мужа первой заботой г-жи де Пейрорад было переплавить ее в колокол, и в этой новой форме она служит в илльской церкви. Однако, добавляет г-н де П., можно подумать, что какой-то злой рок преследует владельцев этой бронзы. С тех пор как колокол звенит над Иллем, виноградники уже дважды померзли[87].
Уничтожив статую Венеры, люди не сумели до конца избавиться от амбивалентного образа, и христианский колокол продолжает злые дела языческого идола. Если вначале, пока Венера существовала как статуя, ее ярость можно было связывать с ее искаженной формой (с «лукавством, доходящим до злобы», которое читалось на ее лице) и вычитывать из древних надписей, которые она несла на себе, то после ликвидации всех этих отчетливых форм стихийная ярость, свойственная существам сакрального мира, перешла из формы в субстанцию – бронзу, из которой отлит колокол. Бронза перестала быть нейтральным веществом, носителем форм, и сама по себе, независимо от этих форм, сделалась носителем пагубной энергии. Таков еще один своеобразный вариант металепсиса: с уничтожением античной статуи исчез, утратил отдельное существование вторичный визуальный мир, который она воплощала[88], он влился в первичный мир французской деревни XIX века, но продолжает в нем свирепствовать уже вне визуального выражения – его больше нельзя видеть, о нем можно лишь повествовать в общих терминах. Как уже сказано, фантастические образы являются «дурными» в силу своей повествовательности – постольку, поскольку они не совсем образы; так и в «Венере Илльской» после гибели образа именно повествование, продолжающее рассказ о нем, фактически продолжает и его злодеяния, объявляя виновником металл, из которого была отлита статуя.
В дискурсивной структуре новеллы знаками металепсиса служит здесь несобственно прямая речь, приписанная суеверным и, следовательно, не заслуживающим доверия жителям Илля; г-н де П., автор заключающего новеллу письма, как будто пересказывает чьи-то чужие слова, деревенские слухи: «можно подумать, что…» На уровне же тематики вводится дополнительный мотив – сокращение масштабов и комическое принижение ущерба, указывающие на несоразмерность двух миров: если «при жизни» Венера поражала своих жертв драматически и с жестокой прямотой (один человек погиб, другой покалечился, еще одна девушка лишилась рассудка), то ее «посмертная» месть выражается прозаично и диффузно – в плохом урожае, затронувшем все виноградники в округе.
В «Портрете» Гоголя тоже образы превращаются в бесформенную массу: живописец Чартков, сошедший с ума и патологически завидующий чужим шедеврам, скупает эти картины и режет их на мелкие кусочки. «Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель»[89]. Куча обрезков, частиц былых образов, которую он хранил дома и которую нашли после его смерти, в композиции повести симметрична куче скверных картин, из которой в начале своей истории он извлек колдовской портрет[90].
Так происходит распад образа, растворяющегося в течении рассказа; но есть и другие случаи, когда он не дезинтегрируется, а оказывается утрачен, затерян среди других объектов. Эту потерю удобно мотивировать торговлей, ее стремительной циркуляцией товаров. Шпалера с Омфалой из новеллы Готье, потерянная из виду рассказчиком, в какой-то момент вдруг вновь обнаружена им в лавке редкостей, но сразу вслед за тем исчезает уже навсегда, прежде чем рассказчик успевает ее выкупить:
Я вернулся с деньгами – шпалеры уже не было. Во время моего отсутствия ее сторговал какой-то англичанин, дал за нее шестьсот франков [на двести франков дороже. – С. З.] и увез ее с собой[91].
Повесть Гоголя в окончательной редакции содержит две части, две истории одного и того же портрета, рассказываемые одна за другой и образующие единый текст. Весь этот текст начинается и заканчивается сценами торговли: сначала на петербургском рынке, где Чартков покупает портрет у лавочника, а затем во время аукциона, где та же картина таинственно пропадает, не успев вновь включиться в коммерческий оборот:
Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза, или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин[92].
В этой развязке выделяется несколько мотивов. Во-первых, новое выставление образа на продажу влечет за собой его исчезновение: еще прежде, чем быть кем-либо купленной, картина сама собой исчезает, и гипотеза о ее краже, высказанная неизвестно кем («…послышались явственно слова…»), звучит ненадежной попыткой рационализировать нарративную фатальность. Эта гипотеза заслуживает так же мало доверия, как и последняя фраза новеллы Мериме, где передавались толки суеверных крестьян. Во-вторых, у Гоголя портрет исчезает в окружении «старинных картин», то есть в массе других образов (откуда он и был извлечен в начале повести, при покупке на рынке), возвращаясь в игру символических подмен, где одно изображение отсылает к другим. В-третьих, материально воплощенное художественное произведение, снабженное рамой, обладавшее долгой историей и, надо полагать, адекватной рыночной ценой, которая должна была выясниться на торгах, в финале утрачивает всякую материальность и превращается в эфемерную «мечту». Если первая часть повести композиционно заканчивалась насильственным истреблением образов, разрушением их формы (Чартков рвет и режет чужие картины), то вторая – исчезновением самой субстанции портрета, отменой его реального бытия.
Итак, рассказ в процессе своего развертывания разрушает фигурирующие в нем визуальные изображения, срывает их с мест, отнимает у них устойчивое существование и сводит их к чистым иллюзиям, «мечтам» более или менее поврежденного ума. Две формы их нарративного исчезновения – гибель и потеря – соответствуют двум вариантам судьбы обычных персонажей романа или новеллы: история может закончиться смертью человека или просто прекращением рассказа, когда дальнейшая жизнь героя (возможно, счастливая) теряется в неизвестности. В данном же случае это две формы повествовательной интеграции образа, две формы вербально-визуального металепсиса – переноса в рассказ образа, доведенного до своего логического предела.
***Обрамленность, амбивалентность и эфемерность фантастических образов делает их негативно сакральными существами – призраками, не обязательно связанными с какой-либо религиозной традицией; ее нет, например, в «Песочнике» Гофмана, и ее шутливо отвергает героиня «Омфалы» Готье – «для черта я не слишком черна». Обрамление образа означает его обособление, помещает его в разряд «совершенно иных» объектов; амбивалентность таких объектов (добрая/злая сила, привлекательность/отвратительность) составляет одно из базовых свойств сакрального[93]; наконец, эфемерность фантастического образа, исчезающего в устойчивом мире повествования, сближает его с особым классом феноменов сакрального – с «нуминозным», то есть с мгновенным явлением потустороннего существа[94]. Романтическая фантастика содержит новейшую, эстетизированную форму сакрального, и интрадиегетический визуальный образ, благодаря своей изначальной инородности по отношению к рассказу, куда он включен, хорошо подходит для такой функции. Его потусторонность – не только тематический мотив, но и результат работы повествовательных приемов, подчеркивающих напряжение между двумя мирами, между субстанциальной полнотой образа и формальной дискретностью рассказа.
При включении образа в рассказ он деформируется, меняет свою природу: образ внешний, зафиксированный на материальном носителе (на холсте, в бронзе и т. д.), становится образом внутренним, фантазматическим. Физический образ, «обрамленный» элементами душевного опыта (грезы, бреда и т. д.), сам смещается в область ментальных представлений; двойственные чувства, которые он вызывает, ставят его в один ряд с зыбким обманом зрения; а при исчезновении образа он, как в повести Гоголя, утрачивает всякую чувственную плотность и уподобляется «мечте». Образцовым является случай «Аррии Марцеллы» Готье: героиня, первоначально увиденная в виде материального слепка, музейного экспоната, в финале превращается в фантомную фигуру из сновидения. Можно сказать, что история интрадиегетического образа в фантастических рассказах романтизма разыгрывается между двумя разными значениями слова «образ»: «материальное изображение» и «психическое представление». Тексты, где происходит эта игра, сами выступают в двух аспектах – как описание внешних форм и событий и как выражение аномальных процессов внутренней жизни.
С точки зрения классификации текстов выделенные черты не специфичны для фантастических рассказов и могут быть свойственны другим сюжетам с интрадиегетическими образами. Таков, например, «Неведомый шедевр» Бальзака, который будет подробно рассмотрен в следующей главе. Эта новелла была названа автором (при первой публикации) «фантастической», но в ней не происходит металептического «оживления» образа и вообще нет ничего такого, что можно было бы считать «нереальным»; тем не менее в ней налицо все три другие, производные черты фантастических рассказов об образе. Функционируя как повествовательная «рамка», ее текст отделяет читателя от таинственной, скрываемой художником картины, подчеркивая ее предполагаемую ценность; художник вкладывает все силы в создание своего шедевра, который амбивалентно воздействует на него – одновременно и вдохновляет и морально разрушает; в конце концов этот образ, который описывался как безупречно совершенный, исчезает словно мираж, оставляя перед рассматривающими картину зрителями лишь бесформенную смесь красок. Итак, фантастические рассказы романтической эпохи и определяющий их вербально-визуальный металепсис – это лишь особо наглядный «хороший пример» более общей художественной конфигурации, которая встречается и в других литературных жанрах и даже в других искусствах (например, в кино). Слово и визуальный образ – не просто взаимодополнительные художественные средства, но противоположные элементы культуры, они могут подавлять друг друга; романтическая фантастика эффектно инсценирует их конфликт в литературном тексте.
Глава 2
Натурщица и шедевр
(Бальзак и его продолжатели)
Новелла «Неведомый шедевр» (Le Chef-d’œuvre inconnu, 1831) – знаменитое, едва ли не самое комментируемое произведение Оноре де Бальзака. Она занимает всего два-три десятка страниц, но ее анализу посвящено несколько специальных монографий и множество статей, большинство из которых вышло в 1980-е годы, в пору подъема литературно-теоретических исследований во Франции. Действительно, здесь есть о чем размышлять теории. Взаимодействие визуального и словесного начал, вообще очень характерное для прозы Бальзака[95], принимает в этой новелле специфическую форму: визуальные образы не просто используются как средство словесной репрезентации, но и получают интрадиегетический статус, сами служат предметом повествования. В текст введены пространные рассуждения о живописи, большинство персонажей – профессиональные художники, в сюжете фигурируют их произведения (в том числе одно совершенно необычное по структуре)[96], а почти все излагаемые события представляют собой различные действия по отношению к этим произведениям. Главное же, специфически подвижное устройство текста облегчает вторжение в него инородного визуального объекта.
Колышущийся текст
Динамика любого словесного выражения имеет два измерения – парадигматическое и синтагматическое. В первом аспекте текст меняется в ходе переработок и переизданий, во втором – развивается по мере развертывания от начала к концу.
Новелла «Неведомый шедевр» впервые была опубликована в 1831 году в журнале «Артист» и в дальнейшем при жизни автора несколько раз перепечатывалась в книжных изданиях, существенно при этом изменяясь (в 1831, 1837, 1846 и 1847 годах); разные ее редакции печатаются по сей день[97]. Если сравнивать их между собой (или читать комментарии, где проделано такое сравнение), то бальзаковский текст кажется не столько жесткой конструкцией, сколько зыбкой массой, которая колышется, раздувается в одних местах и съеживается в других. Такая парадигматическая подвижность вообще типична для текстов Бальзака[98]; ей соответствует и синтагматическая неоднородность рассказа, развивающегося неравномерно: он то вздувается богатством подробностей, то скукоживается до краткого конспекта или даже проваливается в повествовательную лакуну, не сообщая толком ничего о важнейшем, ключевом эпизоде[99]. Повествовательная техника Бальзака – приемы фокализации, замена «объективного» повествования прямой и косвенной речью персонажей, ряд более или менее умышленных умолчаний и противоречий – позволяет поддерживать двусмысленность в трактовке ряда мотивов новеллы, включая прежде всего сам «неведомый» и невидимый читателю шедевр[100].
Пьер Лобрие, посвятивший целую докторскую диссертацию «Неведомому шедевру», так резюмировал смысл поправок, внесенных Бальзаком в первоначальную версию своего текста: «К философской новелле 1831 года прибавилась новелла о живописи…»[101] Действительно, в ходе правки, особенно в редакции 1837 года, Бальзак значительно расширил «живописную» тематику, добавив пространные тирады художника Френхофера о своем искусстве. Все это привлекает повышенное внимание к центральному визуальному образу – картине Френхофера, однако поправки имели результатом не только тематический, но и структурный, перспективный сдвиг. Так, последовательно устранялись металитературные комментарии автора к собственному тексту, например:
…но искусства настолько больны, что было бы преступно еще создавать картины в литературе; оттого мы из учтивости обычно соблюдаем сугубую сдержанность в образах (с. 1412, комментарии)[102].
Иного рода купюра сделана при описании произведения одного из персонажей – работавшего во Франции фламандского живописца Франса (Франсуа) Порбуса (историческое лицо, ок. 1569–1622). В первоначальном, журнальном тексте рассказчик подробно излагал дальнейшую историю этой картины, доводя ее до своего времени, а после правки от нее осталась лишь одна первая фраза:
Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды; и во время нашего вторжения в Германию (1806) один капитан артиллерии спас его от неминуемого уничтожения, спрятав в своем чемодане. Он был покровителем искусств и предпочитал подбирать, а не красть. Его солдаты уже пририсовали усы святой покровительнице кающихся грешниц и, в пьяном кощунстве, собирались использовать ее как мишень для стрельбы – бедной святой даже на картине пришлось покоряться своей судьбе. Сегодня это великолепное полотно находится в замке Гренадьер, недалеко от Сен-Сира в Турени, и принадлежит г-ну де Лансе (с. 1412, комментарии / 373)[103].
Резкое сокращение истории картины с ее анекдотическими подробностями, так же как и исключение металитературных комментариев, обрубает связи между рассказываемыми событиями и моментом рассказывания о них[104]. В новой редакции текста границу между ними больше не пересекают ни рассказчик, фамильярно перебивающий сюжетное действие своими комментариями, ни искусство живописи, способное пережить много поколений и приключений и дойти до наших дней в неизменности[105]. Такое изъятие из текста фигур металепсиса – одно из средств его драматизации: найдя в 1830-х годах свой оригинальный стиль повествования, Бальзак начал писать романы с драматическим сюжетом, составившие впоследствии «Человеческую комедию»; в том же направлении он и корректирует «Неведомый шедевр», вплоть до введения (в 1837 году) мелодраматической концовки – безумия и смерти героя, которые отсутствовали в первоначальной редакции.
Драматизм предполагает замкнутость фикционального мира, отделенного непроходимой границей, словно классической театральной рампой, от мира, где находится читатель/зритель. Между «тогдашним» и «нынешним» временем, между «сценой» и «залом» не должно быть ни словесного, ни визуального двустороннего контакта, они не могут ни переговариваться, ни переглядываться друг с другом. Оттого Бальзак не дает никаких намеков на будущую художественную карьеру одного из исторических персонажей новеллы – Никола Пуссена; оттого и рассуждения о живописи излагаются не от лица современного рассказчика, а устами одного из действующих лиц – вымышленного художника Френхофера, в 1612 году[106].
Особенно важно, что этот эффект дистанции распространяется не только на теорию живописи: ее практика, ее произведения тоже описываются по большей части персонажами новеллы, пропускаются через их восприятие. Рассказчик самое большее сообщает кратко-«инвентарную» характеристику картины, с самой общей оценкой: «Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке» (с. 416/373); «это был „Адам“ – картина, написанная Мабузе затем, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали заимодавцы. Вся фигура Адама полна была действительно такой мощной реальности…» (с. 423/380); «великолепный портрет женщины» (с. 423/381); «оба они остановились сначала перед изображением полунагой женщины в человеческий рост…» (с. 435/393). Любые более подробные описания этих произведений даются либо в репликах героев, либо от лица рассказчика, но со ссылками на их зрительный опыт: «Подойдя ближе, они заметили в углу картины…» (с. 436/394). Превосходно владея искусством экфрасиса – примером тому хотя бы описание внешности Френхофера, уподобленное описанию картины Рембрандта (см. выше, прим. 1 на с. 65), – Бальзак систематически избегает пользоваться им от собственного имени, передоверяет его другим, вымышленным зрителям, как только дело доходит до описания собственно художественных визуальных объектов. Если продолжить сравнение с драмой, то каждая из картин в новелле словно вывешена на сцене обратной стороной к зрителю, так чтобы он сам не мог ее видеть и, словно пленник платоновской пещеры, судил о ней лишь по косвенной информации – в данном случае со слов действующих лиц[107]. Этот прием работает особенно впечатляюще применительно к главной из картин – «неведомому шедевру» Френхофера, который показан нам исключительно глазами самого художника и двух его коллег, причем их впечатления резко расходятся: где один видит изображение прекрасной женщины, другие обнаруживают лишь бесформенный «хаос красок» (с. 436/394).
Эти два видения, противоречие между которыми остается неразрешимым из-за недомолвок рассказчика (как на самом деле выглядела картина?), соответствуют двум формам познания, сталкивающимся в новелле и более или менее привязанным к двум ее героям. Иногда их пытаются различить как обучение и инициацию[108], скорее же нужно говорить об оппозиции профанного и сакрального (мистического) знания.