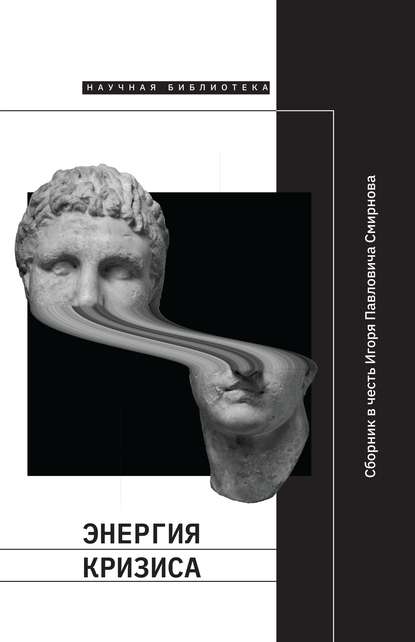Полная версия
Imago in fabula. Интрадиегетический образ в литературе и кино
Сюжетов с интрадиегетическими образами существует много, и монография не претендует на сколь-нибудь исчерпывающий их охват. Для анализа – где детального, где более схематичного – выбирались, как правило, наиболее сложные и содержательные тексты и фильмы, наиболее значительные произведения разных национальных культур. Многие из них относятся к классике мировой литературы и кино, и о них написано немало критических работ, важных для новой концептуальной интерпретации; эта интерпретация ведется как теоретическое перечитывание, перерабатывающее драгоценный опыт прежних, конкретно-герменевтических прочтений.
Критическая традиция играет огромную роль не только на эвристическом, но и на верификационном этапе исследовательской работы – как для поиска, так и для проверки аналитических идей. Изучая широкий, разнородный по форме и происхождению материал, сочетая методы разных дисциплин (филологии, искусствоведения, философии), есть опасность вырвать факты из контекста, подменить доказательный анализ случайными аналогиями и вкусовыми суждениями. Избежать этой опасности можно двояко: во-первых, систематически соотносить конкретные наблюдения с общими идеями, добытыми теорией, во-вторых, контролировать эти наблюдения эмпирическими знаниями историков литературы и кино. Теоретическая основа монографии кратко охарактеризована выше; что же касается историко-культурной проверки, то ей были подвергнуты практически все главы книги. Большинство из них публиковалось в научной печати (см. библиографический список в конце книги), многие из них я имел случай представить в виде докладов на конференциях и семинарах. Например, глава 9 (о «Медном всаднике» Пушкина) прошла целых четыре таких обсуждения в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Тарту – и обогатилась рядом соображений, подсказанных их участниками, филологами-русистами.
***Я глубоко признателен коллегам, взявшим на себя предварительное прочтение нескольких глав и/или высказавшим к ним свои замечания и пожелания. Перечислить всех, кто интеллектуально содействовал написанию книги, невозможно, но вот только некоторые их имена: Маргарита Балакирева, Алина Бодрова, Жером Бургон, Ольга Вайнштейн, Ксения Вихрова, Ханс Ульрих Гумбрехт, Илья Доронченков, Лия Ермакова, Александр Жолковский, Евгения Иванилова, Юлиана Каминская, Андрей Костин, Олег Лекманов, Наталья Мазур, Ольга Майорова, Вера Мильчина, Мария Надъярных, Никита Охотин, Абрам Рейтблат, Игорь Смирнов, Андрей Топорков, Александра Уракова, Анастасия Фомина, Ольга Этингоф, Михаил Ямпольский.
Работа над монографией шла параллельно с другими трудами и растянулась примерно на пятнадцать лет. Ее поддерживали два университетских центра, сотрудником которых я состою, – прежде всего Институт высших гуманитарных исследований РГГУ, все эти годы с пониманием относившийся к долгосрочности моего проекта, а с недавних пор еще и Санкт-Петербургский филиал Высшей школы экономики. Я пользовался длительными научными стажировками во Франции (по стипендиям парижского Дома наук о человеке и Лионского коллегиума), Великобритании (по стипендии Фонда Михаила Прохорова) и Соединенных Штатах Америки (по Фулбрайтовской стипендии), что позволяло работать в Национальной библиотеке Франции, Библиотеке Дидро (Лион), Британской библиотеке, библиотеках Шеффилдского и Стэнфордского университетов. То были редкие для российских ученых, близкие к идеальным условия для исследования. Настоящая книга – попытка оправдать этот выпавший мне шанс.
Несколько глав были опубликованы или даже изначально написаны на французском языке, но вся монография печатается по-русски. Ее концепция в значительной мере питается идеями французской философии и литературной теории, а в изучаемом интернациональном материале преобладают произведения французской культуры. Однако с их анализом соседствуют – впервые в моей профессиональной практике – и разборы нескольких текстов русской словесности. Мне казалось важным свести вместе под одной книжной обложкой, в едином концептуальном взаимодействии эти две интеллектуальные и художественные традиции, которым я равно обязан и благодарен, две национальные культуры, одна из которых для меня – родная, а другая – воспитавшая. Культура-мать и культура-наставница: материя мысли и ее форма.
Москва, 17 ноября 2021Со времени написания книги произошли катастрофические события, которые государственная цензура в России запрещает называть всем известным именем; они поставили под вопрос достоинство российских университетов и русской культуры и сделали смерть и разрушение одним из главных предметов рассказов и визуальных изображений. Не желая здесь торопливо прикасаться к этой новой кровоточащей проблематике, оставляю свой довоенный текст неизменным.
С. З.Иллюзия
Глава 1
Образ-призрак
(Романтическая фантастика)
Интрадиегетический образ – один из частых «персонажей» в литературных сюжетах эпохи романтизма. Особенно широкое распространение получил мотив оживающего изображения; он встречался и в культуре прежних эпох, но у романтиков получил особое повествовательное оформление, которое стали называть фантастикой. Мы попытаемся выделить общие черты ряда фантастических новелл и повестей, определив структурный инвариант романтической фантастики, в той мере, в какой она создается введением в сюжет визуальных образов[58].
Известно, что и сам термин «фантастика» в его специальном литературно-художественном смысле, и обозначаемый им эстетический эффект возникли именно в романтической культуре, причем этот эффект определяется не просто использованием сверхъестественных мотивов. Последние широко применялись и раньше, но обычно сводились к значащим, семантизированным элементам рассказа или изображения (гении, чудовища, превращения и т. п.). Классическая культура стремилась осмыслять «чудесное» как аллегорию, которая если не изначально заложена в произведение автором, то может быть вычитана искусным толкователем, умеющим определить ее значение. Романтизм переместил сверхъестественные мотивы с «классической» оси реальность/аллегория на «барочную» ось реальность/иллюзия[59], структурируя по ней восприятие не только читателя/зрителя, но и героя, сталкивающегося с чем-то принципиально необъяснимым. Эти мотивы начали служить не для иносказательного сообщения значений, а для прямого, незнакового воздействия: такую странную, нередко тревожную и пугающую иллюзию – переживание невероятных и, что важно, неосмысленных событий как реальных – стали называть «фантастикой»[60].
По сравнению с литературой барокко у писателей XIX века появилось новое средство для создания повествовательной иллюзии – техника фокализованного рассказа, соотнесенного с «точками зрения» разных персонажей. Она позволяла вводить в повествование ненадежного свидетеля – в частности, героя-визионера, чей опыт подробно документируется, нередко излагается от первого лица и требует серьезного отношения к себе, но при этом явно не согласуется с нормами бытового правдоподобия, со знаковыми кодами, посредством которых мы обычно читаем мир, наделяем его смыслом. Благодаря такому исключительному семиотическому статусу эффект фантастики смыкался с «эффектом реальности»[61], а литературная фантастика XIX века была оборотной стороной сложившегося в ту же эпоху литературного «реализма»: исследуя границы того, что считается «реальностью», она побуждала сопереживать чужому личному опыту, который несводим к собственному опыту читателя[62].
Одним из триггеров (разумеется, не единственным) такого проблематичного опыта служит в литературе оживающий визуальный образ, наглядно, по самой своей природе отличный от повествовательной цепи событий, куда он вторгается. Появляясь в фантастических рассказах романтизма, интрадиегетические образы подрывают иерархию символического и иконического, субординацию рассказа и образа. Рассказ дисконтинуален, соткан из отрицаний и замен (отрицаются ожидаемые, но не случившиеся повороты событий, одни события сменяют другие), а визуальный образ наделен целостной полнотой. В обычном литературном режиме он подчинен рассказу – например, однажды описанная внешность персонажа стабильно характеризует его во всех происходящих событиях; фантастика же выводит образ из такого подчинения, он сам обретает свойственную рассказу негативность, то есть инородность по отношению к нему.
Среди сверхъестественных мотивов романтической фантастики оживающий образ занимает второе место по частотности после призраков и привидений. Они сходны по способу бытия – онтологически чуждые реальному миру, возникающие откуда-то из неопределенного пространства (как в немецком безличном выражении es spukt, «здесь нечисто»), лишенные внутренней жизни и словно подглядывающие за людьми исподлобья[63]. Этим псевдосубъектам нельзя «сочувствовать», и потенциал читательской эмпатии всецело обращается на их свидетеля, чей опыт тоже плохо поддается усвоению. Таков тревожный эстетический «эффект призрака», производимый фантастическими изображениями.
На техническом уровне он создается коллизией двух уровней репрезентации – диегетического (то есть обрамляющего повествования – например, о жизни петербургского художника в «Портрете» Гоголя) и интрадиегетического (то есть включенного изображения – например, таинственного старика на магическом портрете). Действительно, что значит «статуя или картина оживает»? Главное здесь не то, что она приходит в движение, – такой мотив легко найти и во множестве обычных экфрастических описаний: «кажется, фигура на холсте вот-вот зашевелится…» В романтической фантастике происходит иной, глобальный сдвиг – совмещение первичного мира, где пребывает визуальное изображение, с производным от него вторичным, внутриобразным миром, где существуют (существовали, могли бы существовать) изображенные персонажи и объекты. При нормальном режиме репрезентации эти миры четко разделены: даже если на семейном портрете или фотоснимке представлены живые и близкие ему люди, зритель понимает, что это не оригиналы, а копии, принадлежащие иной онтологической сфере, чем их прототипы. Любой материально реализованный образ устанавливает границу между двумя мирами – изображающим и изображенным, – а при его «оживлении» в фантастическом рассказе эта граница отменяется, перестраивая всю структуру бытия[64].
Склеивание разных уровней репрезентации, когда миры вставного и обрамляющего рассказа/изображения сообщаются, так что некоторые элементы переходят из одного в другой, называют в нарратологии металепсисом[65]. Так бывает и в вербальном повествовании, и в кино, и даже в статичных визуальных искусствах, лишенных временной развертки, – например, в живописи Рене Магритта или графике М.-К. Эшера[66]. В литературе начиная с XVIII века металепсис нередко применяют для создания эффектов игры или парадокса – как в романе Дени Дидро «Жак-фаталист и его хозяин» (Jacques le Fataliste et son maître, 1765–1780), где рассказчик то и дело вмешивается в ход излагаемой истории, сообщая, что сочиняет ее прямо по ходу рассказа; или же в новелле Хулио Кортасара «Непрерывность парков» (Continuidad de los parques, 1956), где персонаж некоей книги в развязке сюжета убивает… ее читателя. При обычном литературном металепсисе вставной рассказ плавно переходит в обрамляющий (или наоборот), что облегчается их структурной однородностью: оба они – словесные повествования. Напротив того, интрадиегетический образ и литературный рассказ, куда он включен, структурно разнородны: первый отличается от второго целостно-зрительным, а не артикулированно-текстуальным характером, а также отсутствием временной развертки[67]. Их столкновение принимает формы зрелищные и конфликтные, переживаемые персонажами.
Можно сказать, что в фантастических рассказах с интрадиегетическими образами происходит смешанный, вербально-визуальный металепсис. Чаще всего он является, в терминах Женетта, «восходящим»: персонаж вторичного, внутриобразного мира восходит до мира первичного, где находится сам образ, – это и есть его «оживление». Обратный, «нисходящий» металепсис, когда персонаж первичного, внешнего мира погружается во вторичный мир образа, встречается скорее в сказочно-феерических произведениях романтизма: например, маленькая героиня сказки Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» (Nußknacker und Mausekönig, 1816) попадает в волшебную страну, населенную куклами – искусственными подобиями людей. Во «взрослом», собственно фантастическом варианте такой сюжет сравнительно редок у романтиков; охотнее других его применял Теофиль Готье[68] в своих «ретроспективно»-археологических новеллах, где древнее изображение прекрасной женщины оживает вместе со всей цивилизацией, откуда оно пришло. Так, новелла «Ножка мумии» (Le Pied de momie, 1841) рассказывает о фантастическом путешествии в Древний Египет, куда увлекла героя красавица-египтянка – посмертный симулякр, восстановленный как целое из части из ее мумифицированной ножки; а «Аррия Марцелла» (Arria Marcella, 1852) – также об эротическом «нисхождении» современного мечтателя в ожившие Помпеи, одну из обитательниц которого он узнал по посмертному муляжу[69].
Один из определяющих признаков интрадиегетического образа – ощутимость его рамки; так и необходимым условием вербально-визуального металепсиса в романтической фантастике является четко отмеченное в тексте обрамление образа. Окружающая рамка отделяет образ от первичного мира рассказа, подготавливает и задерживает их соприкосновение.
Субстанции и формы таких рамок различны. Это может быть рама в точно-живописном смысле слова – например, приобретенная по случаю вместе с картиной в начале повести Гоголя «Портрет» (1842). Она упоминается уже при первом описании – «…перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты»[70], – а в дальнейшем эта рама оказывается чудесной: новый владелец картины, художник Чартков, обнаруживает в ней сокровище – сверток с золотыми монетами, как будто бы изображенный на портрете старик вложил их в раму изнутри. Рамкой может служить пьедестал, выполняющий в скульптуре ту же роль семиотической границы между «искусством» и «жизнью»[71]. Рассказчик новеллы Проспера Мериме «Венера Илльская» (La Vénus d’Ille, 1837) бравирует пересечением этой границы, залезая на цоколь статуи, изображающей античную богиню: «Я без особых церемоний ухватился за шею Венеры, с которой уже начал вести себя по-свойски»[72]. Функцию рамки выполняет особая оптическая структура, в которую включено созерцание образа: герой «Песочника» («Песочного человека» / Der Sandmann, 1815) Гофмана впервые видит свою Олимпию – куклу-автомат, которую он принимает за живую барышню, – в проеме двери, а потом наблюдает за нею сквозь волшебную подзорную трубу в окне дома напротив (эта его наблюдательная позиция, визуально заключающая фигуру красавицы в раму двух окон, мистически предопределена: дом, где он раньше жил, сгорел при пожаре, и ему пришлось переселиться в другой, как раз через улицу от квартиры, где проживает «отец» Олимпии)[73]. Рамкой может быть эстетическая обстановка или атмосфера, куда помещен интрадиегетический образ: в новелле Готье «Омфала» (Omphale, 1834) гобелен, мифологическая героиня которого в дальнейшем оживет и окажется соблазнительной дамой прошлого столетия, висит на стене в старинном павильоне; подробным описанием его старомодной обстановки автор добивается первичного эффекта эстетической дистанции. Наконец, рамочную роль может играть само повествовательное время, в течение которого герой рассказа – и читатель вместе с ним – приближается к образу. Так, в новелле Йозефа фон Эйхендорфа «Мраморная статуя» (буквально «мраморный образ», Das Marmorbild, 1819) героя долго и постепенно подводят к встрече с таинственным изваянием – сначала через галантное празднество в городе, куда он приехал, потом через ночное блуждание среди руин древнего здания; а рассказчик «Овального портрета» Эдгара По (The Oval Portrait, 1842) долго сидит перед картиной, не замечая ее, и даже заметив, вновь добровольно закрывает глаза, чтобы «выиграть время», оттянуть прямое столкновение с образом:
Долго, долго я читал – и пристально, пристально смотрел. Летели стремительные, блаженные часы […]. Я быстро взглянул на портрет и закрыл глаза. […] Я хотел выиграть время для размышлений – удостовериться, что зрение меня не обмануло, – успокоить и подавить мою фантазию ради более трезвого и уверенного взгляда[74].
В новелле По временная «рамка» дублируется пространственной, образуемой другими живописными произведениями, которые окружают «овальный портрет», причем в тексте прямо упомянуты их собственные рамы:
На обтянутых гобеленами стенах висело многочисленное и разнообразное оружие вкупе с необычно большим числом вдохновенных произведений живописи наших дней в золотых рамах, покрытых арабесками[75].
Окруженный орнаментами и/или другими образами-отражениями, центральный образ производит завораживающее впечатление, подобно венецианскому зеркалу. Последнее высоко ценилось в романтической культуре, и ему приписывали магическую силу: Теофиль Готье упоминает его среди обстановки павильона в своей «Омфале» («Венецианское зеркало было кокетливо окружено гирляндой из розочек»)[76], а в другой его новелле «Онуфриус» (Onuphrius, 1832) герою в венецианском зеркале является дьявол. Можно сказать, что и само завороженное или онейрическое состояние, в котором находится персонаж, сталкивающийся с фантастическим образом, служит психологической рамкой для этого образа, отделяет его от «нормального» мира: таков, например, нарастающий психоз гофмановского героя, к которому в зрелом возрасте возвращаются детские страхи перед таинственным «Песочником»; такова же лихорадка страдающего от раны рассказчика в новелле По, таков и беспокойный сон Чарткова в повести Гоголя – серия сновидений, вложенных одно в другое и образующих ряд подчиненных друг другу интрадиегетических микрорассказов, ряд переживаемых рамок вокруг главной сцены, где герою наконец явится оживший старик с портрета.
Нарративный статус этих рамок столь же разнообразен, как и их субстанция и форма: одни (рамы «реальных» картин) обозначаются в рассказе и служат элементами фикционального мира, где живут персонажи, другие же (например, время, предшествующее явлению образа) реализуются в самом процессе высказывания/рассказывания и переживаются читателем текста. Однако функция у них одна и та же: маркировать границу между фигурой и фоном, между воображаемым и символическим; рассказ должен четко провести эту границу, чтобы затем эффектно нарушить ее, когда образ придет в движение. Нередко рамку главного, оживающего образа составляют другие, второстепенные зрительные изображения: у Эйхендорфа статуя Венеры является герою в окружении иных античных скульптур, у Гоголя одной из «рамок» фантастического портрета служит убогая рыночная лавка, где Чартков обнаруживает его среди скверных картин, навалом сложенных на полу. Это напоминает не столько рамы современной живописи (обычно простой, непримечательный багет или даже полное его отсутствие), сколько массивные и богато орнаментированные классические рамы; проводя границу между «искусством» и «жизнью», такая рамка по собственной форме сама склоняется в сторону «искусства».
Особо сложным примером обрамления – вернее, переобрамления, реконтекстуализации интрадиегетического образа – является «Аррия Марцелла» Готье. В ней сначала появляется материально-физический образ древней помпеянки – слепок ее тела, сохранившийся в застывшей лаве после рокового извержения Везувия; герой новеллы, молодой француз Октавьен, видит его в неаполитанском музее (первая, институциональная рамка). На следующую ночь, очутившись во сне (вторая, онейрическая рамка) в ожившем древнем городе (нисходящий металепсис), Октавьен гуляет по его улицам, наблюдает его быт, обычаи, смотрит театральный спектакль (третья, культурная рамка) и лишь после этого встречается с самой Аррией Марцеллой, которая мнится ему живой, а «в действительности» оказывается призраком – демоническим симулякром, готовым мгновенно рассыпаться в прах. Для того чтобы подготовить и обрамить эту эпифанию желанного тела, явление фантазматического образа, оживает вся цивилизация Древнего Рима, а приключение Октавьена читается как движение от одного образа к другому и пересечение ряда последовательных рамок (повествовательных перипетий).
Фантастическому интрадиегетическому образу присуща амбивалентность. В ней отражается двойственное отношение людей к визуальному образу, проявлением которого являются, в частности, иконоборческие движения и запреты. В текстах эпохи романтизма она чаще всего мотивируется тем, что оживающий образ – это образ мертвеца, порой привлекательной и даже соблазнительной внешности. Многие такие истории о чарующе-опасных образах вписываются в более общую, широко применявшуюся романтиками сюжетную схему «потустороннего брака»; в таком сюжете, восходящем к мифологическим представлениям, человек вступает в любовно-брачный союз с существом из иного мира. Эта схема регулярно реализуется у Готье: в «Аррии Марцелле», где любовное путешествие в древние Помпеи начинается с созерцания отпечатка-муляжа женского тела, в «Ножке мумии», где отправной точкой «ретроспективного» приключения служит приобретение ножки египетской мумии, в «Омфале», где ожившая дама со старинной шпалеры – тоже человек из ушедшей эпохи, любвеобильная маркиза XVIII века[77].
Онтологическая инаковость оживающего образа сопровождается инаковостью культурной. Иногда это различие в религии: так, у Мериме Венера Илльская – языческий кумир, враждебный христианской цивилизации; она внушает ужас нашедшим ее французским крестьянам и не поддается успокоительно-аллегорическим интерпретациям, к которым пытается ее свести один из персонажей новеллы, провинциальный археолог-любитель. Так же и Аррия Марцелла у Готье – язычница, которую ее отец, суровый христианин Аррий Диомед, обличает как «ведьму»[78], злого демона в человеческом обличье. Религиозная мотивировка здесь идет параллельно с эстетической, амбивалентность образа проявляется в противоречии между его формой и содержанием: он сочетает в себе внешнюю красоту и нравственное зло, безупречную работу художника и моральное уродство изображенного персонажа. В литературе немецкого романтизма фантастические изображения особенно часто ассоциируются с Италией: об этой стране искусств мечтают художники Севера, но ее культура опасна своей языческой чувственностью, противоречащей романтическому спиритуализму. У Эйхендорфа колдовская мраморная статуя Венеры появляется в Италии среди античных развалин, а у Гофмана кукла-автомат Олимпия создана двумя шарлатанами с итальянскими фамилиями – механиком Спаланцани и оптиком Копполой; последний вставил в нее глаза, и в представлении главного героя «Песочника» это настоящие человеческие глаза, вырванные из чьего-то мертвого или даже живого тела, – чудовищный, буквально-телесный металептический перенос из мира людей в мир искусственных подобий[79].
Амбивалентность образа (статуи Венеры) подробно охарактеризована у Мериме, и его описание позволяет лучше понять структурный механизм этого эффекта, отличный от внешних повествовательных мотивировок:
То была не спокойно-строгая красота, величественная неподвижность, какую неизменно придавали всем чертам лица греческие ваятели. Здесь, напротив, я с удивлением видел, что художник отчетливо стремился выразить лукавство, доходящее до злобы. Все черты были слегка искажены: глаза немного скошены, уголки губ приподняты, ноздри чуть-чуть раздуты. На этом лице – при всем том невероятно красивом – читались презрительность, насмешливость, жестокость. Поистине, чем больше я смотрел на эту великолепную статую, тем тягостнее ощущал, что такая чудная красота может сочетаться с полной бесчувственностью[80].
Наметанным глазом знатока рассказчик новеллы замечает в скульптурном образе аномалию: этот образ недостаточно зафиксирован, вместо классической «величественной неподвижности» он «искажен» страстными гримасами, таящими угрозу. Сама подвижность образа делает его потенциально злотворным. У Гоголя сходную аномалию содержит портрет старика: у него фасцинирующие глаза, взгляд которых словно властно рвется из картины наружу. Уже в первой сцене повести этот взгляд заставил отшатнуться какую-то женщину на рынке («Глядит, глядит»)[81], а затем он тревожит Чарткова, когда тот дома рассматривает купленный им портрет:
Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслаждения, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство[82].