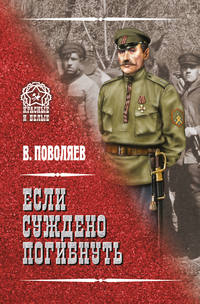Полная версия
День отдыха на фронте
Люба посмотрела на крохотные часики, украшавшие ее запястье на левой руке.
– До начала концерта – семь минут.
Ровно через семь минут перед оркестром возник Элиасберг – гибкий, в черном фраке, сам похожий на фалдочку от фрака, развевающуюся при ходьбе и живущую самостоятельной жизнью. Элиасберг был такой же подвижный.
Поклонившись оркестрантам, Элиасберг стал вслушиваться в разрозненные звуки инструментов, у которых оркестранты проверяли настройку, засек неполадки у одной из скрипок и погрозил пальцем рыжеволосой, похожей на колдунью скрипачке. Та кивнула в ответ: все понятно, мол, маэстро…
Маэстро наклонил голову и вслушался в звук другого инструмента, снова погрозил пальцем – на этот раз женщине, склонившей голову к тонкому черному грифу, украшенному блестящими бронзовыми ступеньками, – у той тоже что-то сбилось в настройке…
Когда начался концерт и послышались рокочущие, наполненные взрыдами и угрожающим стенаньем звуки симфонии, Вольт почувствовал, как у него неожиданно зашлось что-то в груди, сердце скользнуло куда-то вниз, он беззвучно втянул в себя воздух и затих.
Дыхание держал столько, сколько мог… Покосился на Любу. А для той перестало существовать все, кроме музыки и рук маэстро, обтянутых белыми перчатками, взметывающихся вверх, режущих воздух, потом плавно опускавшихся и снова взметывавшихся в высоту, зовущих за собою, на схватку со злом и смертью… Ленинградцы хорошо знали, что такое смерть, – знали и не боялись ее.
Вольт не заметил, как на глазах у него возникли слезы, глотку сжало что-то непонятное, опасное, – впрочем, он ведал, что это такое, научился сопротивляться боли, но сопротивляться не стал, – все-таки музыка есть музыка, у нее свои способы пленить человека и свои формулы пленения.
Неожиданно в середине зала что-то зашевелилось, задвигалось, раздалось протяжное многоголосое «О-о-ох!» – следом кто-то громко прокричал:
– Врача!
Дирижер засек непорядок в зале первым, резко, по-солдатски развернулся, взмахнул черной лаковой палочкой, звук завибрировал, уходя вниз, и героическая симфония растаяла в воздухе.
В то же мгновение в двух местах зала поднялись двое в шинелях, перепоясанных ремнями, – два врача, мигом переместились в центр и склонились над человеком, бескостно осевшем в своем кресле. В гнетущей тишине, возникшей в пространстве после того, как Элиасберг остановил горестный поток звуков, они разом выпрямились, и люди, находившиеся в зале, поняли, что помочь несчастному уже ничем нельзя.
Его вынесли из зала без носилок, – как в бою, – подхватили за ноги, за руки и в скорбном молчании направились к двери: вот еще у одного человека жизнь оборвалась.
Когда дверь за покойником закрылась, Элиасберг снова взмахнул своей магический палочкой, мигом погружаясь в мир иной, в который мало кто имеет возможность войти, заставляющий человека заплакать, и Вольт, наверное, заплакал бы, да только слезы не всегда появлялись, усталый голодный организм выделял их очень мало.
И что было печально – смерть человека в рядах концертного зала публика приняла как должное, – настолько смерть приелась ей и сделалась родной. Многие из тех, кто был здесь, с ней ложились ночью спать, утром с ней и вставали…
Смерть человека (хотя блокадник, как считало большинство присутствующих, это уже не человек) не помешала торжеству музыки, в итоге Элиасбергу хлопали долго, очень долго, но зал буквально взорвался грохотом рукоплесканий, когда Люба Жакова, сидевшая рядом с Вольтом, вдруг поднялась и по тесному проходу, заполненному моряками, устремилась к оркестру. На ходу, по-колдовски изгибаясь, она развернула бумажный кулек, который держала в руках, скомкала обертку, обнажая трогательно-нежные растения, цветом своим похожие на ночь, подступившую после затяжного вечера к людям, щемящую до тоски, лишенную бравурных – рыжих, малиновых и прочих ярких тонов.
Люба действовала как волшебница, никто даже предположить не мог, что она из бумажного рундучка вытащит живые цветы – живые! В зале словно бы душистым маем запахло… Аплодисменты звучали долго. И сухой, словно бы выжаренный холодом Элиасберг на них кланялся, кланялся, кланялся…
После Любы словно бы плотину прорвало – одна женщина с зелеными медицинскими петлицами на воротнике телогрейки, – в петлицах тускло поблескивали защитной краской железные капитанские шпалы, – передала дирижеру полное ведро картошки… Это был царский подарок, но все равно он не переплюнул цветы Любы Жаковой, – цветы были выше, они удивили, поразили каждого, кто находился в зале.
Дарили Элиасбергу не только цветы, после капитана-медика к дирижеру вышла еще одна женщина (о подарках думали только они, мужчины, пришедшие с передовой, этой возможности были лишены) и протянула Элиасбергу целую авоську морковки – свежей, дочиста отмытой, видать, недавно доставленной с Большой земли.
На глазах женщины блестели слезы.
– Спасибо вам, – негромко, глуховатым простуженным голосом проговорила она, оглянулась беспомощно – ей показалось, что дирижер не разобрал сказанного, а повысить голос она не могла, не было сил, но ее услышал не только дирижер, но и зал, женщина это поняла, протянула Элиасбергу авоську. – Не обессудьте, возьмите, пожалуйста!
Элиасберг взял. Голод по-прежнему держал питерцев в своих железных объятьях. На руках от голода возникали язвы, держались, гнили они долго, у многих язвы прилипали и к лицу… Лечить их можно было только одним – хорошей едой, больше, пожалуй, ничем…
На следующий день Вольт с Петькой решили сходить за мерзлой картошкой. Если осенью она для чибриков, конечно, годилась, но меньше, чем сейчас, то сейчас была в самый раз; и хотя оладьи-чибрики были внешне страшны, угольно-черны, вкусны были по-ресторанному, не меньше…
У Вольта, когда он думал о них, слюна мигом забивала рот.
Бывший огород нашли быстро, хотя узнали его не сразу; раньше он был обнесен жердями – оградой хоть и не очень надежной, но все же останавливающей разный народ, а сейчас ни одной жердины, ни одной штакетины не было – все выкорчевали, разломали, даже щепки и сучки подскребли… Все пошло на топливо.
Если зимой, чтобы спастись от холода, в печки-времянки (в Питере жактовские буржуйки повсеместно стали звать времянками) шли старые ценные книги, иногда очень ценные, то сейчас книги берегли, жгли всякий мусор, вот и сшибали везде что-нибудь, способное заняться огнем, дать хотя бы немного тепла… Жерди, старые заборы, планки от загородок кидали в огонь первым делом…
Границы поля стерлись, само поле стало комкастым, неровным, каким-то неряшливым, Вольт вопросительно глянул на Петьку:
– Слушай, а туда ли мы с тобой пришли?
Петька пожал плечами, ответил со странным спокойным равнодушием:
– Не знаю.
Похоже, что пришли они сюда рановато – поле по окоему было завалено снегом, макушки сугробов напоминали горные вершины, имели такие же острые твердые шапки, были облеплены оползнями льда, темнели выветренными боками… Непонятно было, какая нечистая сила здесь поработала.
А вот в середке своей поле словно бы проваливалось, уходило вниз; Вольту захотелось посмотреть, что же за преисподняя там образовалась? Глянул испытующе на напарника.
– Ну что, сходим?
Петька испуганно затряс головой:
– Да ты чего? Мы же там утонем и хрен когда выберемся.
Вольт разочарованно вздохнул.
– Эх, Петька, – только и выговорил он, – не будет из тебя героя Гражданской войны Петьки, который бил беляков вместе с Чапаевым.
Воткнул лопату в обледенелый бок сугроба, вырубил маленькую ступеньку, чуть выше соорудил вторую такую же ступеньку, затем третью и минут через десять уже находился внутри снежного ковша.
Как ни странно, снег внутри ковша был мягким, весенним, словно бы существовал в ином климатическом поясе, Вольт лопатой легко разгреб его до самой земли.
Удивленно покачав головой, воткнул лопату в землю и удивился еще больше, так удивился, что у него с носа чуть очки не соскочили: почва была мягкой, как каша, талой, словно бы проходила по теплоцентрали.
С первого же раза на поверхность вывернул большую, темную, как плотный комок торфа, картофелину, Вольт обрадованно кинулся к ней, подхватил сразу обеими руками. Потетешкал бережно в ладонях, будто драгоценный камень и, сунув в мешок, прокричал что было силы:
– Петька, сюда!
– Чего там? – Петькин голос донесся из далекого далека, словно бы с другого конца города.
– Как чего? Первая заготовка для роскошного чибрика успешно добыта. Лезь сюда, ординарец, не пожалеешь!
Петька, кряхтя, сипя досадливо, будто шахтер, которого загоняют в нелюбимый забой, забрался на снежный гребень, съехал на заднице вниз, в тихую выемку, схожую с горловиной вулкана. Оглядевшись, потребовал:
– Покажь добычу!
Вольт сунул руку в сумку, вытащил твердую темную картофелину, повертел ее в пальцах:
– Еще не чибрик, но чибриком будет!
Завистливо поцецекав, Петька всадил лопату в тонкую ледяную корку, под которой темнела земля, вывернул комок, разбил ловким ударом ноги. В комке не то чтобы не оказалось картофелины, не было даже пустой кожуры.
– Тьфу! – отплюнулся Петька. Копнул еще раз – опять ничего.
А Вольту тем временем попались еще две картофелины, одна за другой, не очень крупные, но мясистые, плотные, словно бы осенью, когда народ занимался содержимым этого поля, картошка эта нырнула поглубже в землю, чтобы не достала лопата, а потом, перед заморозками, вернулась в родные гнезда… Ну словно бы специально хотела осчастливить двух пацанов.
Снег на поле начал таять на глазах. Вначале в нем появились живые прозрачные блестки, расползлись по поверхности, потом увеличились, и через час внутри поля, как в бассейне, возникли круглые плошки воды, снег просел, он шевелился, словно живой, внутри его что-то попискивало – весна брала свое.
Петьке не везло, и круглое лицо его, украшенное очками, в которых сломалась одна из дужек и ее пришлось заменить бечевкой, а бечевку замотать за ухо, перекосилось и просело на одну сторону.
Вид у Петьки сделался испуганным, казалось, что так оно и будет, Вольт, боясь, что приятель от внезапной обиды заплачет, пообещал, что поделится с ним мерзлыми картофелинами, но вскоре настал и Петькин час – ему также начала попадаться темная трескучая картошка.
– Ну вот, видишь? – умиротворенно произнес Вольт.
Петька согласно кивнул. Через полторы минуты он выковырнул из земли вторую картофелину, не сдержался и звучно чмокнул ее в холодный лоб. Лицо его преобразилось, словно бы окунулось в солнечный свет. Вольт не удержался, похлопал в ладони.
На поле, которое отошло и обзавелось уже лужами, они пробыли полтора часа, набрав по кухонному мешку мерзлой картошки. Не бог весть что, конечно, но по четыре сковородки чибриков выйдет. Значит, эту темную, с проступающим наружу крахмалом вкуснятину можно будет растянуть на четыре дня, а то и на все пять… В общем, как сложится, так и будет.
Домой Вольт с Петькой Аникиным вернулись довольные – будет чем удивить своих матерей.
Когда в Ленинграде растаял весь снег, улицы оголились, и сам по себе сгребся в кучки разный мусор, – у каждой улицы свой, индивидуальный, а в общем-то, очень похожий на тот мусор, что собрался на соседней улице, – на свет дневной вылезли все крысы, что сумели прописаться в городе за зиму.
Поодиночке крысы не ходили, только компаниями, будто подвыпившие гуляки, людей не боялись, а вот люди их побаивались, и здорово побаивались, шарахались в разные стороны, вжимались в самих себя, стараясь стать невидимыми, их передергивало при виде длиннохвостых усатых тварей, крысы сделались опасными для Питера, от них надо было избавляться.
Придавить крыс могли кошки, усачей с длинными розовыми хвостами, вызывающими тошноту, они совсем не опасались, как не опасались и собаки-крысоловы, но той весной в городе нельзя было увидеть ни собаку, ни кошку, голодные люди съели их, а теперь крысы собирались съесть людей.
Надо было что-то делать. Выход обозначился один – завезти в город кошек, желательно тех, для которых крысы станут такой же едой, как и хлеб с молоком.
Завозили их, как узнали горожане, из двух областей – Кировской и Вологодской.
Однажды Вольт увидел на улице странно притихших старух, их было много – древние большевички, закопченные у своих печек-времянок, хмурые, словно бы получили приказ эвакуироваться на Урал, – они напряженно вытягивали худые шеи и смотрели на трамвайную часть улицы. Глаза у них были изумленные. Вольт не выдержал, сунулся в старушечий ряд – чего они высмотрели?
То, что он увидел, изумило и его, настолько изумило, что он чуть не сел на землю: по трамвайным путям, изрядно проржавевшим и почерневшим за зиму, ставшим неровными, шла кошка. Грациозная, гибкая, с внимательными, все засекающими глазами. Она все видела, но ни на что не обращала внимания, никого не боялась – ни людей, ни гитлеровских снарядов, опасно шелестящих над головой (немцы работали по хронометру, стреляли по одиннадцати часов в сутки, – все светлое время, в общем), ни гудения самолетов за облаками, откуда могли посыпаться бомбы.
– Кис-кис-кис! – давясь хриплым шепотом, позвала кошку одна из изумленных старух.
Кошка даже усом не повела в ее сторону.
Тишина, внезапно наступившая, была какой-то всеобъемлющей, едва ли не вселенской, – одна на всех: ни далекой канонады не стало слышно, ни взрывов на улицах – немцы, исполняя план, утвержденный далеко от Питера, в ненавистном Берлине, ежедневно перемалывали город, превращали его в битый камень, и конца-края этой бесовской работе не было видно.
А тут и немцы перестали стрелять.
– Кис-кис-кис, – каким-то заискивающим, истончившимся от напряжения голоском позвала кошку вторая старуха – костлявая, с широкими мужскими плечами, высокого роста, едва ли не под два метра, но и на этот зов кошка не откликнулась, она умела держать стать, говоря языком петербургских извозчиков.
– Господи, не всех кошек съели в этой голодухе, – послышался еще один голос, негромкий, по-деревянному скрипучий.
– Эта кошка не здешняя, не питерская, – знающе проговорила двухметровая старуха, озабоченно помяла рукою шею – слишком уж тонкий был у нее голос, – эта кошка привозная, не боится нашенских ужасов, – тут старуха закашлялась и умолкла, словно бы в горло ей попала какая-то едкая пыль.
Кошка прошла метров сто по трамвайному следу, показывала себя, как на подиуме, собственной независимостью демонстрировала, что жизнь возьмет верх над смертью, люди, глядя на нее, это понимали, выпрямлялись торжествующе, лица у них светлели; затем кошка свернула на тротуар и очень неторопливо, зная себе цену, проследовала в подворотню с надкушенным полукруглым сводом – сюда всадился крупный снарядный осколок.
– Мам, сегодня люди видели на улице кошку… – сказал вечером Вольт усталой матери, едва пришедшей с дежурства домой и теперь с отрешенным лицом думающей только об одном – как добраться до постели? А доползти до нее уже не было сил.
Положение матери в госпитале упрочилось, месяц назад она была введена в штат, работала теперь врачом, петлицы на воротнике ее гимнастерки украсились двумя кубарями и отныне к ней обращались, уже вытягиваясь по строевой стойке:
– Товарищ лейтенант медицинской службы!
Вообще-то Вольт хорошо понимал, насколько новость о появлении кошек в Питере ошеломила народ, люди сейчас рассказывали друг другу только об этом… Раз в Ленинграде кошки начали совершать променады по улицам – значит, крысам пришел конец?
Мать наконец-то справилась с собою, с усталой оторопью, в которой находилась, всплыла на поверхность самой себя, в глазах у нее появилось живое выражение.
– Да-да, – наконец-то проговорила она, – в госпитале об этом шла речь: привезли два вагона кошек… Кажется, из двух областей. Так что есть надежда, что они передавят всех ленинградских крыс.
Вольт не выдержал, растянул рот в улыбке – доволен был, что мать пришла в себя, заговорила, – у нее вон, даже лицо посветлело, в нем появились живые краски.
– Это не крысы, мам, это хуже – специальное подразделение немецко-фашистских войск, ведущее диверсионную работу против Красной Армии, я в этом уверен твердо. Но этому подразделению, как и всем другим фрицам, глаз на задницу натянут обязательно.
Мать поморщилась.
– Фу, Вольт, как плохо ты выразился – глаз на задницу…
– И на передницу тоже натянут, – начал горячиться Вольт, он говорил что-то еще, но мать уже не слушала его, потянулась к узелку, который принесла с собой из госпиталя, быстро и ловко, – несмотря на саднящую боль в мышцах, звон в голове и усталость, – распаковала его, обнажила небольшую алюминиевую кастрюлю с насечкой из нескольких букв, свидетельствующей о том, что посуда принадлежит котлопункту госпиталя, определила ее на невзрачное тельце буржуйки.
– Это тебе суп, Вольт, – сказала она, – разогреть надо…
Поковырявшись еще немного в кульке, утвердительно кивнула и извлекла черный ноздреватый сухарь с искривленными боками, готовыми согнуться в свиное ухо, отдала сыну.
– Это тебе к супу, – сказала она, – хлеб очень вкусный, имей в виду – с Большой земли… Настоящий.
– Мам, давай поужинаем вдвоем, хлеб разделим пополам, а? – Вольт сунул в буржуйку несколько листков из старого школьного учебника, украшенного чернильными пятнами (учебник он нашел сегодня на чердаке дома – валялся бесхозный, перекошенный, корявый от времени и того, что много раз попадал под дождь, под мороз и ветер, Вольт подсушил его на сквозняке и солнышке – получилась хорошая растопка), подпалил их.
По бумаге, над которой усердно корпели несколько поколений старательных школяров, побежали проворные рыжие языки, втянулись в коленчатую жестяную трубу, печка обрадовалась пламени, загудела, заклокотала звучно, Вольт ее еще утром зарядил топливом – топором раскромсал большую доску. В рассветную пору неподалеку от их дома снаряд растрепал жилую сторожку, разбросал ее убогое нутро по всей улице… Вольту досталась доска.
Языки огня впились в обрубки раскуроченной доски и добычу свою уже не отпустили, госпитальный суп Вольт вскоре разлил в две тарелки, себе и матери.
– Нет, Вольт, – мать упрямо покачала головой, – это тебе, я же сказала.
Вольт вздохнул осуждающе и принялся есть. Сухарь был настоящий, хлебный, из ржаной муки, и такой вкусный, что только от одного духа его рот буквально забивало слюной – не продохнуть. Его можно было потреблять, как сахар, с одним маленьким осколком выпить пару стаканов чая… И суп был вкусный – у госпиталя существовало больше возможностей, чем у обычных блокадников по части пайки и продуктов…
– Мам, поешь супа, – Вольт сделал еще одну попытку втянуть мать в ужин, но и эта попытка оказалась неудачной – мать, свесив голову на грудь, спала.
Вольт виновато отставил тарелку с супом от себя – слишком радостно шумел, скреб ложкой по дну тарелки, стучал пальцами по поверхности стола и двигал ногами по полу, стараясь зацепить носками ботинок перекладину табуретки и подтащить ее к себе, с громким звуком откусывал от сухаря твердые вкусные дольки, чтобы рассосать их, как сахар, он мешал матери хотя бы немного отдохнуть и теперь ругал себя. Сильно ругал – употреблял взрослые матерные слова…
Сейчас мать проснется, вскинется с таким же виноватым, как и у Вольта лицом, проведет перед глазами рукой, словно отодвинет от себя слой тумана, мешающий смотреть, но мать не проснулась. Шевельнула только головой устало и вновь затихла. Вольт почувствовал, как у него дернулся и в следующее мгновение успокоился кадык, во рту возникли и тут же растворились соленые слезы.
Словно бы и не было их.
Как не было? Соль-то осталась. А может, он просто-напросто прикусил себе язык?
Он сидел и неотрывно смотрел на мать, боялся пошевелиться, чтобы не разбудить ее, но мать скоро проснулась сама – внезапно открыла чистые внимательные глаза, спросила шепотом:
– Чего же ты не ешь суп, Вольт? Доедай!
Вольт почувствовал, как внутри у него, в груди, разлилось тепло.
– На тебя, мам, смотрю… Любуюсь, – тихо проговорил он. – Ты ведь тоже должна поесть.
– Я уже поела… В госпитале, – мать протерла глаза, улыбнулась, – улыбка ее была грустной. Впрочем, улыбаться весело и радостно блокадники уже разучились, если и раздвигали губы в неохотной улыбке, то улыбка эта обычно бывала горькой.
– Ну, смотри, мам, не ругай потом меня, если в кастрюльке ничего не останется.
– Ешь, ешь, – улыбка, возникшая на лице матери, исчезла.
– Ты чем-то озабочена, мам?
– Озабочена, – сказала мать. – Наш госпиталь командование фронта решило перевести на север. На сборы дали два дня.
У Вольта из руки чуть ложка не выпала.
– Вот те, бабушка, и Юрьев день, – мигом осипшим голосом проговорил он. – А как же я?
– Оставлять тебя в Ленинграде одного не хочу, здесь ты очень быстро дойдешь до ручки… А взять с собою не могу – не положено, – мать вздохнула, в голос ее натекла сырость, – пробовала уговорить начальника госпиталя – ничего из этого не получилось: госпиталь не имеет права даже иметь своего сына полка, – мать умолкла, перегнулась через стол, со вздохом погладила Вольта по щеке. – Оставлять тебя здесь равносильно смерти.
Вольт ощутил, как что-то невидимое, жесткое перетянуло ему горло, к такому сюжетному повороту он не был готов – совсем не ожидал, что жизнь его может сделать такой крутой поворот. Освобождаясь от обжима, сдавившего ему шею, он покрутил головой, пошмыгал носом – вел себя, как юный детсадовец, но он уже не был юным, матери показалось, что она даже видит в его голове серебристые нитки.
– Что делать, мам? – Вольт залез платком под оправу очков, протер стекла.
– Я думаю так: ты поедешь с госпиталем до конечного пропускного пункта на Ладожском озере – Ладогу мы пройдем колонной на машинах, дальше придется разделиться: мы уйдем на север, а ты – на юг…
– Как так? – не понял Вольт.
– Очень просто. Ты поедешь в Среднюю Азию, там у тебя живет двоюродная тетка. Она и подкормит тебя, и на ноги поставит, и подлечит, если понадобится, она – хороший врач… Поедешь не один.
– С кем же?
– С детской группой, которую также вывозят из Ленинграда. Готовься, сын.
– Мам, а как же ты?
– За меня не беспокойся, я – в составе госпиталя… Не пропаду.
Новость насчет отъезда в Среднюю Азию произвела на Вольта впечатление оглушающее, он еще никогда так далеко не ездил, – только в пионерский лагерь за тридцать километров от города… Но тридцать километров по сравнению с дорогой в Среднюю Азию – это так себе, мелочь, это даже поездкой считать нельзя.
Услышав эту не самую лучшую новость, в прихожей с подстилки поднялась Лада, заскулила обеспокоенно. Через несколько секунд она нарисовалась на кухне.
– Лада, дружочек мой надежный, – Вольт потянулся к овчарке, обхватил ее за голову, потрепал уши. – Мам, а Ладу я могу взять с собою?
– Нет. Этот вопрос я тоже проговаривала… Лада – служебная собака, она должна остаться в Ленинграде – это раз, и два – ты ее не сможешь увезти так далеко… И кормить ее тебе будет нечем.
Вольт шумно втянул в ноздри воздух – ему показалось, что от острого обидного ощущения, возникшего внутри, с ним что-то произойдет, но не произошло – он закрылся, с трудом сдерживая себя… В следующее мгновение потряс головой, вышибая изнутри боль, обиду, не вышиб и прижался к собаке:
– Эх, Лада, – прошептал он, сглотнул что-то соленое, натекшее в рот, снова потряс головой. – Как же ты будешь жить без нас?
– Не волнуйся, Вольт, – попыталась успокоить его мать, – Ладу возьмет к себе инструктор питомника.
Это объяснение Вольта не успокоило, он почувствовал, как в глотке у него вспух соленый пузырь – расстроился он, сильно расстроился.
Нельзя сказать, что он много занимался Ладой, – к сожалению, не очень много; чему-то, конечно, учил, натаскивал, заставлял бегать и ползать с миной на спине, как это было в школе, где собак учили уничтожать немецкие танки, важнее было другое – Лада стала частью его жизни. Вообще в их доме она сделалась полноправным членом семьи, теплым преданным существом, без которого Вольт даже дышать, наверное бы, не сумел… Да и мать жизни своей без казенной собаки тоже не мыслила.
– Эх, Лада, Лада, – он вновь обнял собаку. Ему захотелось заплакать…
Улегся он в постель в вечерней темноте, равнодушно прислушиваясь к лёту снарядов, к тому, что происходит за стенами дома, отметил, что немцы сделали несколько внеочередных залпов – обычно они этого не делали, – видать, план недовыполнили, сволочи, – а очнулся, когда было уже светло, на улице громко разговаривали люди, вывезшие из дома мертвеца.
Все это время Вольт не спал, ни одной минуты не спал – пребывал в каком-то странном прозрачном состоянии.
Уезжать Вольту из Ленинграда не хотелось… Но и оставаться тоже не хотелось, вот ведь как. И потом, он очень боялся за мать – госпиталь ведь перемещался в прифронтовую зону, а это в несколько раз увеличивало возможность погибнуть. Не дай бог, мать попадет под какую-нибудь мину или шальную пулеметную очередь… А с другой стороны, чего теперь бояться? Есть же пословица: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», – судьбу обмануть никому не дано и последнего шага в жизни не избежать.