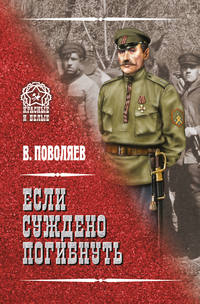Полная версия
День отдыха на фронте
Вольт поправил на голове шапку, потрогал пальцами красную звездочку, пришпиленную к ней, – не потерялась ли? Звездочка, подаренная отцом, находилась на месте.
Минут через пять около бабки остановился милицейский патруль с автоматами, лица у патрульных были усталые, бледные, глаза ввалились, – наводить, а точнее, поддерживать порядок в блокадном городе было непросто, в усеченной питерской милиции (основная часть защищала город, находилась в окопах) было немало раненых и погибших.
– Бабуля, документы у тебя с собою? – спросил старушку начальник патруля, пожилой лейтенант с короткими, неровно подстриженными усами.
– А как же, дорогой милок, конечно же с собою, без документов нам никак нельзя, – старушка запустила руку под борт жеребкового полупальто, достала из кармана паспорт.
Лейтенант взял паспорт, развернул его, пробежался напряженным взглядом по двум головным страничкам, выпрямился, окидывая взглядом весь рынок – нет ли где какого-нибудь шума, не затевается ли что-либо?
Шума не было. Народ на базаре вел себя тихо, с пониманием – рядом находится фронт, на всякий шум фрицы могут прислать десяток снарядов, а это штука такая: ноги вместе с головой и куском живота могут улететь в облака.
– Пирожки с чем? – спросил лейтенант скучным, каким-то сомневающимся голосом.
– Как с чем? С мясом. Дух-то вон, чуешь, какой? – старушка горделиво выпрямилась. – Прошибает насквозь.
– Вот именно – насквозь, – в голосе лейтенанта заскрипели недовольные нотки. – Какого зверя мясо-то?
– Как какого? Лесного. У нас кабаны водятся. В город забегают.
– А война их разве не распугала?
– Никак нет, товарищ начальник, – старушка протянула ему таз, нагруженный вкусно пахнущими пирожками. – Угощайся, служивый, для тебя ничего не жалко.
– Кабаны, говоришь?
– Да, кабаны. И лоси к нам приходят… Не боятся. Я так полагаю – от фашистов спасаются.
– Спасаются?
– А как же? От фашистов спасается все живое… Все, что имеет ноги.
– И руки, наверное?
– Руки имеют только обезьяны, товарищ начальник, – на полном серьезе ответила старушка, пошевелила губами.
– Мы вынуждены задержать вас, гражданка!
– С какой такой стати? Я ничего не нарушала.
– Естественно, ничего, – лейтенант помолчал, испытующе посмотрел на старушку и добавил: – Но проверку провести мы обязаны. Так положено, это общее правило для всех жителей города.
– Так у меня товар пропадет, товарищ полковник, – старушка приподняла таз с пирожками. – Кто мне его оплатит? Тургенев?
– Вполне возможно, что и Иван Сергеевич Тургенев, – спокойно проговорил лейтенант, – тем более что он был человеком очень богатым.
– А может, я вам дам штук десять пирожков – на всю милицию, и мы разойдемся? А? – брови на лице старушки сошлись в одну озабоченную линию – сплошную, без просветов. – Я дам вам денег, и мы квиты?
Лицо лейтенанта стало хмурым и жестким, он отрицательно покачал головой:
– Квиты будем только после проверки.
Старушка затеяла игру, заранее проигранную, – деньги в Ленинграде по-прежнему ничего не значили, на них даже свежего воздуха нельзя было купить, не говоря уже о вещах материальных.
– М-да, – удрученно вздохнула старушка, – вы хоть и русские люди, но не православные.
– Забирай таз, – не обращая внимания на речи старушки, велел лейтенант одному из напарников, – пошли проверять, с мясом какого кабана испечены пирожки?
На этот раз старушка закрякала, как подбитая на охоте утка, замотала головой протестующе, лейтенант ухватил ее за локоть и потянул за собой.
Люди, находившиеся среди рядов, на задержание старушки даже не обратили внимания, словно бы этого прискорбного факта не было вовсе, лишь снег громко захрустел под ногами патруля… Вскоре хруст стих. Вольт ошеломленно огляделся – равнодушие рынка поразило его, как он потом выразился, рассказывая об этой истории матери, «от макушки до пяток».
Но еще больше он был поражен, когда узнал о том, что произошло со старушкой дальше, о самом финале.
Когда милиционеры прибыли к ней домой, то обнаружили на кухне таз с заготовками для будущей стряпни. В тазу отмокали куски мяса, погруженные в соляной, с добавлением уксуса раствор. Когда этот таз показали военному эксперту – старенькому профессору с петлицами полковника медицинской службы, он определил сразу, без всяких исследований и экспертиз:
– Это – мясо человека.
Милицейские сотрудники, обследовавшие квартиру старушки, переглянулись, поугрюмели лицами: докатились дорогие земляки, ничего не скажешь… Сами людоедами стали и других в эту повозку тянут.
Через два дня старуху расстреляли, о чем сообщили всем торговцам, привыкшим появляться на Андреевском рынке со своими лотками. Через них эта новость дошла до всех, кто посещал этот рынок, даже до обычных полоротых зевак, забегавших в торговые ряды, чтоб поглазеть на народ, себя показать, а заодно увидеть и городских воробьев, в пору блокады потерявших свою обычную говорливость…
Весну питерцы ожидали с надеждой, сопровождаемой слезами: слишком тяжело стало переносить голод, холод, болезни; трупов, которые обессилевшие родственники выносили на улицы и складывали в штабели, сделалось много больше, чем было раньше, дверь одной больницы как-то подперли такой горой мертвых тел, что врачи не сумели открыть ее. Пришлось выставлять окно и двум санитарам выбираться через него на улицу, чтобы сдвинуть тела в сторону и распечатать вход.
В один из весенних дней Вольт вместе с Петькой по жактовской разнарядке пошел чистить невскую мостовую, заваленную сугробами, вознесшимися под самые крыши домов. Сугробы уже начали подтекать, – днем проявлялось активное солнышко, украшало верхушки снежных гор сусличьими норами, хотя грело оно недолго, в четыре часа дня уже начинал припекать мороз – поперву незначительный, но потом он крепчал, набирал силу и игриво щипал людей за щеки и уши. Хотя какая игривость может быть у сурового старого злыдня?
Снег сбрасывали лопатами на невский лед, а вот внизу, в донье сугробов без лома обойтись уже было нельзя. Здесь начались трудности.
В одиночку Вольт еще мог поднять лом – точнее, приподнять, – а вот поднять по-настоящему и ударить по прочной наледи уже не мог. Из глаз летели искры, дыхание рвалось, сердце щемило. Петька пробовал ему помогать, но из этого также ничего путного не выходило.
В конце концов лом бросили и уселись рядом с ним на лед. Дышали тяжело – как две старые худые рыбы, выброшенные из воды на берег.
Около них остановился блеклый, уже изношенный блокадой и жизнью горожанин с рыжими от курева усами и бледным морщинистым лицом, – похоже, старший по очистке набережной от снега.
– Чего, ребята, силенок не хватает? – старший стянул с руки варежку и стер с глаз мелкие колючие слезы. – Сейчас я вам пару таких же, как вы, пацанов подкину в помощь. Дерзайте! Вместе веселее будет.
Слово «дерзайте» может произнести только интеллигент, вряд ли оно соскочит с языка у дворника, приехавшего работать в Питер из деревни Свищёво или Пупкино, оно даже не сумеет родиться у него в котелке – не способна сельская башка на это.
На голове у старшего с кокетливым лихачеством сидел потертый каракулевый пирожок.
Каракулевые пирожки дворники в Питере также не носили – ни строители деревенского социализма в городе, ни татары, традиционно промышлявшие дворницким промыслом в крупных населенных пунктах, ни представители ленинградского пролетариата, также иногда выходившие за пределы заводских стен убирать улицы.
Старший прислал двух пареньков – двух братьев-близнецов, одного из них звали Борей, второго Кириллом, были они равного роста и очень похожи друг на друга: близнецы есть близнецы. Оба одеты в одинаковые пальто из клетчатого бобрика, на ногах также были одинаковые, смазанные солидолом, чтобы дольше носились, очень крепкие ботинки с заклепками на берцах.
– Кто тут главный? – спросил один из близнецов у Вольта. – Ты? Это тебе надо помочь?
– Нам, – не стал темнить Вольт.
Взялись за лом вчетвером. Поднимать его было легче, но мигом образовалась толкучка, мешали друг другу, били локтями, дышали тяжело, сперто, но лед все-таки малость обкололи, хотя соскрести его с камней было трудно, лед мертво сросся с набережной, стал единой с ней плотью.
Но не это оказалось главным. Минут через десять лом пришлось отбросить в сторону – под него, под удар попало что-то твердое, когда откопали, оказалось – лежит мертвый человек, зимний покойник, также превратившийся в камень… Лицо спокойное, белое, как свежий снег, щеки серые, будто небритые. Человек этот уже жил на другом свете и видел иные картины…
А Ленинград при весеннем солнце словно бы восставал из пепла, в золотистом небе возникали длинные голубые пролежни, были они похожи на облака – правда, у облаков этих вид был диковинный, какой-то инопланетный, рождающий сложные чувства, и было чего бояться – через минуту они выкопали из снега еще одно тело.
А через полчаса – третье.
Снег, обработанный солнцем, был лишен голоса, не скрипел под ногами, как молодая капуста, – по-капустному обычно скрипит снег ранний, октябрьский или ноябрьский, рождает в душе расстроенные чувства, поскольку зима человеку чужда и в нее никак не хочется входить и одновременно рождает сентиментальную мягкость, ибо преддверие зимы – штука печальная.
Прошло еще немного времени, и сразу подуло холодом, солнце покатилось к горизонту, на снегу появились неряшливо размытые тени, очертания домов, грузовиков, люди также сделались размытыми.
Наша четверка, сипя и задыхаясь, отставив лом в сторону, немного раскопала лопатами сугроб и с горестным недоумением уставилась на босые человеческие ноги, вылезшие из снега.
Это был мертвец, куковавший в снегу с середины зимы. Синеватая тонкая кожа ног была покрыта искристым, остро поблескивающим в предвечернем свете ледяным налетом.
Отбросив лопату в сторону, Вольт присел на толстый твердый край наледи. То же самое сделал Петька – Вольт в их двойке был старшим, и Петька теперь во всем подчинялся ему, более того – подражал, даже движения копировал, не говоря о том, что повторял удачные шутки, сочиненные насмешливым Вольтом.
Двое помощников, выделенные старшим, недоуменно глянули на своих напарников и также отложили лопаты в стороны. Расположились рядом.
– Пять минут отдыхаем, – запоздало объявил Вольт.
Поглядев на ноги, высовывавшиеся из сугроба, один из помощников зябко передернул плечами и проговорил хрипло, захлебываясь от усталости воздухом:
– А ноги-то – женские.
Вольт вгляделся в них и тоже передернул плечами: ступни были узкие, изящные, какие-то яркие, словно бы вырубленные из итальянского, белого до прозрачности мрамора. Явно умершая происходила из дворянок – только у них бывает такая тонкая нежная кость.
– Ну что, новая неприятная находка? – неожиданно раздался голос над головами нашей четверки.
К ним невидимо-неслышимо подошел старший и, поправив пирожок на голове, присел на корточки рядом. Стукнул костяшками пальцев по ступням. Звук был глухой, едва приметный, будто старший стучал по каменной плоти.
– Ребятки, еще немного, хотя бы с полчаса поработать сможете? – спросил он. – Сил хватит?
– На полчаса хватит, – за всех отозвался Вольт.
– Спасибо, – вежливо поблагодарил его старший. Школу человек прошел ленинградскую, интеллигентную, с нахрапистой московской школой ее, например, даже сравнивать нельзя.
За полчаса группа Вольта не только откопала молодую женщину, но и красноармейца с марлевой повязкой на голове. Человек этот, раненный, шел в госпиталь, но не дошел – упал по дороге. Встать не смог.
Люди держались из последних сил – пережив страшную зиму, они не могли позволить, чтобы костлявая завалила их весной, когда в природе начинается новая жизнь, сложный процесс этот был пока еще неприметен, порою даже вообще неощутим, но он уже начался, важно было прожить немного времени, какой-то месяц, может, чуть больше, и станет легче, – главное, в месяц этот не умереть.
Ленинградцы считали свою Неву самой чистой рекой в мире и, наверное, одной из самых коротких – всего восемьдесят с небольшим километров; начало ее завязывалось, как плотно сплетенный узел, на ладожских водных просторах, а дальше километр за километром река развязывалась по направлению к Финскому заливу…
Финский залив – соленый, но вода в Неве никогда не бывала соленой – очень уж сильное течение у реки, вода морская не продавливает воду речную, уступает ей.
Не хотелось, конечно, Вольту с Петькой и их двум помощникам сбрасывать мусор на лед чистой реки, но другого пути не было, вывезти грязь иначе не удастся никак – и сил на это нет, и вывозить некуда: Ленинград стиснут кольцом блокады, сделать дырку в этом обжиме ни ломами, ни лопатами не получится…
На следующий день Вольт с Петькой снова появились на невской набережной – доделывать то, что вчера не было доделано, солнце ярилось пуще прежнего, окропляло теплом землю, и тепло это было ощутимо, каждую каплю его люди благодарно ловили…
Только сейчас Вольт, глядя на свой город словно бы со стороны, обратил внимание, что целых окон в домах почти нет, проемы в основном заколочены фанерой – всюду фанера, фанера, заскорузлая, потемневшая, даже почерневшая, перекошенная. Но если где-то и встречается целое стекло, то оно обязательно аккуратно исчеркано бумажными лентами… Сделано это специально: при близком взрыве бомбы или снаряда стекло распадается на клочки, осколки могут сильно порезать человека, а в проклеенных, усиленных бумажными лентами стеклах этого не происходит.
В форточки выходили трубы от печек-буржуек, изогнутые в виде буквы «Г». Печка, принесенная из жакта – жилищной конторы, имелась в каждой квартире, без буржуек перенести тяжелую зиму сорок первого – сорок второго годов никому из ленинградцев не удалось бы.
Вольт до самого апреля помнил, как выпрашивал в жакте у начальника буржуйку для своей квартиры. Начальник был прижимист, грозен – татарин с рыжими, яркого конского цвета волосами, на старом шкафу, заполненном бумагами, он держал дореволюционную табличку, снятую в каком-то городском дворе. Жестяная таблица та была сочинена большим грамотеем общедворового уровня и гласила:
ТАТАРАМ, ТРЯПИЧНИКАМ
И ПРОТЧИМ КРИКУНАМ
ВХОД ВО ДВОР
СТРОГА ВОСПРЕЩАЕТЦА!
Иногда начальник пальцем показывал на эту табличку, в груди у него рождалось грозное львиное рычание, медленно ползло вверх и с губ в пространство срывались нравоучительные слова:
– Вон какая темная жизнь была раньше, при царе… А вы говорите – царь, царь… Да мы при нынешних коптюшках живем светлее.
А со светом в Ленинграде было плохо, очень плохо – в квартирах дымили слабенькие коптилки, старые лампы, во многих домах, если хозяин – человек неумелый, интеллигентного происхождения, поступали просто: в тарелку наливали остатки какого-нибудь горючего машинного масла, бросали в него обрывок крученого пенькового шпагата и конец подпаливали… Этим светом и довольствовались.
Плохо, конечно, было, опасно – тарелка могла целиком заняться высоким пламенем, но других источников света не было, приходилось довольствоваться тем, что имелось, и оберегать себя от огня, способного быть безжалостным.
Все это было хорошо знакомо Вольту, изучено основательно и засело в мозгу, в крови, в мышцах и костях его, наверное, на всю оставшуюся жизнь. На глазах возникало что-то мокрое, щиплющее, застилающее свет мутью, и приходилось брать самого себя в руки, чтобы не расклеиться.
Хоть и бурчал недовольно жактовский татарин, и щеки надувал, и фыркал, и рыжие волосы дыбом поднимались над его макушкой, а печушки подопечным жильцам выдал всем, к каждой печушке – по десятку брикетов темного, как уголь, прессованного торфа. Горел этот торф не хуже угля.
Молодец был мужик. Через некоторое время он умер, прямо в своей служебной комнатке… Умер от голода…
Ребят на набережной ожидал вчерашний старший – бригадир, на голове которого ладно сидел нарядный каракулевый пирожок, готовно протянул лопаты.
– Ну что, друзья, поехали дальше? Бог даст, мертвые больше не попадутся… Тогда вообще хорошо будет, – оглядел сугроб, который вчера не успели добить, и выколотил из себя простудный кашель. – Постарайтесь, ребятки, – проговорил, откашлявшись, – очень хочется, чтобы набережная была чистой… Немцам назло.
– Немцам досадить сам Бог велел, – рассудительно произнес один из братьев-близнецов, то ли Борька, то ли Кирилл, – Вольт пока не разобрал, пробурчал, словно бы не выспался:
– Ребята, вы хотя бы шапки носили разные, что ли, не то, понимаете, и сами вы одинаковые, и одежда у вас одинаковая – не различить.
Второй близнец на замечание среагировал обостренно и неожиданно вскинулся:
– У кого четыре глаза, тот похож на водолаза!
Вольт втянул в себя воздух поглубже, с сипением выдохнул и ни с того ни с сего рассмеялся, затем, словно бы ощутив, что смех в бедствующем городе – вещь нелепая, странная, кощунственная, произнес с какими-то виноватыми нотками в голосе:
– Стишки эти недоделанные я бы подредактировал… Чтобы острее были.
И в этот день они также не справились со снегом – на камнях набережной остались сереть грузные, источающие холодную влагу кучи, похожие на копны прелой соломы, вольно рассевшиеся на сельском пространстве. Были и приятные моменты – в снегу им больше не встретилось ни одного трупа.
Уходя на смену в госпиталь, мать велела Вольту:
– Расковыряй ломом кусок двора – посадим хряпу… Будет больше шансов выжить.
Дальновидная мать оказалась права – на хряпе, как в Питере величали кормовую капусту, – выжили многие ленинградцы, одолевшие жестокую моровую зиму и свалившиеся уже весной, когда в небе начало пригревать забытое, окруженное радужным кольцом солнце.
Горожане невольно прикладывали к глазам дрожащие ладони: на проснувшееся светило было больно смотреть, слезы лились ручьем, – радуясь, всхлипывали:
– Это нам подмога с неба пришла – Бог руку протянул…
Выковыривать примерзшие к земле двора и не везде оттаявшие куски асфальта было трудно, с ломом Вольт не справлялся, железная дубина эта выворачивала ему руки, норовила свалить с ног, из ноздрей начала капать кровь, изо рта, кажется, тоже, наш трудяга отыскал ледышку почище и приложил к физиономии… Как ни странно, тем и остановил кровотечение. Порадовался тому, что справился с тяжелым делом: у блокадников если начинала течь кровь, то останавливалась редко. Могла совсем не остановиться, и тогда возникала угроза, что человек вообще истечет кровью.
Раз организм еще работает, не сдается – значит, есть надежда, смерть отодвигается…
Выдохшись, Вольт сел на горку асфальтовых комьев, как на стул, вытянул ноги и неожиданно ощутил, как перед ним поплыл, сделался трескучим воздух, вместе с воздухом в сторону сдвинулся и кусок чугунной ограды, окаймлявшей их двор. Кучу снега, гнездившуюся у дома, пространство, обозначавшееся за ней, игриво пробивали острыми мелкими вспышками капли, срывающиеся с крыши…
Вольт вытер кулаком глаза, сглотнул соленую жижку, собравшуюся во рту.
Когда он отдышался и снова подтянул к себе лом, из соседнего подъезда вышла стройная тоненькая девушка с серьезными серыми глазами, подняла руку – она знала Вольта еще с детской поры, это была Люба Жакова.
Невесомо, почти неслышно подошла к Вольту, тронула пальцами за рукав.
– Не сиди на льду, на грязи этой… Простудишься!
Вольт отрешенно покачал головой, через несколько мгновений пришел в себя и заторопился, словно бы его где-то ждали:
– Все верно… все верно… – кряхтя, как старик, поднялся, подцепил с земли лом. Какая-то голодная хворь, о которой раньше он ничего не знал, вела его в сторону, заваливала на землю, сопротивляться ей было трудно, но он сопротивлялся, – пытался, во всяком случае.
Люба Жакова работала в семенном институте, где была собрана лучшая коллекция семян, это Вольт знал, как знал и другое – в институте от голода умерло почти два десятка человек (если быть точным – восемнадцать), хотя еды там было более, чем достаточно – и пшеницы с ячменем, и картофеля с рожью, не говоря уже о разных бобах, горохе, чечевице, фасоли…
Коллекцию сотрудники сумели сохранить, хотя и голодали, в том числе и Люба, и отец ее, кандидат наук Жаков, недавно ушедший на фронт. Воевал он там, где и отец Вольта – на Невском пятачке.
– Слушай, товарищ Вольт, – голос у Любы неожиданно сделался тихим, словно бы хозяйка считала, что его никто, кроме Вольта, не должен слышать: – Сегодня вечером дают Седьмую симфонию Шостаковича. Дирижирует Карл Элиасберг, – Люба вскинула указательный палец, ткнула им вверх, в сторону солнца. – У меня есть два билета, так что – приглашаю.
Как работает этот дирижер, – по национальности, говорят, швед, – Вольт уже слышал, даже один раз был на концерте и остался в восторге от него немалом, после концерта хотелось радоваться и одновременно плакать, звуки музыки проникали глубоко внутрь, больно сжимали сердце.
– Ну что, идешь со мной на симфонию? – Люба закашлялась, прижала к губам руку в варежке.
– Пойду, – Вольт наконец одолел собственную квелость, выпрямился. – Пойду обязательно.
Зрители, пришедшие в концертный зал на Седьмую симфонию, которую печать уже прозвала героической и теперь старалась поднять композитора Шостаковича на пьедестал, размещенный где-то далеко вверху, в горних высях, прикрепили к своей одежде, к лацканам, фосфорные пуговички. Сделали это не ради украшения или удовольствия, – от такого удовольствия иного блокадника может до самого конца жизни выворачивать наизнанку, – а по другой причине.
В зимние вечера, когда в городе темнело очень рано, а ночи были угольно-черными, промороженными, эти плоские фарфоровые пластинки спасли много людей. В этом нет преувеличения – в кромешной темноте один человек видит другого только когда сталкивается с ним лоб в лоб… А это, извините, опасно.
Умные головы придумали цеплять на одежду фарфоровые пластинки, и если в ночи навстречу движется светлячок, значит, кто-то идет… Об этом предупреждает светящаяся фосфорная пуговица.
Электричество в Питере давали усеченно, по норме, утвержденной в горкоме партии, – очень мало, – ни один фонарь не горел без распоряжения сверху, и когда Вольта спрашивали, как же он, подслеповатый, «четырехглазый», ходит в темноте и не спотыкается, не врезается своей бестолковкой в ряды домов, он в ответ только растягивал губы в улыбке:
– А у меня очки ночного видения – в школе выдали. За успехи в решении задачек для четвертого класса. По арифметике.
Народ, слыша это, только удивлялся да ахал:
– Это надо же, какой Вольт у нас талантливый! Глаза, как у совы.
– Ага, как у совы, – подтверждал Вольт, щурился насмешливо, хотя на душе у него делалось сыро и грустно: он понимал, что война затягивается, скоро подоспеет его пора идти на фронт, а на фронт могут не взять из-за слишком слабого зрения.
На фронт же попасть хотелось, он тогда бы показал фрицам, где раки зимуют, но через несколько минут боевой порыв и желание оторвать какому-нибудь гансу или фридриху башку иссякали: очень уж он слаб и худ, голодуха питерская додавила его – не справится даже с самым тощим немчиком, будь тот трижды неладен…
Март – это пора равноденствия, когда люди поднимают головы, грезят о жизни и даже строят планы на будущее; к концертному залу они подтягивались дружно, пальцами протирали фосфорные кругляши, здоровались друг с другом, хотя не были знакомы – всех объединила, а кое-кого и познакомила музыка, на бледных худых лицах расцветали улыбки. Правда, держались улыбки недолго – сил не было совсем.
Люба тоже здоровалась с кем-то, какой-то пепельноволосой женщине с обвисшей на лице кожей махнула рукой, потом прижала к груди пальцы – это был сердечный поклон, точно так же она приветствовала высокого седого человека с густыми черными бровями…
– Ребята, лишнего билета не найдется? – обратился к ним пехотинец с жестяными треугольниками в петлицах.
Люба сожалеюще развела руки в стороны.
Зал был большой, а надо бы, чтоб он был еще больше, – забили его целиком, несколько моряков сидели на полу, два командира в черной форме – на табуретках, принесенных из администраторской комнаты. В проходе стояли еще несколько табуреток…
Оркестр уже находился на сцене, музыканты – в основном женщины, мужчин было только четверо, – пробовали свои инструменты, стараясь определить, точна ли у струн настройка, не сползла ли в сторону; зал глухо переговаривался, волновался, будто река во время шторма, но шум этот не был громким… В нем было сокрыто что-то колдовское.
Нетерпеливое, словно перед праздником, ожидание накрывало людей с головой, захлестывало, но они не выходили из себя, сдерживались. Дирижерское место пока было пустым – видимо, Элиасберг запаздывал, находился на подходе, а с другой стороны, вполне возможно, что он уже здесь и пребывает в дирижерской комнате.