 полная версия
полная версияРассказы, как мертвые женщины
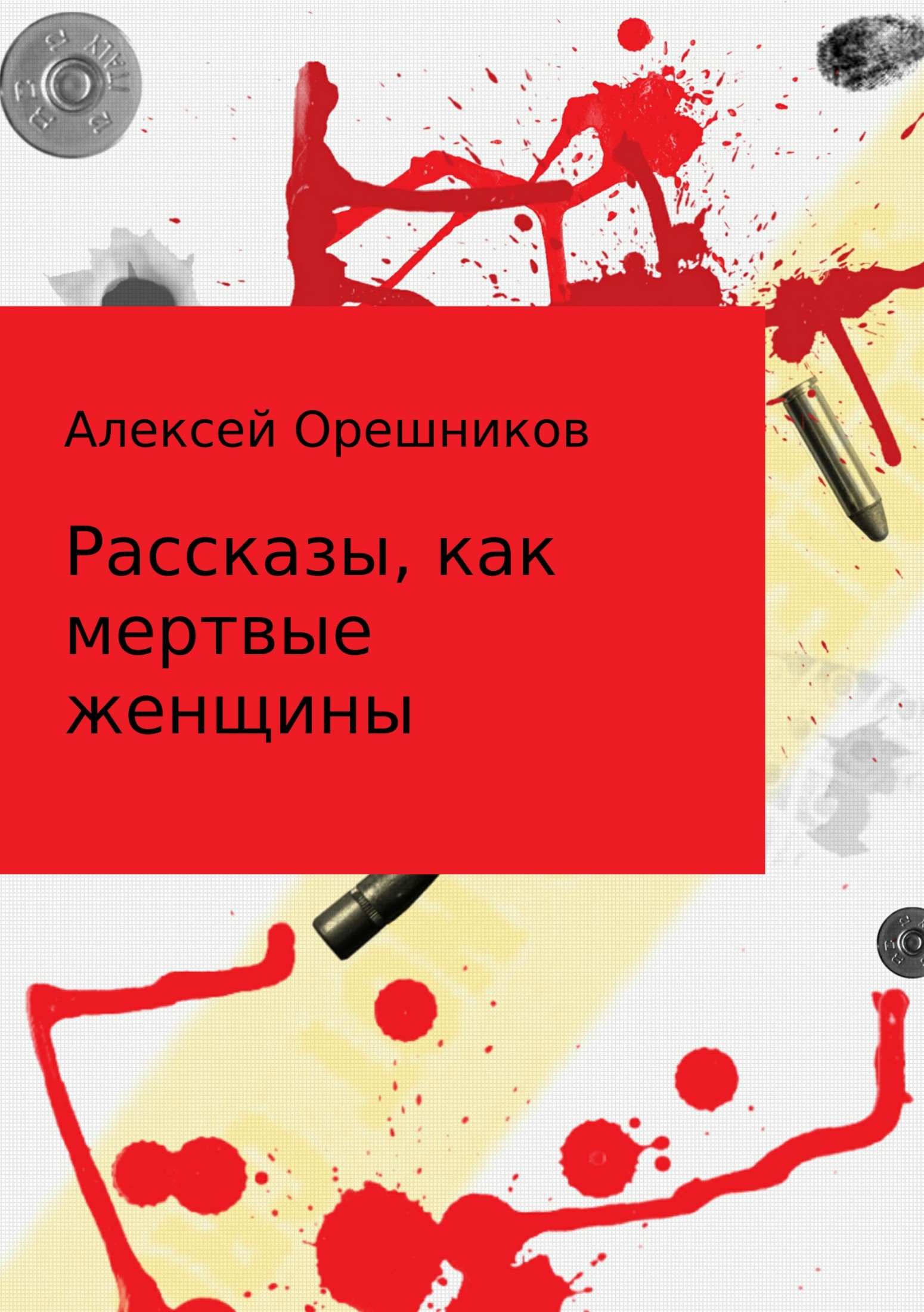
Рассказы, как мертвые женщины
Похоронить пса
Осенняя ночь, сумерки. Воздух пахнет по-особому. Он залетает в открытую форточку и ласкает ноздри, проникая в мозг, оживляет странные воспоминания. Осенние воспоминания. Такие воспоминания не принадлежат человеку, они попадают к нему из вне, живут в мозге, и раз в пять лет, потревоженные холодным осенним воздухом, пробуждаются, что бы лишний раз доказать своему носителю, что он лишь среда питания для осени.
Прохладный ночной воздух, со спорами осенних воспоминаний, влетает в форточку квартиры, где сидят за столом и беседуют двое мужчин. Одного, высокого с длинными вьющимися волосами, воспоминания сторонятся. Они знают, что он не подходит, как носитель всего осеннего. Во-первых, он родился весной, во-вторых, склонен к насилию над самим собой. Его окружает аура недоверия и похороненной заживо радости. Длинноволосый гасит в пепельнице недокуренную сигарету Честерфилд и откидывается на спинку кресла, сцепив пальцы на животе.
Напротив него сидит его приятель. Молодой человек, чуть ниже среднего роста, атлетического телосложения. Он отхлёбывает из кружки зелёного чаю с лимоном, не выпуская из пальцев дымящуюся сигарету кэмел. От него пахнет туалетной водой Адидас, детскими страхами и спермой. Он родился осенью и его лицо испещрено тоненькими морщинками от улыбок, а щеки сухие от слёз.
Споры осенних воспоминаний тут же поселяются в мозге этого второго мужчины. Они вступают в сложные химические реакции и образуют осеннее настроение. Почувствовав это настроение, душа носителя осенних спор трепещет как дикая птица в клетке, и становится горькой на вкус.
Мужчина с тонкими морщинками, улыбается сам не зная чему, и делает глубокую затяжку. Его новое настроение, неуловимое, как музыка Колтрейна, удивляет и пугает его приятеля с вьющимися волосами.
– Что это ты улыбаешься? – с сарказмом в голосе спрашивает Длинноволосый.
– Да так… – отвечает приятель, и его улыбка становится улыбкой похотливого монаха, склонившегося над спящей девственницей. – Я подумал, что хочу написать рассказ, пахнущий морозным осенним воздухом и опавшими листьями.
– Ты пишешь хорошие рассказы, – говорит длинноволосый, – но они хороши для тех, кто лично с тобой знаком. Твои рассказы, понимаешь, они как бы продолжение тебя. Мне и самому интересно, что бы сказал о твоих рассказах, человек, совершенно с тобой не знакомый? Возможно ты талантливый графоман.
Длинноволосый усмехается своим словам и закуривает ещё одну сигарету. Его приятель С Осенним Настроением, снова улыбается, очень искренне, по детски. А его морщинки становятся похожи на блестящую на солнце паутинку.
Длинноволосому становится неприятно от этой улыбки. В детстве его учили: смех без причины – признак дурачины. Иногда он думает, что спонтанная радость – это жаба, от которой бородавки.
– В любом случае, у тебя хорошие рассказы, – врёт Длинноволосый и даже не краснеет.
– Только мне интересно, почему в твоих рассказах нет женщин, а если есть, то мёртвые?
– Иногда мне кажется, что мои рассказы – это и есть мертвые женщины.
Низкорослый тушит сигарету в пепельнице, стараясь, что бы не осталось горящих угольков. Он всегда докуривает сигареты до фильтра, что очень вредно для здоровья. Он хмурит брови, отчего на лбу образуется глубокая трещина.
– Ты когда-нибудь хоронил животных? – спрашивает он.
Длинноволосый отпивает кофе из фарфоровой кружки и отрицательно качает головой.
– А мне приходилось. Я хоронил собаку моей подруги. Колли. Ещё зимой я играл с ним, валялся в снегу, катился кубарем, кувыркался. Он весело лаял и небольно кусался, так, знаешь, играючи. А летом он заснул и не проснулся, хотя молодой еще был совсем. Такое впечатление, что пёс задумался до смерти. Знаешь такой пёс – дурашка. Беззаботный мыслитель от четвероногих. Я его не рассмотрел мертвого толком, помню только большой лохматый комок. Но, мне хочется верить, что он положил голову на лапы и уснул с улыбкой на длинной морде, и смерть застала его в таком виде. Тогда было начало лета, только какое то серое и пасмурное. Мы с подругой положили пса в сумку, погрузили на тележку и повезли хоронить. Дул холодный ветер. Мы везли пса по длинной тополиной аллее. Я эту аллею очень сильно любил. Некоторые не любят тополя, а я – люблю. С детства, не смотря на пух. Мы похоронили пса на пустыре, рядом с аллеей. Под одиноким деревом. А земля такая поганая была, я еле яму выкопал. Получилась не очень глубокая. Подруга моя рыдала очень сильно. Я заметил, по животным плачут не так как по людям. Когда прощаются с людьми, рыдают больше по себе, себя жалеют, потому что знают, – сами то же умрут. Может это и цинично звучит, но мне кажется – это так. А когда животных хоронят, их жалеют, как-то по-доброму что ли. В общем, плачут над самим фактом смерти, из-за того, что вообще всё живое умирает. И это, как я думаю – акт примирения со смертью.
Низкорослый замолчал, отпил чаю, и посмотрел на Длинноволосого.
– Н-да, – сказал тот.
– Когда хоронишь кого-нибудь, – продолжил Низкорослый, – ты уже не думаешь, что в земле лежат останки. Закапывая в землю тело, ты, вроде как, переправляешь его в другой мир. А вообще я не знаю, зачем тебе это рассказал.
Длинноволосый поспешно отхлебнул кофе, посмотрел на часы, и поднялся из кресла.
– Ладно, – сказал он, пряча глаза, – пора уже мне идти.
– Ну ладно, – сказал Низкорослый, – спасибо, что пришел.
Он проводил Длинноволосого до двери. Они пожали друг другу руки.
Длинноволосый спускается по лестнице, ненавидя Низкорослого, но в действительности, он ненавидит себя. Низкорослый закрывает за Длинноволосым дверь и прячет улыбку в карман. Он ненавидит себя, но в действительности, он ненавидит своего отца.
Зигмунд Фрейд
Мне приснился Зигмунд Фрейд. Он стоял передо мной худой и изможденный. Нижняя челюсть отсутствовала, на грудь капали слюни, вперемежку с кровью. Из его грустных глаз текли слезы. Он издавал нечеловеческие звуки. Мне стало от этого очень противно на душе, но я понял, что он говорит.
– Вот здесь! – сказал Зигмунд Фрейд, и ткнул пальцем в область моей почки.
Я проснулся в холодном поту. Сердце бешено стучало, прыгало, ударяясь о ребра. Левая почка болела. Я зажмурил глаза и сморщился. Душа моя словно превратилась в коричневую изюмину, плавающую в туберкулезной мокроте. По сравнению с этим чувством боль в пояснице показалась сущей щекоткой.
Послышался шорох. В комнате было темно. Я резко открыл глаза и посмотрел, приблизительно в ту сторону, откуда исходил посторонний звук. Я знал, что в квартире ни кого быть не может, но на фоне окна, подсвеченного уличным фонарем, я увидел чей-то темный силуэт. Мои мышцы напряглись и окаменели. Спина покрылась мурашками и за долю секунды стала холодной как кафель в туалете. Я хотел закричать, но ничего не вышло. Даже пискнуть я не смог. Казалось, что горло парализовано. Не получилось набрать в легкие воздуха. Что-то в моей голове звякнуло и раздвоилось, и от этого волосы на голове встали дыбом. Все, что видели мои глаза, уже привыкшие к темноте, стало разваливаться на части, менять очертания.
Я вдруг осознал, привычный мир сейчас прекратит свое существование. Подумав так, я испугался еще больше. Со мной такое происходило дважды в жизни. Первый раз – в тайге, когда я ночью выкарабкивался из пещеры и, на фоне ночного неба, принял силуэт коряги за медведя. Второй раз – когда ночевал в гостях: я был в полудреме, и мне на грудь запрыгнула кошка. Вот и сейчас, я сказал себе: успокойся, это не силуэт человека, это что-то другое. Сейчас ты поймешь, что это такое и вздохнешь с облегчением. А, потом будешь смеяться над своими нелепыми страхами. Тысячи мыслей промелькнули в голове, каждая клетка моего тела среагировала на испуг, я непосредственно ощутил и пережил эти реакции. Мне показалось, что прошла вечность, на самом деле все это заняло несколько секунд. Я смотрел на человеческий силуэт, почти черный на фоне окна, и ждал, когда рассеются злые чары ночного испуга. Ничего не изменилось.
– Извини, – сказал силуэт приятным женским голосом, – я тебя сильно испугала?
– А-э-х-т, – сказал я.
– Я понимаю, – сказал силуэт, – ты просыпаешься, а тут такое… но, ничего не поделаешь, иначе нельзя.
Что я почувствовал в этот момент? Можно сказать, что испуг перешел в ужас. Зато я смог совладать со своим голосом, частично.
– Как это? – прохрипел я.
– Ты хочешь объяснений? – спросила моя ночная гостья, и я еще раз отметил, какой у нее приятный голос.
Но, голос этот не успокаивал, а наоборот – приводил меня в ужас. Я почувствовал, что если услышу еще раз этот голос, то не выдержит мой мочевой пузырь. И, все же, я утвердительно закивал в ответ.
– Сначала, перестань бояться, – сказал силуэт.
Тут же мой страх испарился. Даже писать расхотелось. На душе стало легко, и я рассмеялся.
– Ничего смешного, – услышал я. Мне показалось, что голос моей ночной гостьи дрогнул. Слова прозвучали печально, но за этой печалью мне почудился запертый в плену смех. Мне, вдруг страшно захотелось услышать, как смеется этот красивый голос. Силуэт в окне перестал меня пугать. Я попытался рассмотреть в нем (а, точнее в ней) хоть какие-нибудь черты, но увидеть что-то, помимо нечеткого абриса, не получилось.
– Ладно, – сказала гостья, – на сегодня достаточно. Завтра ночью, я приду снова. Надеюсь, в следующий раз, ты не будешь вести себя по-идиотски.
– Но… – сказал я, и тут же уснул.
Я проснулся в девять тридцать утра, и понял, что не могу встать с постели. Почка болела. Чувство такое, словно в бок воткнули нож. Я потрогал больное место рукой. Кожа там оказалась холодной и сухой, как наждачная бумага. Кое-как я дополз до кухни. Вынул из аптечки но-шпу и запил две таблетки водой из-под крана. Потихонечку одевшись (каждое движение отдавалось адской болью в боку), я доковылял до поликлиники, благо она всего в паре кварталов от моего дома.
О ночном происшествии я вспоминал как о сне, на то я и здравомыслящий человек. Нелепые галлюцинации я списал на внезапную хворь. Пока сидел в очереди к терапевту, боль в боку почти прошла. Передо мной сидели несколько пенсионеров. Они наотрез отказались пускать меня без очереди, не смотря на мои просьбы и жалобы на острую боль. Один дед с огромными седыми усами даже пригрозил мне деревянным бодожком.
Врач выписала мне кипу анализов, а на мое замечание, что пока эти анализы сдашь, можешь скончаться, гнусаво протянула:
– Тогда в БСМП.
Что такое Больница Скорой Медицинской Помощи я знал не понаслышке. Брезгливо передернул плечами, и смирился с анализами. Выходя из кабинета, я посмотрел на широченные плечи тощей врачихи. Мне вдруг представилась апокалипсическая интерпретация известного медицинского архетипа: я представил врачиху в виде рюмки, а себя в виде змия, который опутывает врачиху-рюмку, и откусывает её дурную башку.
– Спасибо, до свидания, – бросил я через плечо.
– Следующий! – прогнусавила врачиха.
Мне снится, что я стою возле свежей могилы. Над могилой клены раскинули зеленые ветви. Дует легкий ветерок, играет листвой. В душе покой. Я смотрю на надгробный камень. Какие-то непонятные слова выбиты готическим шрифтом, мне не разобрать. Внезапно ветер усиливается, солнце затягивают тучи. Трава желтеет, листья скручиваются и опадают. Могильный холмик начинает вспучиваться, подниматься. Сыплется земля и на поверхности показываются чьи-то пальцы с грязными потрескавшимися ногтями. Полностью показывается рука, сгибается и вцепляется в землю, помогая карабкаться скрытому пока еще под землей телу. Мгновение спустя из могилы целиком вылезает человек. Это Зигмунд Фрейд. Он смотрит на меня своими почерневшими глазами. Он вытягивает руки и приближается. Нижняя челюсть отсутствует, из грязной дыры на месте нижней части лица известного психоаналитика, вываливаются могильные черви. Фрейд, вытянув руки, медленно движется ко мне.
Внезапно, из-за моего правого плеча появляется человек. Я смотрю на него. Это Карл Густав Юнг. В руках он держит лопату. Его лицо источает свет. Юнг приветливо улыбается мне и делает знак, чтобы я внимательно смотрел, что сейчас произойдет. Я смотрю на Фрейда, который уже в нескольких метрах от меня. Карл Густав Юнг подходит к Фрейду и, хорошенько размахнувшись, бьет лопатой наотмашь Фрейду по голове. С неприятным звуком голова Фрейда отрывается и, ударившись о ствол ближайшего клена, подкатывается к моим ногам. Я опускаю взгляд на голову и вижу, как она мгновенно превращается в прах. Тело Фрейда, облаченное в истлевший костюм, плавно оседает на пожухлую траву и, подобно голове рассыпается.
Я смотрю на Юнга, тот победно опираясь на лопату, приветливо мне улыбается. Он, что-то произносит по-немецки, и я точно понимаю его.
– Внемли, – говорит Юнг, и касается указательным пальцем руки точки между моими бровями.
Я проснулся и резко сел в кровати. В окно светила луна. В комнате было достаточно светло, чтобы заметить в дальнем углу уже виденный прошлой ночью силуэт. Только теперь, благодаря лунному свету, можно было разобрать некоторые подробности. Это точно была женщина. У нее были длинные светлые волосы. Одета она была в белую ночную рубашку. Я обратил внимание на обтянутую тканью грудь, и на красивые тонкие пальцы с короткими ногтями. Лицо женщины было скрыто в тени. Я подумал, что бояться нечего, но душу, словно ошпарило кипятком. Надеясь побороть страх, или наоборот движимый страхом я заговорил первым:
– Слушай, ты не могла бы приходить днем, и хотя бы для приличия звонить в дверь.
– При всем желании не могла бы, – ответила она, и я снова отметил про себя какой у нее приятный голос. – Сегодня ты держишься молодцом, – сказала она, – уже не писаешься от страха, как маленький мальчик.
Меня почему-то обидели ее слова. Я приосанился и чтобы показать, какой я храбрый. Хотел, было встать с кровати и подойти к ней.
– Не смей двигаться, – сказала она.
Меня словно вдавило в кровать. Я попытался пошевелиться, но не смог.
– Что ты делаешь? – закричал я.
– Пытаюсь сохранить остатки твоего рассудка, – ответила она, – поэтому не двигайся… пожалуйста.
Это её последнее «пожалуйста» успокоило меня. Я постарался расслабиться, хотя страх новой волной окатил меня с ног до головы. Голос моей гостьи обладал какой-то неестественной способностью воздействовать на мое тело. Голос ее был красив, но красота эта напомнила мне красоту лезвия ножа.
Когда Гостья заговорила в следующий раз, я понял, что слышу ее голос не ушами, голос этот звучит внутри моей головы. Я лишь воспринимал информацию, мой мозг был приемником, декодером, а звук придумывал я сам. Это был голос моей матери.
– Понимаешь, – сказала Гостья, – если бы ты услышал истинный звук, которым я взываю к тебе, то ты бы точно свихнулся. Это простейший защитный механизм, подобный описанной Фрейдом работе сна. Ты обличаешь информацию в слова, и, как конфету в фантик, заворачиваешь их в голос своей матери. Прости, что говорю тебе это, и не обижайся на меня.
– Зачем ты приходишь ко мне? – спросил я.
Мне стало вдруг нестерпимо грустно и обидно. В горле встал комок, и я громко сглотнул его. Только бы не разревется, подумал я.
– Я выбрала тебя, – ответила она.
– Мне это ничего не объясняет.
– В каждой случайности есть природа совпадения, так же, как в любом совпадении, содержится природа истины. Никто не может объяснить закон причины и следствия, даже Бог не понимает всей сути этих нитей, на которые нанизано все сущее.
– Ну, теперь ясно, – сказал я. – Если зайца убила черепаха, упавшая с неба, то судьба это или случайность?
Я стал чувствовать раздражение и усталость. Мои конечности затекли, так как я до сих пор не мог пошевелить и пальцем на ноге.
– Зачем ты мучаешь меня? – заорал я. – Зачем ты приходишь ко мне, что тебе от меня надо?
– Комсомольский проспект, дом три, квартира восемнадцать, – сказала она.
После этих слов, я тут же обмяк и уснул.
– В общем, полный бред. Еще этот психоанализ…
– Ты, кстати, ничего не читал такого в последнее время?
Я не собирался оставлять все это просто так, как и не собирался идти по указанному мне в ночном бреду адресу. Проснувшись утром, я сразу решил отправиться за советом к моему старому школьному товарищу Жене Петрову. С Женей меня связывала давнишняя дружба на почве любви к панк-року. Еще в школе мы отращивали длинные патлы и плясали «пого» напившись дешевого портвейна. Закончив ВУЗ, Женя продал квартиру, доставшуюся ему по наследству от деда, и открыл центр психологического консультирования. Он изменился до неузнаваемости. Мы сидели в его рабочем кабинете на шикарных кожаных креслах. Облаченный в классическую пару, мой друг смотрел на меня снисходительно сквозь стильные очки в тонкой золотой оправе.
Придя из поликлиники, пару дней назад, я сразу же позвонил на работу и сказал, что заболел. Мне деликатно предложили скорее поправляться и дали неделю без содержания. Когда ночной кошмар повторился, я связался с Евгением. Я рассказал ему все, не упуская ни какие подробности. Женя выслушал меня, не перебивая, затем спросил:
– Ты, кстати ничего такого в последнее время не читал?
– Какой там, Женя. Я книгу в последний раз в руки брал месяца два-три назад. Телик не смотрю. Так, иногда Эхо – Москвы послушаю и всё. Ни чего не понимаю…
– Ясно, – сказал Женя. – Будь я занудой, стал бы тебя сейчас спрашивать про твою скудную сексуальную жизнь, про стрессы на работе.
– Ты лучше скажи, что мне делать? Может, снотворное пропишешь, или сразу шоковую терапию.
– Вот мой совет вам, молодой человек, – сказал Женя, снимая очки и потирая переносицу, – прогулки на свежем воздухе, парное молоко, и безудержный секс на сене.
Женя ссутулился и посмотрел на меня, скорчив нелепую гримасу. Он преобразился в какого-то старичка-профессора кислых щей. Нужно видимо обладать актерскими способностями, чтобы быть хорошим психологом. Я засмеялся. Женя засмеялся в ответ и откинулся на спинку кресла. В двадцать восемь лет, он остался мальчишкой. В этот момент я даже слегка позавидовал ему.
– Кончай прикалываться, – сказал я, – мне от этой жути реально крышку свинтило.
– Хорошо, – сказал Женя, возвращая на место очки. – Кроме шуток, сходи туда.
– Куда? – спросил я. – Не понял.
– Комсомольский проспект, дом три, квартира восемнадцать.
– Ты, что снова издеваешься?
– Послушай старик, – сказал Женя. – Сходи по этому адресу, это серьезно. Сходи и все. Не спрашивай меня и себя зачем. Просто, без всякой логики. Ты же пополам не переломишься.
– Это, что, какие-то психологические штуки? – спросил я.
– Нет ни каких психологических штук. У меня однажды случилось нечто подобное, конечно, без всяких ночных фантомов и мертвых психоаналитиков. Проснулся я как-то утром, а у меня в голове стоит слово «Кингисепп». Я давай у всех спрашивать, что такое Кингисепп? Ни кто не знает, хотя все что-то подобно слышали. Короче, через пару месяцев я узнал, что Кингисепп – это город на границе с Прибалтикой, севернее Петербурга.
Женя договорил и замолчал, внимательно глядя на меня.
– И что? – спросил я, ожидая какого-то продолжения.
– И все, – ответил Евгений.
Я внимательно всмотрелся в лицо друга. Ни тени улыбки или иронии. Красивое серьезное лицо. Умные серые глаза.
– Ладно, – сказал я вставая. – Давай лучше встретимся, попьем пивка на выходных. Женя встал и пожал мою руку.
– Саша, серьезно тебе говорю, сходи, а на выходных встретимся, попьем пивка, и ты мне расскажешь, как все прошло.
Дом три на Комсомольском проспекте оказался в пятнадцати минутах ходьбы от моего дома. Обыкновенная серая девятиэтажка, новой планировки. Я зашел в первый подъезд, поднялся в лифте на седьмой этаж. Вот она квартира восемнадцать. Стандартная железная дверь, не знаю, чего собственно я боялся или хотел увидеть. Рядом с дверью, на известке было выцарапано: скунс – лох. Кто-то зачеркнул «лох» и подписал слово «мощный». Я улыбнулся. Все стало просто. Этот самый Скунс, подросток лет пятнадцати, сидит сейчас за «компом» и «рубится» в «Контру». Его мама готовит на кухне куриный суп, а папа смотрит «Ментов» по телику. Зайти или не зайти, думал я. Ладно, стоит зайти, если уж пришел. Скажу, что ошибся квартирой.
Я подошел к двери и постучал, звонка не оказалось. Подождав пару минут, постучал снова, теперь громче. Ни звука. Я взялся за ручку и потянул дверь на себя. Она поддалась. Как это я сразу не заметил, подумал я. Как только дверь приоткрылась, я почувствовал этот запах во всей его полноте: сладковатый, тошнотворный, не спутаешь ни с чем. Запах был сразу, едва уловимый, но я так привык к подъездной вони, что посчитал наличие неприятного запаха скорее нормой, чем аномалией. Наверное, так думают все, решил я. Подавив позывы к рвоте, я вошел в квартиру.
Две комнаты. Типичная планировка. Как у меня. Я заглянул в комнату, так для проформы. Там ни кого не оказалось. Я инстинктивно направился в ванную. Распахнул дверь.
Она лежала в ванне. Я ведь не медик, не могу сказать, сколько она пролежала. Ее тело походило на губку. Раны на запястьях набухли и стали похожи на грибы. На стене кровью было написано число «17». Внезапно я увидел все. Словно оказался в эпицентре голографической проекции.
Я нажал на дверной звонок квартиры номер семнадцать. Послышалась приятная соловьиная трель. Сразу за этим шаркающие шаги.
– Здравствуйте Федор Михайлович, – сказал я.
Может безумная улыбка на моем лице, может мой официально-снисходительный тон, скорее все вместе, заставило этого мужичка раболепно пригнуть колени. Лысеющий, лет сорока с лишним, одетый в майку и трико, он испуганно смотрел на меня, открыв рот. Его руки и грудь порывала обильная кучерявая растительность. Мне это показалось особенно отвратительным, я с трудом подавил желание наброситься и избить его.
– Пройдемте со мной, – сказал я.
Федор Михайлович заметался, высматривая что-то на полу. Я понял, что он хочет обуться и, возможно одеться.
– Здесь не далеко, – спокойно сказал я.
– Ага, – сказал он, и, опустив голову, вышел в подъезд.
Я встал у него за спиной и сделал пригласительный жест, указывая на дверь восемнадцатой квартиры. Федор Михайлович сразу понял, в чем дело и застыл на месте. Сейчас убежит, подумал я. Но нет, потоптавшись на месте, он вошел в дверь соседней квартиры. Я стоял и смотрел, как он, выпучив глаза, пялится на тело в ванне. Его всего трясло. Он издавал какие-то невнятные звуки. Я смотрел на него и не чувствовал злобы или ненависти к этому невысокому, коренастому мужичку. Внутри меня была пустота. Лишь чувство выполненного долга и странного смирения владело мной в этот момент.
– О, Господи!
Внезапно кто-то завопил за моей спиной. Я резко обернулся и увидел женщину. Ее глаза практически вылезли из орбит. На ней был кухонный передник. В руках она держала полотенце. Увидев женщину, Федор Михайлович весь сжался и закрылся руками. Он завыл.
– Ах, ты ж скотина! Ах, ты ж дрянь! Ах, ты ж тварина ты нечеловеческая!
Женщина кричала лупила Федора Михайловича полотенцем. Скорее всего, это была его жена. Из глаз ее брызгали слезы. Когда полотенце выпало из рук, она стала бить мужа кулаками. Тот не сопротивлялся, только закрывшись руками, выл и лепетал какую-то несусветную чушь. Я спустился вниз и вышел из подъезда на свежий воздух.
Разом нахлынули чувства. Меня все же вырвало. Вытерев рот платком, я достал мобильник и стал набирать 112.
Духовный опыт
Илья Симонов вышел из себя.
«Наконец-то, – подумал он, – а то мне уже стало казаться, что это нереально. И, что все мои труды напрасны».
Не теряя даром ни секунды, Илья стал осматриваться по сторонам. Его комната, со всеми вещами, вдруг приобрела новые незнакомые очертания. Цвета, краски привычного мира стали другими. Впоследствии Илья догадался, что когда «выходишь из себя», начинаешь не просто видеть вещи, но и проникать в их истинную, скрытую от глаз, природу. Например, советские часы-будильник «чайка», стоявшие уже четверть века на тумбочке у кровати, сочились водой, которая тут же впитывалась в кучку песка под ними.
«Время – песок, время – вода», – догадался Илья.
Шкура медведя на стене, как-то усохла, полысела, и покрылась кровавой испариной. Шкура подняла морду и посмотрела влажными глазами на Илью. Столько было в этом взгляде тоски и страдания, что Илья Симонов невольно отвел глаза. Он бы не только отвел глаза, но и проглотил бы нервно комок в горле, но когда «выходишь из себя», сделать это просто невозможно.

