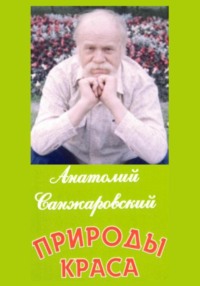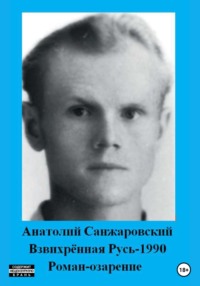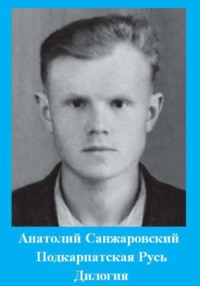полная версия
полная версияДожди над Россией
Никакого кнута ввек не было у старика и оттого, что он обводит арбу взглядом в поисках кнута, кнут всё равно не появляется.
Деда выдергивает из грядки сухую лозинку, помахивает перед собой, как веером.
– По-хорошему говорю, бойси! Ну бойсь меня! Не то хлестану-у! Не посмотрю, отрок Красавчик ты иля седой Всеволодушка.
Чёрный, с проседью Севка выше на ногах, шаг размашистей. На полголовы выпережает малюту Красавчика.
– Старайсе… старайсе, Всеволодушка! – бодрит деда. – Молодец! Попанешь в рай на самый край, где Боги горшки обжигают… А что же ты, малуша Красавик, задних пасёшь? Иль думаешь, мил друг, по мне хоть трава не цвети? Хотько сено не сушись? Не-е-е… Эх-ха-а… Знаешь, выхвалялся гриб красной шапкой. Да что с того, раз под шапкой головы нету? Прищуривай, прищуривай, упрямчик, на левый глаз! Смотри на напарника… Работай, работай, ударничек!.. Шевели поживей копытами… Или я за тебя буду переставлять ноги? Совсем никчемуша… Ни суй ни пхай… Ой, как бы я тебя, хлопче, не заслал, где козам рога правют. Во-о репку запоёшь!
Красавчик не умел петь репку, норовистей заперебирал стройными ногами в белых носочках и вот уже поспешает вровне с Севкой.
Деда благостно съехидничал:
– Ну что, сивый Сева, ухватил шилом киселя? Доста-али мы тебя!.. Большь не задавайся. Кто сивый не мудрый, а просто старый уже. Попал я в точку? Попал, скажешь, как слепой на стёжку? Пускай и так. А всё ж попа-ал…
Ускакали мы аж за Лысый Бугор. Покружили по глухому яру – порос, переплёлся всякими колючками и прочим ералашем. Тот глухой яр всяк обминал кружком, там деревца и подкрупнели.
Показали мы всё как есть.
– А где вы спрятали зимнее своё тепло? Покажь…
Ведём в укрытие к своим похоронкам.
Откладываем себе по вязанке.
Деда поцокал языком, поцокал и тихо поехал. Мы ладимся следом пыхтеть с вязанками. Поставили свои вязанки попиком, не успели сшатнуть себе на плечи, ан видим: лусь себя по лбу, угорело правит деда назад.
– Послухайте, николаевские жанишки. Я пролетал над вами на самолёте. Сбросил чувал муки. Вы не находили?
Мы опешили. Какой самолёт? Какая мука?
Он растерянно таращится. В горе торопит с ответом:
– Так не находили? Га? Мука же! Целый чувал!
Мы заозиралась. Жмёмся.
Крадкий смешок катнулся в его прищуренных глазах.
Розыгрыш!
– Раз не находится моя мука, давайте артельно подумаем, чтоб не пропали и ваши дрова. Я думал… Аж извилина бантиком завязалась… Да что я? Одна голова – это одна голова. Две головы – не одна уже. А три – уже совет! Чего мне назад порожняком тарахтеть? Всех покойников подыму. Как вы считаете?
– С нашими дровами грому не бу-удет, – в тон ему лукаво тянет Глеб. – Ни одного покойничка не разбудим. Прямо ложка к обеду Ваш наводящий вопрос. Грузимся!
– Оно б сразу надо было загрузиться… Да я трухнул… Цепной пёс агроном притужает, запрещает возить на арбе что там рабочим. Да… Его дело запрещать, а наше дело не слушаться!
Деда осмелело вбил колья в грядки, нарастил рёбра бортам, увязал. Как ни много было, горой ужали всё в арбу подчистую. Напоказ в яру и щепочки не осталось гнить.
В другой раз, это уже ломали кукурузу, порядочная куча початков с локоть Ильи Муромца грелась у нас на огороде. Таскать в мешках за неделю не перетаскаешь. А тут тебе в воскресенье под вечер деда с рыбалки ехал мимо. Чего не остановиться, не дать быкам роздыху?
Покуда те отдыхали, роняли стеклянную пену, деда набросал вровень с грядками кукурузы. И мы не считали ворон. Помогали ему.
– На кукурузке вам будет теплей сидеть, мягче, чем на голых грядках, – оправдывался почему-то он.
Как сесть на хлеб? Какие ещё посиделки на кукурузе? Уже то счастье, что не едет она на тебе верхи.
Довольные, в душе ликующие брели мы домой по бокам тяжёлой арбы.
А то чудок пал угол нашего сарая. Митрофан с Глебом забегались строить новый. Нежданно у деды выскочил отпуск. Чтоб не застрелиться со скуки вяленой таранкой, как он говорил, с неделю выводил со шкетами десяти и тринадцати лет козий домок.
Часто, слишком часто в тоскливую минуту возникал рядом деда. Наявлялся ненавязчиво, как бы под случай.
Впрочем, я расколдовал закон его случайностей. Он боялся помять мальчишеское самолюбие видимым опекунством. Клал всё сердце в те случайности, что подгадывал, ждал зорко, со скрытым судорожным рвением. Что говорить, не давал дунуть ветру на нас.
Всё то шло от доброты, что наполняла стариковское существо. Доброта жила во всём: в отношениях с людьми, в повседневных хлопотах будней, в манере держаться, в голосе, во взоре, наконец в самом лице, в остреньком птичьем лице со следами оспы. Оно было лишено броской привлекательности и вместе с тем было необъяснимо живое, выразительное, какое-то говорящее, отчего, раз глянув Семисынову в лицо, вы ловите себя на том, что не спешите отводить взгляд от его лица, точнее, не можете отвести, будто в нём сидит божья волшба, набежавши под которую пиши пропало: хотите вы того, не хотите, а власти над своей волей больше нету у вас, как нету её у дробной булавочной головки, что с лёту мёртво прижалась к препорядочному куску магнита.
– Не вышей печной кочерги был я тогда, – уклончиво, в шутку рассказывал он про оспенные пятна. – До полной, плотной темноты и разу не дозвался меня с улицы родитель. На беду, как-тось оспа ходила по нашему местечку с клювом, неслухам пятнала щедринками лица. Да вот поди ты с нею… В потёмках не заметил дурайко оспу, напоролся… Только этого цветочка и недоставало в пышном букете невзгод моих житейских…
– А за наколку[29] папахи не боитесь?
– Я, Антончик, уже устал бояться. – Деда грустно усмехнулся. – Я своё отбоялся с горушкой… Прошёл-проехал от нанайцев до грузинцев… Мно-ого истории видал. Видал, как за невыработку минимума трудодней давали семь лет. А какой он тунеядко, ежель с войны полуинвалид? А оне норму что здоровому бугаю, что ему. Самого на год лишали слова.
– Это как?
– А так… В коллективизацию начали ломать не только человека, но и землю. Изнущались над землёй. Я председателю: это и это не так. А надо бы делать так вот и так. Председатель: «А-а! Ты меня учить?» Вызвал милицию. Милиция мне и объяви: «Ты не имеешь права разговаривать. Лишаем голоса на год. Можешь только свистеть. А заговоришь без разрешения, дадим срок».
– И вы молчали?
– А куда денешься? Но молчал, молчал и не стерпел… Слёзы пробивали. Обидно… Дома сквозь зубы шептал. А на народе ни-ни. Один подпёрдыш хотел меня упрятать. Стукнул по спине, думал, заматерюсь. Тогда он на меня и донесёт. Стерпел я, смолчал, но в ухо свистнул ему кулаком…
– А что Вам было, когда снова заговорили с председателем?
Он печально отмахнулся:
– И не спрашуй…Всё одно не скажу…Так научили молчать… Никто не нуждался в народном голосе… Теперь-то по державе оттепель… Лиховой Никитушка под напасть не подпихнёт… Хотя… Ну не глупостя перевесть личную живность? Кому в умную голову зайдёт? Верхи крякнули, папахи и замельтешили, и замельтешили. На неделе… на уклоне дня снова нагрянула из города горькая старая папаха. Уже под вечер. По раивону скачет кой-какой мелкий народец, детворня. А взрослых ни души. У нас же не по часам работа. Развиднелось – беги. И покуда тюремная тьма не сольёт ряды, бригадир никого не отпустит с плантации. Уже того чая не видно… А сейчас особо. Май всему голова. Упустил – чай застарел. Не ущипнёшь… Пощупаешь, да не ущипнёшь ни чая, ни приработка… Ну, из взрослых, можь, я один. Папaxa и присипайся ко мне.
«Перви Май скор! Гуляй нада! Козки всэ рэзат нада! Решэнья, – палец мохнатой палочкой в небо, – эст!»
Я ему подковыристо и отпульни:
«Етишкин малахай! Подсевала! Да возвертайся спокойно в свой город. Срапортуй по начальству, что мы ту решенью уже исполнили. В раивоне нету ни одной козы, туды её в качель!»
Не верит. Мотает головой папаха.
Потащил я его по сараюхам. Во все заглянули. Нету!
«А можэт, коза эщё на лес? Придёт потом?»
Толкётся он. Ждёт. Слава Господу, тут набежал мой Колька. И я послал его к тебе домой, понёс он тебе мои слова…
– Чтоб летел я духом под Лысый Бугор к Ваське-пастуху и сказал держать стадо в яру до глухой ночи?
– Верно. Папаха повертелась, покрутилась и счастливо отбыла по большачку в Махаразию… Мда-а… Не докумекай я свертеть колесо[30] вовремю, можь, ты б уже не скакал к козушкам к своим с бидончиком? Некого б было там доить. А из папахи молока разве выжмешь?
8
Жизнь – это отрезок между мечтой и реальностью.
Л. СухоруковСолнце поджигало, било прямо в глаза.
Деда щурится на меня из-под ладошки.
– Не стой. Нехай полы не висят. Нехай отдохнут. Садись!
Он пододвинулся на корзинке.
– Да не надо. Постою я.
– Не тетерься. Ноги за день наломаешь ещё.
Я сел.
Оба делово уставились в землю.
Молчим минуту. Вымолчали две.
Что ж это играть в молчанку? Была охота!
Скосил я глаза – деда кокетливо подаивает свою лопатистую бороду. Затея, видать, к душе. Доит с наслаждением, с тихой радостью. Бородёнка желанней меня!
Это подмывает меня на дерзость.
– Она у Вас доится?
– А ты не знал?
– Тогда надоите полный! – подаю я бидончик.
Деда чинно берёт бидончик. Снимает крышку.
Воткнул нос в бидончик.
– А-а… Духовитый… С крипивой мыл… Мы с бабкой тож всяку посудишку под молоко завсегда моем, как говорит она, с крипивой. Банки у нас повсегда духовитые. Таскал вчера утрешнее молоко агрономше Гоголе. Подхвалила. Как банки у вас хорошо пахнут! А я говорю: «А я диколону туда пускаю». Я опытный. Во всех жомах побывал. Как и что – не стесняйся спрашувай… Постой, постой… Ты чё весь кислый?
«Чего кислый, чего кислый… Нашли чем выхваляться. Бородой! Да я в Ваши годы отпущу чумацкие усы сосульками… Не, лучше бородищу ниже пяток! Почище Вашей! Зимою буду ею вместо одеяла укрываться. А вот хвастать так не стану!»
– Гляну-погляну это я на тебя… Чего эт ты, как сел на корзинку, заважничал, как той подпасок на воеводском стуле? Или ты, и то сказать, недовольный чем? – снова из-под руки щурится он, щупает меня плутоватыми глазками.
– А Вы поменьше жмурьтесь, больше увидите.
– Ты загадки не загадывай, демонёнок. Обиделся на что? Так ты безо всякой вилялки и рубни. Видишь, какой минус за мной увязался – я ж не святее папы римского! – на язычок простоват… Может, когда что и ляпнешь непотребское. Так ты без антимоний врежь в ответ своё прямиковое слово! Не жмись…
– Яйца курицу не….
– Это, – перебил он, – ещё надо доглядеть, что там за курица. Что там за яйца. Не стесняйся бить посуду.[31] Особенно поделом. Танком на своём упирайся! Понял? Ну!
– Не нукайте, я пеший…
Я встал идти.
За полу пиджака тянет деда меня книзу.
– Взбаламутил душу да и?.. Та-ак… сели… Давай говори, санапал. Тебе по штату в таком разе говорить надо, шишка еловая в ухо залети!.. Какое неусмотрение завидел? Чё ж его молчать? Иль ты меня пытаешь?
Цепкие, вмёртвую остановившиеся глаза смотрят в упор.
Я не выношу взгляда. Опускаю лицо.
– Да ничего… деда… Я так…
– Не плети бабьи сказки, вруша. По глазам вижу… Другой на моём месте за такое измывательство ух как перекрестил бы тебя крест-накрест матерком с ветерком да и до свиданьица. А я, коротконогий пенёк березовый, все блажу… скажи да скажи… Попомни! Смолчал, не сказал – всё одно что соврал!
– А на что мне врать? Разве без вранья не видно, как на часах Вы спите? Вот!
– До-олго молчали, да зво-онко заговорили… Эшь, едри-копалки, в самое дыхало… Сгрёб за горло, зажал, как воробьишку в кулаке… Да не за тобой первина… Я сам себя зажал ещё когда… А толку, толку? А?
Я не собирался задавать ему каверз и с пылу ненароком дёрнул за больную струну.
– Тэ-тэ-тэ-тэ-э… – заговорил он после горестного молчания. – Человек, Антоня, по своей натурке… Кто ж он в натуре?.. А враг его маму зна! На зачинку природа бросает в человека всего по щепотке, по самой малой малости и того, и того, и того. Одно пустит ростки, другое не пустит, вроде как на том огороде. Бабка чего-чего не натыкает в мае. Смотришь потом, руки раскидываешь. Иное посаженное ещё в земле, в семенной скорлупке, в своей тёплой колыбельке, примрёт, так и не увидит света дня. А печерица, сурепка, бузина, васильки, чертополох… Никто ж не просил, никто не сеял, а кэ-эк попрут, кэ-эк попрут!.. Рвёшь, рвёшь эту ералашную дичь да и плюнешь. Так никогда и не расковыряешь, откуда у неё родючая силища. И как ты ни маракуй, не изживёт грядка своего века без дурного copy. Так и человек… Конешно, не всякий… Всех под одну гребёнку тож нельзя… Мда-а… По небу облака, по челу думы… Тут подумаешь… Оно, опеть же в повтор кладу, не каждый человек по своей натуре паскудник, а уж вовсе и не без того. Это точно. Ты отложи себе это в голове на самую главную полочку. Помни про то всегда. Взять меня. Бабка вроде и довольна как. Поёт стороной, хоть у меня мужичок всего с кулачок, да за мужниной за головой не сижу сиротой. Во-о-о-он оно! Какой ни реденькой тын, а затишко… Не убивал, не царёвал в чинах, не крал… Не из рукава ел свой хлебушко честный, нехай не всегда и с маслом. Масло!.. Случалось часто и густо, гремел гром в пустом брюхе с манны небесной, годами бегал вполсыта курилка. Всяко крутилось, и всё наше: и холодно, и голодно, и доставалось, как бобику на перелазе… Весь теперько плохобольной… Пичуга я немудрёная. Так… Среднего полёта. Здоровье всё рассыпал по бездолью, растрынькал… Никуда не годное. А тут тебе на́! Ране наш районишко почитай был крыт небом, обнесён ветром. Хлоп, ан обносят забором, как крепостину. Вешают ворота. А ворота раз вешаются, так кого пущай, а кого и погоди. Кто должон ту обедню править? Товарищ сторож… Я…
Пошёл я в контору, выписали ружье. Всё какое-то каржавое, сермяжное. Ну, думаю, у всякого Филата своя во лбу палата. Все мы с виду каржавые. Дай попробую в деле. «Угостите патрончиком», – прошу директора. А он мне: «Вот насчёт патронишков не обессудьте. Нету и не надобны. Ещё ухлопаете кого под горячий глаз». – «А наскочи матёрый шельмопёс какой?» – «Всё едино! Отстрел… Ни Боже м-мой! Пускай он и матёрый-разматёрый. Зато нашенский! Свой! Советский! Его не утетёшивать, его до-вос-пи-ты-вать на-до! К коммунизму едем, архарушка! Паровозишко уже в пути! Первая остановка – Его Сиятельство Коммунизм!.. Десять суток… Пятнадцать суток… Пятнадцать лет!.. Выбор королевский! Всё ему, лиходейке, на блюдечке с каёмушкой. Только не пальба, только не канонада…» – «А нападения ежель? А ежли мне в предупреждение приспичит его поставить? В во-оздушек хотько разо-очек!..» – «Ну! Это уже pазбaзаривание народного и государственного добра. Вы в воздух бах, я бабах! Сколько таких купоросиков набежит? Не думал, что вы такой мотущий…[32] Да и чего мы цедим из пустого в порожнее? Патроны без смысла… С ружьём не вся правда вышла. Влезла ошибочка. Ружьецо отписано в тираж… Стрелять разучилось…» Я аж так и сел на чем стоял: «А на кой кляп мутить старику голову?!» Толстун, хоть блох на пузе дави, осерчал, стал в наполеонову позитуру: «Он мне указ! Дождь с земли хлынул на небо!.. Слушайте мытыми ушками. На посту вы с ружьём. По форме. Но не стреляете. Не в кого. Вывелись у нас всякие там мазурчата. Будете сторожем нового типа! Сим-во-ли-чес-ким! Современным!» Хе! Символический сторож!.. Символ я. Так что ты меня не бойси.
– Угу…
– Дело моё нежаркое. Непыльное. С грустинкой… Промеж нами пройдёть… Только живость и зазолотится, как когда кого из наших выдают на сторону, или, наоборот, какую наши везут со стороны. Уж той свадебной карусели-поезду не дам я ходу, не открою врата рая, – он криво усмехнулся, – пока выкупа не подадут. Со всякой новой мельницы водяной берёт подать утопленником. А свадебка откупается у меня натурой. Чачей.
«На, дедусь, цельнай литар!»
«Ax, ёшкин нос, удивил!»
«На вот ещё!»
«Будет. Дай вам Бог эстолище сынков, сколь в лесу пеньков!» – «Иэх! – Удалая невеста долго не думает, звонко целует жениха. – Иэх-ха-а! Старого мужа соломкой прикрою, молодого орла сама отогр-р-рею! Сказала б что ещё, да дома заб-была!..»
Реденько шалые праздники эти жалуют к нам. А хорошие праздники…
Отзвенит свадебный ералашка. Всё поуляжется. Всё поутихнет… Снова всё побрело своим чередом. Этот черёд нет-нет да и зачнёт изводить адовой скукотищей, тиранским одноцветьем дней. Во-о где зарыта собака! Лучше б…
– Стойте! Стойте, дедуня! Так где же зарыта собака? Адрес!
– Чё ты буровишь, лаврик? Какой ещё адрест? Просто мы так говорим.
– Сперва всё это было в действительности в немецкой стороне. В местечке Винтерштейн торчит на улице указатель:
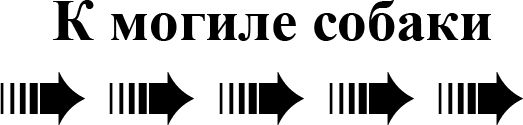
По указанной дорожке попадёшь в старинный парк.
Возле запустелого замка могила.
– Эк, таранта! Эк, плетёт кошели с лаптями! Полно несть околёсную! Подай, Бог, твёрдую память. Вяжи, да в меру… Можь, ещё наскажешь, как собачку звали?
– Штутцель! Штутцель звали. Два века назад в междоусобицу бегала связной. По команде хозяев замка Винтерштейн протекала во взятый в кольцо врагом замок Гримменштейн. Ходила туда и обратно, туда и обратно. Погибла. За верную рискованную службу – памятник на могиле! На каменной плите выпуклый портрет Штутцеля, стихи.
– Ты-то откуда всё это выгреб?
– Из журнала… И начинаются стихи так: «Вот где зарыта собака…» А Вы… Просто так говорим!
– Ну, не просто… Просто так, от нечего делать и комар лезет на полати. Так что из того?.. Сбил меня той собакой, будь она неладна. Лучше б её не откапывать… Раз я состою на службе, я и имею государственную копейку. Я должон святко чтить волю тех, кто на честный мне хлеб даёт. Как ни бейся, в житухе оно так прямушко не выскакивает. И чем больше ты на ногах, тем больше варишь непотребства… По-хорошему… делать того и не надо бы… Один сон отдирает человека от пакостей. Больше спишь – меньше грешишь.
– Ну-у… Чепуховина с морковиной. Не верю!
– А я и не гну верить. Можь, я сам себе не верю сполна. А покуда ночь тута откукарекаешь, про что только, как его только не помыслишь. Вот перед твоей явкой сижу и думаю, – он утишил голос чуть не до шёпота, – сижу и думаю, что такое наш совхоз и что такое тюрьма на первом районе, где раньше жили и мы, и вы? Глубоко и долго думаю. Но разницы так и не нахожу. Что там, что там люди работают одну работу. Обихаживают тот же чай. Что там, что там пашут почти за бесплаток. Так у тюремного пролетария дело тут даже красивше. Жильё вот бесплатное. Пропитание да одёжку ему то же государство кидает. А совхозник за всем за тем сбегай в магазин да на базар. А без денег тебе кто-нибудь что-нить давал? Мне пока никто не давал. А заработать не смей. Вот май, самая пора… Лучше чая в мае не бывает. Но они, – поднял палец, – норму о-о-опс до небес! И ты хоть укакайся от старания на том чаю – всё равно на тоскливых грошиках съедешь через всё лето в пустую ненастную осень. Почитай бесплатно ишачит в проголоди человек, а державе барыш. Звонит во все колокола. К коммунизму прём!
– Зато мы вольные! Куда захотел, туда и пошёл.
– Ну, сходил куда хотел… Позвонил там в Париж[33]… Или там… Да вернулся ты к чему? К тому, от чего ушёл! Далече убрёл телёш… Между прочим, тюремцы тоже названивают спокойненько и в Париж, и бабушке…[34] В тюрьму скидывают народко виноватый. Но в совхозе ты много видал, кто своей волей сюда влепёхался? Есть, знамо, таковцы, а большь выселенчуки… Иль как их там… зеленогие…[35] Неугодные властёшке… – потыкал пальцем вверх. – Твои родительцы не разбежались влезать в колхозово ярмо… Так где они очутились? В Заполярке. А Заполярку с Сочами не спутаешь… В те Сочи наш брат может только покойником въехать.
– Это как?
– Твой батько где похоронетый в войну? В Сочах…
– А-а…
– Из-под зелёного расстрела,[36] – деда снова сбил голос до шёпота, – ваши влетели в вечный сухой расстрел[37]… Заключённые считали в войну три недели на лесовалке сухим расстрелом. Всего-то три недели чёрной изнуриловки… А тут – четверть века! На чаю! А чай не милей лесоповалки…Тюремный срок знает конец. А выселенческий?.. Кой для кого вопро-о-осина…
– И Вы никакой не видите разницы между совхозом и тюрьмой?
– А ты видишь? Скажи. У тебя глаза молодые. Зорче.
– Я ни разу не был в тюрьме.
– Ты ни на минуту не выходил из неё! Ты в ней уже жил на первом районе! И – живёшь сейчас. Минутой ране я про что тебе кукарекал? Мы обжили тот первый район и потом нас сюда, а в наших бараках на первом разместили тюрьму. А ты говоришь, не был… Царевал и царюешь в тюрьме! И никогда не выходил из неё ни на минуту!
– Это что-то новое…
– Да нет, всё старое… Даже буквы, какими начинаются эти слова, живут в азбуке в соседях, рядом. Кто впереди? Сы! Совхоз-колония! А следом бежит преподобная тэ. Тюрьма! Рядышком, рядышком… Разницы и не поймать… Тюрьма огорожена колючей проволокой на обе стороны. Мы как бы вольные по эту сторону, тюремцы по ту. А так… Сплошняком тюрьма. Ненаглядный социализмий… Ты ж знаешь, социализм – это советская власть плюс электрификация всей колючей проволоки… Знаешь, если б не проволока, кой-кто из совхозных и полез бы через забор жить на сталинскую дачу…[38] Любезный «отец народов» выстарался… Вот чёрная парочка – однояйцовый Гитлерюга и Сталин… Допрежь всего оба хороши!.. Сталин гнобил свой народ! Только в войну не расстреливал своих. Выскочил у него негаданный «перекур» в четыре года. Однояйцовый помешал ему войной. Выходит, война кой-кому из наших сохранила жизни? Вот и думай… В какую трубу вылетели наши сорок миллионов репрессированных? Правда, другие называют цифру пострадаликов в сто раз меньче. И кто прав? Ни-кто! Потому что и у тех и у тех нет точных данных. Дать бы их могла власть. Но она держит всё это хозяйство в секрете. А слухи… Что слухи? Только в одной Новой Криуше, откуда твой батька корнем, до войны было раскулачено, репрессировано и выслано на чужие жуткие поселения, по словам стариков, более трети односельчан! А верно ли это? Опять кто же подтвердит документом? Найди ту трубу, в которую ухнуло столько пострадаликов… Спроси… Что она тебе расскажет?.. Одначе кой да чего позже рассказала… Это уже открытые цифирки… В январе 1920-го в Криуше жило 8624 человека. А в двадцать девятом было уже более 10 тысяч! Но к январю сорок первого уцелело лишь восемь тысяч. То постоянно шёл рост населения. А тут такой спад… Куда подевались остальные криушане? Репрессивная коллективизация сожрала? И это лишь в одном-единственном селе!!! А по стране? Да и те, что остались, доживали свой век со связанной волей, со связанной душой. Одно слово, инвалиды советской системы…[39] Инвалиды… Война тело изурочила. А система – и душу и все извилины мёртво спрямила на свой ранжир. Нет Человека… А то, что от него осталось… Хочешь ноги вытирай, хочешь – засылай строить светленькое будущее где угодно, в любой точке мира хоть для отдельно взятого папуасика. Только голодно крикнет «Щас!», штаны на верёвочке поддёрнет и побежит строить… То ли я это уже от кого-то слышал, то ли читал где… Вся ж держава об этом гудит… Тоталитарный режим не появился сам по себе. У него есть отец. И отцом этого пресловутого режима был Ленин. Возмущённые потомки поимённо назвали все жесточайшие злодеяния очень «дорогого» Ильича против своего народа, против Отечества.[40] Что тут гадать… Кругом были сплошные горести… В какую деревнюшку ни сунься, в какой городок ни ткнись – не тут ли тебе и Соловки, не тут ли тебе и Беломорканал, не тут ли тебе и весь Гулаг в полном количестве?..
– А что такое Гулаг?
– А вся шестая часть Земли… Не вздумай кому об этом сорочить… А то прелести тридцать седьмого года сожрут меня… Послушал и забудь… Забудь… Обещай, что никому не понесёшь, что тут сейчас слыхал. Обещаешь?
– Да.
– Так оно лучше… Тё-ёмная наша житуха… Тё-ёмная… Сдвинуться с ума!.. Вот сижу на ночах.[41] Темь. Шелесток. Кто-то что-то откуда-то прёт. Так и есть. Сморчок короткобрюхий Комиссар Чук, комендантщик… политик… Всё про политику стрекочет. За неделю напророчит, кто с кем и куда из правителей подастся, что скажет… Так этот бесштанный министрик крадкома прёт навстречь целую ёлку на дрова. Сам комендант – ворюга!
«Ты, – говорю я, наставивши на него палец, – куда тащишь?»
Он так брезгливо отводит в сторону мою руку с выставленным пальцем и в печальной ласке так, будто ребёнку, говорит: «Чучелко! Не тычь пальцем, обломишь… Я ж тебя сколь уже раз учил!? Не указывай на людей пальцем, не указали б на тебя всей рукой!!! Неужели это так трудно упомнить?»
«Ты зубы не заговаривай… Куда тащишь?»
«Вперёд! Домой… Не мешай!»
«Чужое тащишь!»
«Аниско, на тебе креста нету! Ка-ак можно чужое брать?!.. Своё тащу!»
«Ты что, эту ёлку сажал? Растил?»