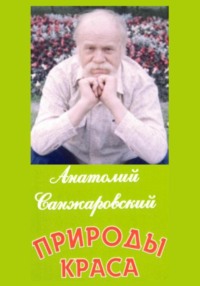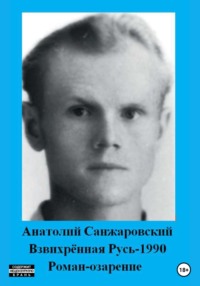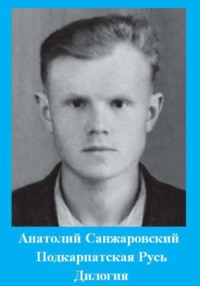полная версия
полная версияДожди над Россией
Во всё время, пока он говорил, он в нетерпении скручивал газету в тонкую трубочку. Потом развернул, расправил. Как-то буднично спросил:
– А что тут пишут новенького про меня?
И пустил глаза в перевёрнутую газету, зацепился за заметку на самом видном месте, на открытии.
– «Сегодня, – гордовато читал в голос, – проездом из Вашингтона в Токио совершила в Москве кратковременную промежуточную посадку делегация во главе с дорогим товарищем Семисыновым Анисом Батьковичем. В честь делегации во главе с товарищем Семисыновым Анисом Батьковичем был дан богатый завтрик. В связи с непредвиденно затянувшимся завтриком делегации был подан и не менее богатый незабытный обед. В тот же день делегация во главе с высоким гостем отбыла на ужин в Токио…» Что сморщился, как печёное яблоко? Скажешь, не про меня? Про однофамилика? Да надену я шляпу – президентом пойду!
– Я не про то… Обидно, и ужин без меня… Что едят на тех приёмах? Интересно, молоко к мамалыге у них всегда бывает?
– Знать, уважаешь ходить по гостям. Я тогда тебе это прочитаю. Только слухай… Это под рифму…
… Як з цепу зирвавшись, додому не прибигавшись,Наловыв мух, напик пампух,Наловыв комашок, наварыв галушок,И солому сече, пироги пече,И сино смаже,[17] пироги маже,И всэ до миста складае.Зять тещу в гости дожидае.Як пишов же зять та и тещу в гости прохать.[18]– Ой тещо, ты, голубонька, в хорошу часину,В хорошу годину прийди в гости до мене.– Ой, рада ж я, зятю, до тебе в гости прийти,Но ничым з двору ни выихаты, ни пийты.Дид на сходци, кобыла в толоци,[19]Хомут у стриси, дуга в оглоблях,Чепчик у швачки,[20] рубашка у прачки, а чёботы у шевця.[21]– Ой тещо голубонька, ты добудь и до зятя в гости прибудь.И начала теща добувать…Вырвала лопушину, пошила себе хвартушину,Нарвала лободы, обтыкалась сюды-тудыИ хмелем подперезалась. И так гарно прибралась,Куда ни оглянеться – и осмихнэться.Теща добула и до зятька в гости прибула.Начав зять тещу вгощать.Посадив до дверей плечима, до окон очима,Заставив личыть[22] мухи. Налычила теща тыщу двести.Надо тещи исты. Первый пирог –Берет тещу за ноги да лобом об порог.Пришла баба додому и на дида буркоче.А дид на бабу буркоче.Дид говоре: «Добре тоби, бабо, у зятя густюваты.Зятив мэдок на вэсь рот солодок,А дочкино пиво у ноги вступило».А баба на дида буркоче:– Злазь, дидо, с печи,Качалкою я попарю тоби спину и плечи.– Жалко бабку, – признался я. – Очень надо было ехать к этому дикарю зятю…
– И то верно… – скосил деда хитроватые глаза на газету, держал кверх тороманом. – У стариков не сахарь планида. Страх господний, будь все дети на зятев образец. Вон зимой дали отпуск, двадцать суток отдыхал у сестриных внуков в Кобулетах. Радости только и ущипнёшь у своих… У своего ребятья. Пока дополз до тех Кобулетов – пол-Аниса усохло. Дело под январь, на остановке холодяка напал. Стою трусюсь. Греюсь! А не мог бы труситься – замёрз!.. Из поворота антобус подбегает. Я свежим рысачком навстречь. А гололёдка. Посклизнулся и поплыл под дорогой антобус. Шофер остановил. «Отец, куда это ты разогнался?» – «Хотел на ходу остановить…» Ну, еду. Уже вечер. Наскрозь промерзаю. Гляжу, у наших огонь. Раз огонь видать – никогда не замёрзнешь! У них не комната – хороший чумадан. Дыхнёшь – не выйдет. Некуда! Теснотина такая!.. Нa стенке радиво. Отаке стерво! Тридцать рубляков стоит и тридцать лет гавкает! Без конца коробок лопочет. Внук завидел меня – хоп ложку в руки и за стол. Комедный парубчина. При входе гостей скорей за стол. Ждёт гостинцев. Я ему баночку нашей козьей мацоньки[23]. Живо прибрал, тянет ручку. Деданя, дай копееньку. Даю двадцать копеек. Мало. Бумажку дай. Мне и Маринке на мононо. На молоко, значит. Нy, где тут спекуляцию выгонишь? И кусливо базарное молочко, а берут, – выглянул старик из-за газеты.
Весёлый деда делал вид, что всё это читал.
Я тоже делал вид, что верил. Уж «лучше делать вид, чем ничего не делать». Не люблю бездельничать.
– Складно читаете, – похвалил я его.
– Складно и ладно, – уточнил он. – А в школу и на день не забегал! Научился читать и писать, покуда доехал до Хабаровска!
– За десять часов?
– Не летел я, ехал. Тридцать пять суток кулюкал.
– Сто-олько ехать? У! Когда это было? До потопа и ни секундой позже! Какой вы ста-арый…
– Не столько старый, сколько давний. Хоть в постарелый дом списуй.
– И всё же, в каком веке до нашей эры Вы катались в Хабаровск?
– А служить ото ездил… Не любил я унывать. Что ни греби, всё равно два метра отгребут. Был из горячих. Молодой такой да хваткий… Жизня не задалась с первого шага, а я головы не вешал. Сколько себя помню, всё песенки пою.
– Падеспанец – хор-роший та-анец,Его оч-чень легко танцевать…Браты мои сыздетства ухватили грамоту. По чинам разбежались. Я против них что подошва. Один брат показал мне буквы. Я вроде запомнил. А подбольшал, на ум побежали одни девки да спевки да плясондины. Я и растеряй из дырявой памяти многие буквы. Вот тебе армия. Еду в сам Хабаровск. Еду пою. Грамотники с дороги в день по три письма рисуют. Я ничего не пишу. Слушал меня, слушал так внимательно один новороссийский хлопчина. Вижу, намотал себе на кулак, что не ахти как развесело мне поётся. Сымает спрос:
«Семисынов, ты чё не пишешь? Иле у тя и завалящей Аниски нету?»
«Завалящей Аниски нету. А Анисочка-картиночка есть».
«Так чего ж ты? Пиши! А то дам в торец![24] Ждёт же! А от тебя ни письма ни грамоты. А она ждёт!»
«Можь, и ждёт…»
«Ей-бо, какой-то ты примороженный! Не зимой ли рождён?»
«В самую в серединушку… Одиннадцатого января».
«Оно и видно. Где-нить в копне матечка уродила и по нечайке приморозила… Дать бы тебе хорошенько, да мне некогда! Некогда, доходит? Сам генерал зовут пить чай!.. Антик с гвоздикой там весь твой хутор Холмский, небось, слезами улила. Речка по-за садом выскочила из штанов, понимаешь, из берегов! А это его не колышет. Песняка дерёт! Не дури, дурциней. Кончай изюм косить![25] Сей же мне час садись пиши! Пи-ши!»
«Да у меня… С бомагой авария. Нету бомаги».
«Так бы сразу и говорил. У меня есть. Вот тебе бумага. Вот те карандаш».
Вжался я в куток, в тёмный, в пустой, луплюсь, как прирезанный баран, на белый чистый лист, на карандаш, такой маленький да чужой в моих куцапых пальцах. Смотреть смотрю, а и одной буковки написать не могу. Устал от тех смотрений, аж извилины задымились. Ну никаковской у меня власти над тем карандашным огрызком. Кругом омут!.. Со злости на себя, с обиды кусал я тот огрызок, кусал. Треснул он. Серденько выпало. Сломалось. Швырнул я карандашный сор в окно. А чистый лист понёс назад тому парню.
Здесь и дошло до большого. Сознался. Молотом в кузне махать да за плугом в поле скакать мне не внове. Тут я мастак. А вот с карандашиком мы совсема на боях. Совсемко вражищи.
«Гм… Писать не можешь… А чего ж бумагу, карандаш брал?»
«Ну… Ты даёшь… я и беру… Безотказный я… Ты уж горько так не смотри на меня. Пускай я и денёчка не звонил в школе. Пускай не выработал там ни одной пятёрки, даже ни одного колышка. Но всёжке не такой уж я пропащий идивот. Голова работае на весь вниверситет! Печатные кой да какие буковки я помню в лицо. Брат ещё в детстве показывал. Знаю до се. Прочитаю… А писание не даётся».
«Ну, университет, давай так. Вот тебе свежая газета. Только что на станции взял. Отчитай всю от и до. От названия до последней точки. А потом сядем писать».
«Я в этом деле не сопротивляюсь».
«Читай. Где чёрное – слово. Где белое – ничего. Простая система».
Трое суток мучил я ту бедную газету. Буковку к буковке вязал. По буковке… По словечушку отдирал… Наловчился… Усатик, – деда погладил кота на коленях, – за мной не угонится. А у него два средних образования… Мои Колька с Катькой учили уроки. Он сидел на столе, смотрел в ученье. Запоминал…
– Не мог Усатик запоминать… Может, это его папашка запоминал?
– Верно, папашка… Тако давно это было… Но всё равно и у котов, как у людей, знания от отца перебегают к сыну… На четвёртое так утро новороссиянин плотно занялся мною. Я держу карандаш. Он старательно водит моей рукой. Таким макарием пишем напару день. Пишем два. Упарился бедолага. Вклеивает:
«Не прикидывайся пиджачком. Пиши сам. Не водить же век за руку. Как учат плавать? Кинут на середку реки и убредают пить чай. Выплывешь – научишься. Затонешь – учиться уже не надо. И так хорошо, и так неплохо…»
Отвесил я язык на плечо. Царапаю. Царапаю свои каракулины, как петушок лапкой. А толку ж… Из-под кулака выпрыгивают буквищи всё не схожие с теми, каковские потребны моему учителю. Ничегошеньки ж общего! Морщится он. А от ученья не отпихивает. Забуду, как писать какую букву, бегом к нему. Покажет.
Списал он мне азбуку целиком. Повелел дать почитать потом мою первую посланию. Интересно ж, как в полнедели научил он писать меня.
Я записал вот это ходячее письмо. По краю по нашему летало.
Писано й переписано, всэ до дила списано.
Козацьке письмо от козака Кулика, от ридного сына до батька Гарасима.
Скоко думаю, стоко и пишу, не хватае у нас в плавнях комышу Натягинской станицы. Стоимо мы в трех верстах от станицы в комышах.
Бабы с варениками наобредають, но у нас и сухарей не хватае.
Всэ ничего, та у мене кинь издох. Того и вам желаю.
Подайте мени материнское благословение.
Тэ порося, шо гуляло округ двора, як я шов на службу, в вивторок заризано.
Вы сами знаете, я шов на службу холостым, а счас оженився.
Молода попалась черт зна що.
Одного ока нэма так, а другэ выив шпак.[26]
Однэ ухо болит, а из другого гной валит.
Со смешками пробежал новороссиянец эту мою цыдулю, похвалил, подписал Анисьин адрес. Только я её никудашеньки не засылал. Подарил ему в память про нашу учёбу.
До самого до Хабаровска школил он меня. Давал всякие книжки… Не пустой то был номер. К писанию, к чтенью прилип я, как пчела к цветку в мае. Вишь, я тоже не левой ногой сморкаюсь…
Можь, письма и сберегли мне до сё дня Анисьюшку. Как ото его знать… Отслужил, приехал – ждёт! Спелая там девка. Раскрасавица. Посмотреть – сто рублей не жалко дать!
– Это Вы про свою про бабунюшку Анису? Она тоже была молодая?
– Была-а… – Деда грустно усмехнулся. – Жена – тяжкий груз. Но жалко бросить…
7
Прошлое запоминается, если оно настоящее.
Л. ЛеонидовДеда вздохнул, закурил самосаду и долго в задумчивости следил, как дымные комки поднимались над ним.
– Сколько Вы выкуриваете в день?
– Да побольшь американского президента.
– Не замораживаете?
– А какой навар составлять библию?
И снова тихо. Снова глаза провожают в небо чадный комок.
Я смотрю на тот клубочек с-под ладонки.
– А про что Вам думается, как не спите в долгие ночи?
– О-о-о… Возьми всё на плёнку – брехливая плевалка[27] за год не перебреше. Радый и уснуть, а… Как перевалилась ночка на другой бочок, под воротьми такие вспухают бзыки – черти в свайку тише играют. Бармосня со всего района моду взяла… Покурить там, поплакать в жилетку… Бабе, ясный ход, ведро на сон не наплачешь да и с соской с койки живо-два смахнёт за дверь. А сказался за дверкой – какой резон чадить-душиться соской одному? Дымохлёб и тилипает повонять ко мне в чём слетел с-под одеяла.
Ускрёбся старчик Борисовский, вот он Бочар. Его только тут и недоставало! А там по порядку ну чисто сговорились Простаков, Лещёв, Гавриленок, Мамонт… Выпел свою бедушку один, лабунится второй. И пошло, и побежало… Наперерывку всяк лезет со своей чумой. Уже свет над деревами просыпается, а лалаканью конца нет. Глянь в ночное варево, в темь, со стороны – сходбище призраков!
Бывает, про себя и пугнёшь какого злым словом, а так-то вроде и сам довольный. Нарезает-то от тебя человечина с лёгким серденьком. Выговорился не в стенку. Живая душа слушала, сострадала…
Ну вчера…
К рассвету дело выскакивает уже. Вот те, здрасте, пожалуйста, Алексейка Половинкин. В лакировочках, в белой рубашонке наразмашку. А свежо, под утро ух как свежо! Дашь трясогубу… Зуб в зуб целится, да не попадает. Хоть караул кричи.
Вижу такую полечку, говорю:
«Трусись, Алёшик, понемногу грейся. – А сам с-под тулупа, с-под себя фуфайчонку ему, самосаду. – Кури, кощейка, наедай шею. Будет безразмерная».
Глотает дым. Молчит. Скоро прорвало, выбило затычку.
Дело молодое, кровка сатанеет… Дуроплёт! С какой-то с вербованной мамзелькой скуйовдился. Тиятерстрит сляпали… Тары да бары – ан день в окно валится. Наш женатик хвать кепчонку да во всейский опор от шошки-ерошки додому. Надёжка дверь и не отопри. Подаёт резон совет:
«Где баловался до зари, там казакуй и до утра!»
Пропал рубль за копейку… Пропал не пропал, а кому сладит этот пирог с бедой?
Как сидели на корзинке рядком, вприжим, так и поснули.
Утром будит нас с амурчиком Надёна. В сарай шла.
– Дядь Анис, мой дурик, – тычет в Алексея, – с вечера у вас засиделся иля под утро приплыл? Только честно. Как перед Богом.
– Раз как перед Богом, то надо хорошенько подумать… С вечера! Под утро это он кинулся домой. Ватлали языками и ночи не увидали…
По глазам я понял, не поверила она моей путанке. Но перечить не взялась. Она и сама хотела, чтоб выскочило как-то так, чтоб не падало явного греха на супружника, хотя, вижу, бабьим кощим чутьём уже добралась до тошной соли. Чего бы это здоровый тридцатилетний бычок мял ночь на корзинке в стариковской шатии? Ну не видно разве и слепцу?
Ложь ожгла сразу всех троих.
Каждый подумал, что эта ложь нужна если не до следующей, до новой лжи, то хотя бы на то, чтоб отодвинуть развязку на потом, когда уже въяве увидишь обломную, потопную трещину в семейной худой лодчонке и смиришься вконец со всем вокруг. Вместе с тем каждый подумал и ещё, а вдруг этот выбрык совершенно случайный, а вдруг, Боже правый, всё ещё сольётся в прежний лад? Так возради только этого не в стыд сбрехнуть пускай и самому себе.
«Скажи, дурындас, спасибище старому доброму человеку, а то б я тебе…»
Надёна ватно побрела назад. К дому.
Минуту до этого она уверяла, что надо ей в сарай сдоить козу. В руках зеленела литровая банка, пахнущая крапивой. Короткая, телесастая молодайка необъятной окружности, похожая на колобок в фуляровой косынке, по-утиному тяжело валилась с ноги на ногу в какой-то разбитости. Походка, весь её вид говорили понятное лишь одному Алёшке про то, долго ль ей ещё ждать его, горького беспутника.
Алексей сидел как на угольях. Думал, идти ему именно сейчас домой, не идти. Решился.
«Была не была! – намахнул фуфайку старику на плечи поверх старого тулупа. – Благослови-ка, отче, меня на мировую. На межполовое примирение с моей генсексшей!»
Алексей ударил вдогонку.
Вот они поравнялись, пошли локоть в локоть, настолько близко, что меж ними и нитку не продёрнешь. Вот уже заговорили, заговорили незло, уступчиво, и старик младенчески радостно заключил, что непременно история содвинется к миру.
Мысль, что это он разомкнул беду, разгладила в улыбке морщины на его лице. Он глядел прямо перед собой на гладкий голыш, будто то был единственный камешек на берегу и не просто камешек, а сама драгоценность, но которая нисколько его не занимала, со смешанным светлым чувством врастяжку произнёс, а не пропел глухим голосом песенные слова:
– Не осенний мелкий дождичекБрызжет, брызжет сквозь туман…– Деда! – крикнул в удивленье я. – Вы знаете эту песню?
– Я в этом не сопротивляюсь. Знаю.
– Вот те на-а! И даже поёте?
– Дажно п е л, – подправил деда.
– А почему п е л? Почему в прошлом? А почему и разу я не слыхал?
– Может, слыхал, да по малости лет забыл? На кого такой случай не набегает?
– Ма говорила, эту песню любил петь наш отец. И мы, ещё малёхи три братика, её тоже пели.
– А с кем отец напару пел? – подживился дедаха. – С Семисыновым. С Анисом Семисыновым!
Этого я уже не помнил.
Слишком многое во всех подробностях я узнал в нынешнее утро.
Давным-давно судьба поселила наши семьи на одном крыльце, дверь в дверь. Было это ещё на первом районе в могильные тридцатые годы, когда на пригорках окрест сводили чахлые леса и на зебровидных глинах размашисто подымали чайные плантации.
На ту пору шалавая засуха в России под корень повыжгла хлеба, голод встревожил людской улей. В две недели народу приплавилось на полсовхоза. Многих пригнал русский голод. А ещё больше из приезжих были выселенцы и вербованные. Тогда и проявились в Насакирали Семисыновы.
Мужики, бабы, подростки с топорами всем миром зло валились на гнилые ольховые, крушинные островки по лощинам, по склонам балок и в пустячий срок сжали, сдёрнули с земли последнее жидкое лесное кружево. Зато уже скоро изумрудные упругие, жирные строчки чайных рядков игристо побежали по лысым горбинам, по бокам холмов, по пади, словно кто разукрасил их ярко-зелеными лентами.
Уныл был будний круг забот.
Весной и летом мужики тохали (пололи) чай. Осенью они уже вместе с бабами горстями разбрасывали из ведёр сыпкие удобрения по междурядьям, потом их перекапывали. Дальше шло самое трудное – полуовалом формовали кусты тяжёлыми громадными ножницами.
В тепле подъезжал весёлый апрель.
В апреле начинался сбор чая и длился до конца октября.
С темна до темна рвали чай женщины и дети, сдёргивая хрупкие, в два-три листочка, побеги в корзинки на боку.
В те далёкие чёрные годы нужда перевила нас с Семисыновыми одной верёвочкой. Не расстались мы с ними и после, как перебрались в мазаюхи на пятом районе (на первом в наших бараках разместили женскую колонию). В мазанке жили рядом, и сейчас мы снова рядом, на одном крыльце.
Разброд в годах – отец был моложе Семисынова на семь лет – не мешал нашим водиться домами.
Из этого дружества мы, детвора, выдёргивали сладкий интерес. Иногда Митрофан с Глебом этако небрежно заранее выведывали, что будет у нас на ужин, и, сверкая стеблями ложек, неслись к Семисыновым, сгорали от любопытства, что же там подадут на стол. Случалось, в дверях они сшибались лбами с Колькой и Катькой Семисыновыми – с той же целью угорело летели к нам.
Мы ели там, где хотели, а провористые вечеряли в обеих семьях. И засыпали мы там, где жарче игралось, где вкусней елось, где озороватей пел в печке огонь…
Со временем мы, детворня, с горечью узнавали, что никакая мы вовсе не родня, что чужие мы… У нас вон даже фамилии разнофасонные!
Отец и Семисынов работали в одной бригаде. Всегда вместе. Каждый в районе знал, где вынырнул один, там поблизку ищи и другого. Очутись на краю света, где никого не было кроме них самих, водянисто-паркого солнца и марева, кто-нибудь из них, раздетых до пояса, в поту, тихонько волшебно запевал. Так же незаметно с душой подхватывал второй, инстинктивно сильней вскидывая меж кустами громоздкую мотыгу.
Жила песня и в осеннюю, и в зимнюю хлябь вперемешку с редкими снежными набегами, когда небо так пухло укутывалось тучами, что те едва не затыкали вмёртвую дымоходы, когда целыми неделями без отдыха осатанело молотили больные субтропические проливни. Они вполне оправдывали своё название «Букет Кавказа» или «Привет с Кавказа».
Но солька вся не в букете и не в привете, а вовсе в том, что в такую гнусь носа не выпнешь на плантацию, и в эти редкие дни народишко отпыхивался по своим дуплам. Думаете, убегая от тоски, бабы ладили кружева, подзоры к кроватным занавескам, к подушечным накидушкам, мужики чинили обувку и союзом тянули голосянку? Не-ет.
Подзорам доставались вечера да ночи, а в день все обседали со всех сторон батыеву горищу прелого, иногда уже примёрзлого тунга – стыло дыбилась посреди комнаты – и, выгвазданные по глаза, чистили. Вонь, сырь забивали дух. Люди пригнетённо молчали и чистили, чистили, чистили, вышелушивая из гнёзд ядра с перепелиное яйцо.
Угрюмый, бесноватый агроном Илюша Хопериа без конца обегал всех подряд, проверял, чистят ли, хорошо ли в с е чистят. А то есть арапы, вымажут пальчики, ткнут под нос тебе – отбывай с контролем к соседям, дорогой товаришок Агрономишвили!
Как ни грязна, как ни вонька работёха, устанут от молчанки, устанут от агронома, за делом подадут песняка.
Под самую войну так катилось. И после войны. Во все времена…
Хоть Семисынова и отца брали в разное время, но оказались они в одной части. Даже война не разлучила, не стала поперёк их приятельству. Ну, это забота скорей уже угодливого случая.
– Перед поездом, – вздохнул дедко, – батько хотел проститься и с тобой. Трохи собиралось светать… Взял тебя на руки сонного – босыми ногами замолотил ему по лицу. Раскричался страшней резаного и ни в какую… В одной маюшке убежал от него под барак на низких, в одну четверть, столбках, куда взрослому не пролезть… Не хотел, чтоб отец уходил на фронт… Думал, ежли отец не простится, то и не пойдёт вовсе!.. Да что с тебя спросить? В когдашнюю ту пору ползать ползал по полу вдогонку за котом… Тому понятию, что там батько, что там фронт, что там смерть, где было взяться? Веко-во-ой на тебе грех… Не всхотел проститься с батьком…
Горько…
В задний след разве что изменишь?..
На лошади отец вёз мины.
У расчёта не спускали с него молящих глаз. Снаряды кончились!
Под вражьим огнём полохливый конёк наставил сторчком уши, фыркал, упирался, никак не шёл. Отец угнулся, потащил под уздцы. Семисынов выплеснулся из окопушка, кинулся на подмогу. Отхватил прыжка три, как ранило и его, и отца.
Умер отец в сочинском госпитале.
Похоронили отца в братской могиле, на скалистой возвышенке, откуда в сильный бинокль ясным днем будто бы видать через всё Чёрное море турецкую землю Анатолию.
Похоронку принесли в сумерки, и всю ночь, без лампы, прокричала мама с бабкой Анисой. Те слёзы, те причитания, та ночь без конца – всё самое первое, что врезалось мне в память, всё самое первое, что я вообще запомнил в жизни. Та ночь в тяжёлых подробностях первая вошла в моё сознание. С той, именно с той ночи я плотно помню себя.
А Семисынов после Победы вернулся домой марухским[28] орёликом. Мало не весь, с плеча до плеча, при орденах, при медалях. На свежий глаз с виду герой героем. А приглядись, сил в нём на то и достало, что донёс свои наградушки. Весь на ранах, пухлым взялся, глухой, немой от контузии.
Зимы через две сумел в нерешительности снова угрести к себе власть над словом.
– Заслуг мно-ого, да получили мало, – как-то надвое, усмешливо говорил дединька. – Выпал из годных, уже туда посматриваю, а ничего хорошего не нашёл… Хотя… Не пустил я лишку? На войне один год бежал за три. Война нахлопнула к моей выслуге полных восемь лет. Отпустила живьяком… Всёжке божески война со мной разочлась… А с батьком… Хай земля держится ему пухом…
Мёртвым друзья не нужны. Друзья нужны живым.
Не упомню, кому так сказал он с тихой назидательностью. Может, и самому себе, только вслух.
Эта мысль заставила меня взглянуть на него новыми глазами. Я сравнивал его слова с тем, что он делал, и, к великому торжеству своему, разлада не находил.
… После занятий в школе рубили мы с Глебом прошлой осенью дрова в лесу. Наворочали сколько надо, припрятали в кустах.
Сами дровинки домой не бегут по щучьему веленью, просятся к тебе на горбок. Навязали по неохватной вязанке, с кряхтеньем припёрли к сараю. Сели на проклятые вязанищи. Никак не отдышимся. Ну-ка, от Ерёминого яра, километра с три по горам без передыху!
– Ну что, – подходит деда, – зиму учуяли, мужики? А дровца, дровца-то какие ловкие! Показали б, брали где, я и себе б натюкал.
– Да нам что? Мылимся сегодня ещё разок обернуться. Идёмте. Покажем.
– Нетушки. Уж лучше поедем. Есть такое мнение. На кой же я тогда и арбовщик? А потом, дилижансий мой на ходу. В полном готове. Хлеб в магазин только привёз из пекарки. Быки ещё в упряжи. Чего попусту слова по воздуху распихивать?
Угнездились мы с Глебом в арбе на грядках друг против дружки, лыбимся на радостях. Подвезло как! Ветерок последний с нас пот ссушивает. Легко.
Дорога из района берёт наизволок.
Быки плетутся без аппетита, не прытче улит.
– Э-э-э, ребятоньки! – шумит им деда. – Мы этако не договаривались. Неживые, что ле? Тоже совтруженички… Ползёте, как мухи по смоле. Или вам уже кто рассказал и вам понравилось, как ходил рак семь лет по воду, да пришёл домой, да стал через порог перелезать, разлил, да и говорит: «Во как чёрт скорую работу любит». Не пример вам рак. Сжалился ото Бог над раком – глаза сзади дал!.. Прошу покорно, схватя за горло, просторней, просто-орней шаг! Будет греть зады на солнце. Ну, кому я кричу, Севка, Красавчик? Тени вашей? Или вам люб ременной кнут? Я могу с верхом насыпать горячих гостинцев. Дорого не возьму. Еже-право, могу! Не дам скучать, как собаке по палке. А! Где там мой кнут!