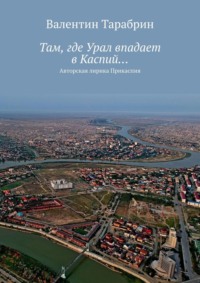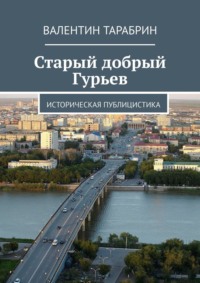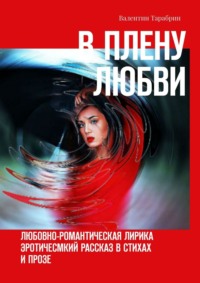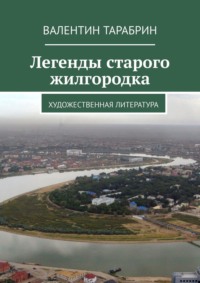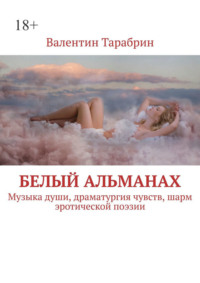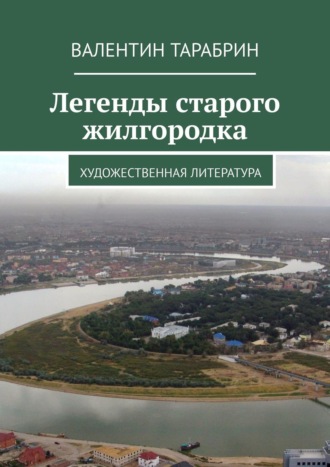
Полная версия
Легенды старого жилгородка. Художественная литература
В свободное время Коля, как и его товарищи, рыбачил, собирал джиду и смородину в парке, любил в здешнем тире пострелять из воздушки, ну и, конечно же, неплохо играл в маслы, маялку‚ «пожар» и другие модные игры. Словом, рос паренек по законам того времени.
В середине 60-х открылась в городе секция по вольной борьбе. Николай со своим другом Петром Мисюровым, братьями Бердинских и другими записались на тренировки к мастеру спорта А. Шахмалиеву. Однако недолгим оказался дебют жилгородских мальчишек на ковре: уехал Шахмалиев к себе на родину, в Азербайджан.
Но со спортом Коле уже порывать не хотелось. Закипала кровь в молодом организме при виде схваток и единоборств, и Николай увлекся боксом. В жилгородском парке в то время местный авторитет, боксер Анатолий Евсеев, вел произвольную секцию. Учил здешних пацанов постоять за себя. Вот к нему-то и пришли Николай с остальными ребятами. Пришел тогда и Санька Хохлачев, Ибрай Тулемисов и другие, что помладше.
Купив однажды в киоске журнал «Физкультура и спорт», Николай заинтересовался тяжелой атлетикой, атлетизмом. С первой же получки купил себе за 49 рублей штангу с блинами, грифом, как положено. Установил у себя во дворе помост, рядом турник, для порядку подвесил «грушу» и всерьез окунулся в мир спорта. Курить он уже давно бросил. Теперь главной его целью в жизни стала «работа с железом». С этой же минуты он становится последовательным сторонником здорового образа жизни.
Но приходит пора служить отечеству, и Николай не колеблясь уходит в армию. По-разному складывается служба рядового Занкевича. То он занят на строительстве Волгодонска, то сажает рис на Кубани. А после перевода их части в Пярну (Эстония) мечтает после службы стать моряком.

Пионеры жилгородка на пл. Победы. 60-е
Однако судьба распорядилась иначе. Вернувшись со службы в 1971 году в Гурьев, Николай женился. И хоть нажили они с женой четырех детей, семейная жизнь молодой четы Занкевичей не сложилась. (Позже Николай женится еще дважды) А пока наш герой устроился на работу в ГНПЗ газосварщиком и по вечерам и в выходные утолял досуг, работая тренером-общественником по тяжелой атлетике на заводском стадионе.
Идут годы. Перестройка, развал Союза, приватизация. С 1994 года Николай Занкевич – официальный тренер по атлетической гимнастике при КСК АО АНПЗ.
За свою тренерскую биографию Занкевич воспитал и подготовил не одно поколение спортсменов-разрядников и КМС. А главное, подчеркивает сам Николай Николаевич, «я приучил их к спорту, помог стать гармонично развитой личностью, пропагандистами здорового образа жизни».
В свои пятьдесят с небольшим Николай Занкевич полон сил и здоровья. Женат на женщине, которая моложе его на 25 лет (!) и с которой они вместе воспитывают маленькую дочь. Все шутки коллег на «отчаянное молодоженство» отвергает. Говорит, что здоров как бык и еще в состоянии занести огромный шкаф на пятый этаж. К тому же он продолжает активно заниматься спортом, принимает участие в различных соревнованиях, спартакиадах и даже имеет медали. Мечтает тренер Занкевич о большом спортивном зале, где полностью могли бы удовлетворить свои потребности его новые товарищи и коллеги. Строительство ФОК на стадионе АО АНПЗ, запланированное на декабрь 2001 года, уважит маститого спортсмена и придаст новый импульс его тренерскому таланту.
Но не только «железные игры» занимают тренера Занкевича. Болит у него душа за нынешнее состояние рыболовства в Урало-Каспийском бассейне, тревожит его и бурение на шельфе Каспия, от которого гибнет вся живность: животные, птицы, рыба.
– Хочу, чтобы было, как прежде, – говорит Николай Николаевич. – Чтобы икра и рыба были в каждом доме, на столе в каждой семье гурьевчанина. Тогда сил у людей будет больше, а значит, и город будет значительно краше, и жизнь лучше.
2000P.S. Н. Занкевич скончался летом 2013 года на работе, во время обеденного перерыва; остановилось сердце.

Кобловы: Георгий, Фавста, Анна; дети: Володя, Юрий, Светлана, Лена

Семьи Заниных, Бакалдиных, Валышевых… 60-е гды
Пляж нашего детства

«Золотые пески» Жилгородка. 50—60 гг
В послевоенные годы в Союзе ещё не было достаточного количества пансионатов и домов отдыха. У людей не было больших сбережений, личных автомобилей и дачных садовых участков. Не было даже телевизоров. Поэтому все советские граждане, в том числе и работники Гурьевского нефтеперерабатывающего завода, включая его руководство, проводили свои выходные и летние отпуска на своём пляже. А поскольку Кандауровский лес ещё не успел принять в свои объятия детский заводской пионерский лагерь «Нефтяник», то и жилгородская детвора не отставала от своих родителей.
Начало строительства пляжа относится к 1949 году. Автором его создания и непосредственным руководителем строительства был главный инженер ГНПЗ Арсений Иванович Маврин. Кстати, дом второго лица заводской администрации находился в парке, неподалеку от пляжной зоны, а точнее – там, где сегодня расположилось летнее кафе «Аладдин». А дом первого директора ГНПЗ А. Ф. Кабанова, находился рядом на ул. Ватутина, где позже на его месте открылся 1-й заводской профилакторий (это напротив общежития ГНПЗ №40). Жильё всех последующих директоров завода: от Котова до Вакурова, – находилось на противоположной стороне Жилгородка, в одноэтажном особняке по ул. Черняховского, 1.
Участок под заводской пляж был выбран не случайно. Если левосторонняя жилгородская прибрежная акватория использовалась под причалы барж со стройматериалами (в то время в Жилгородке и в городе велось большое строительство), а на участке за клубом рыбаки ставили рыболовную тоню, то правосторонний пологий берег заводского района как нельзя лучше отвечал требованиям санитарии и безопасности купания.
Строительство объекта осуществляло подразделение заводского РСЦ, базой которого служила небольшая пилорама, находящаяся рядом с пляжной территорией. В соответствии с социальной программой о полноценном и комфортном отдыхе своих работников, завод приступил к благоустройству пляжа. Здесь были установлены деревянные грибки, навесы, обтянутые сверху парусиной от солнца, а также лежанки, шезлонги, кабинки для переодевания. С левой стороны размещалась эстакада в виде большой беседки. Она же служила и своеобразной трибуной. Отсюда оргкомитет руководил праздничными мероприятиями, следил за безопасностью на воде. Здесь же размещался и духовой оркестр. Прямо со станции по сбитому из досок настилу вела дорожка на плот, с бассейном и вышкой.
Центральная аллея на пляж проходила через парк с улицы Ватутина, мимо пилорамы – с одной стороны, и спортплощадки – с другой. Свободный вход на пляж олицетворяла арка «Добро пожаловать!». Справа от неё, на валу, под открытым небом располагались администрация пляжа, медсанчасть и УРСовский буфет. В пляжном буфете продавались всё: лимонад, пирожки с картошкой и капустой, с повидлом, ватрушки с творогом. Кроме того, здесь всегда были горячие чебуреки, беляши, шашлыки. А также утоляющие жажду прохладительные напитки: знаменитое гурьевское пиво «Жигулевское» и не менее знаменитый лимонад «Буратино».
Надо сказать, что перед началом купального сезона пляж приводился в порядок. На огромных самосвалах сюда завозили песок; красили и подправляли грибки и скамейки; очищали от ракушек и другого мусора дно пляжной акватории.
Летний купальный сезон открывал Водный парад. В назначенный час из-за речного поворота – от клуба на празднично- украшенном флагами катере появлялся Нептун в окружении свиты. За катером шёл караван, состоящий из лодок, казанок и скутеров – и тоже с флагами.
Под звуки духового оркестра флагманский катер входил в акваторию пляжа, где его восторженно встречали отдыхающие. Чтобы открыть купальный сезон, по обычаю требовалось кого-нибудь из отдыхающих принести в «жертву», то есть искупать в воде. Тогда морские дьяволы, черти и другая «нечисть» из свиты Нептуна (в исполнении артистов детского и взрослого драмкружков ДК ГНПЗ), не задумываясь, подхватывала на руки первого попавшегося заводчанина. Под восторженные возгласы зрителей нашего «неудачника» окунали в Урал…
В то время на пляже устраивались самые разные соревнования: по перетягиванию каната, поднятию гирь, лазанью по шесту, игре в волейбол. Любители футбола гоняли мяч на спортивной площадке заводского парка, расположенной рядом. И все же – самыми зрелищными здесь всегда были игры на воде. На плоту, выполненном в виде бассейна с вышкой, заводчане учили своих детей плавать. Подростки, не без риска, подныривали под понтоны, играли таким образом в «чур меня». Ну а те, что постарше, взбирались на вышку и устраивали показательные выступления по прыжкам с высоты в воду. О ходе соревнований извещал репродуктор. Из него же отдыхающие узнавали о новостях в стране, слушали трансляцию популярного в те годы концерта по заявкам радиослушателей.
На пляже всегда по выходным работал прокат. Здесь без труда, по паспорту, можно было взять напрокат лодку либо катамаран, чтобы продолжить семейный отдых, прогуливаясь по водной глади реки, любуясь, одновременно, окрестностями любимого Жилгородка. Самые отчаянные из заводской молодёжи устраивали соревнования на скутерах и водных лыжах. Своим мастерством они изумляли зрителей, привнося особую изюминку в забавы на воде.

Плот и вышка.
Катаясь в золотых россыпях горячего от солнца песка, мы, пацаны, с любопытством следили за происходящим на пляже. А затем, изрядно поджарившись, с криками «Кто последний – тот и водит!» стремглав бросались к реке.
А ещё мы любили плавать на волнах, особенно на больших. какие оставляли пассажирские теплоходы «Худат», «Кара-Богаз-Гол» и «работяга» РБТ, когда следовали мимо пляжа с отдыхающими на море. В перерывах между купанием, мы частенько строили из береговой глины разные сооружения. Месили глину ногами или играли на песчаном берегу в увлекательные «ножички».
Время купания бежало незаметно. Разгулявшийся на свежем воздухе аппетит крутил кишки. И тогда мы с друзьями наведывались в пляжный буфет перекусить. Если там было много народу, то отправлялись на жилгородскую остановку, в чебуречную. Шли туда прямо босиком, в одних трусах, благо густая зелень парка скрывала наш непристойный вид. Да мы и не думали об этом: родной район, все люди знакомые. А ещё нас тянуло на остановку потому, что там всегда, ближе к обеду, в павильончик привозили мороженое. Продавалось оно в бумажных стаканчиках с деревянными палочками; стоило мороженное 10 копеек. Нередко случалось так, что в его приторной массе плавали лишь одни кусочки льда. Но мороженое в жарком Гурьеве, по тем временам было в диковину, поэтому ели мы его (или попросту выпивали) за милую душу. Здесь же, в соседнем «окошке», продавалась газировка: стакан с сиропом стоил 3 копейки, без сиропа – 1 копейка. Уже позже, в 70-е годы здесь поставили автоматы с газированной водой, но цена на питьё не изменилась. 3 копейки стоил и стакан кваса, который взрослые брали с «авто-коровы» целыми банками, а то и бидонами. Таким образом, насытившись-напившись до отвала, мы возвращались на пляж, где проводили время до обеденной жары. Вечером как правило был футбольный матч с соседним двором. И так, почти, круглое лето.
С пляжем нас связывало не только купание (купались мы и в яру, и в ямах, оставленных после стоянки барж). Пологий ровный берег пляжа был удобен для забора малька и частиковой рыбы. Готовясь к утренней рыбалке на судака, мы с ночи «бродили» тут малька, спускаясь по реке к своему рыбачьему култуку, который находился на противоположной стороне от пляжа. На сетку «пятерик» или «четверик», стеной в сажень и длиной в 3—4 сажени, «забораживали» здесь жереха и судака. Во время массового хода воблы весной и осенью местные рыбаки прямо с пляжного берега черпали рыбу кругами. Бывало ставили здесь и петли на осетровых. Любители же «камерного» рыболовства на поплавок удили тарань, леща и воблу прямо с пляжного плота.
Ещё одной особенностью того времени было то, что в Урале водилось много раков. На пляже – дно песчаное, ровное, так что ловить раков прямо руками, на ощупь, – не представляло большого труда. Наберём, бывало, раков с ведро и заварим на костре прямо на берегу. Лакомство – не описать словами! Вкус, как говорил классик, специфический.
Не пустовал пляж и в зимний период. Иной раз рыба шла прямо под берегом, поэтому на подлёдном лове здесь всегда было много рыбаков. Да и безопасно, не так глубоко. На гладкой зеркальной поверхности пляжа местная ребятня с удалью отрывалась на коньках, играла в хоккей. А ещё, если переходить через Урал по льду в районе пляжа, то рукой было подать до старого аэропорта, площади Абая и других жизненно важных точек города.

"Чур меня" на плоту
Надо признаться, что пляж служил нам и надёжным убежищем, защитой от глаз школьных учителей. Помню, как наш легендарный 8 «В» образца 1973 года (классный руководитель А. А. Дворецкая) однажды дружно бойкотировал урок анатомии, и смотался на пляж. Это случилось потому, что преподаватель не принёс на урок обещанное нам наглядное пособие – скелет человека. И вот, сидя на лавочках в пляжной беседке, мы с однокашниками разбирали по косточкам, увы, не скелет, а наше поведение. То есть, – во что нам обойдется этот наш максимализм. На следующий день, как и ожидалось, мы получили от нашего Христофора (директор школы В. Х. Клинчев) взбучку по полной программе. Однако своего мы всё же добились: молодой учитель анатомии покинул школу. Но в этом, скорее, была не наша «заслуга», а самого учителя.
Хорошей традицией учащихся-«гоголевцев» было и то, что по окончании учебного года её выпускники приходили в родной парк. В его хорошо освещаемых зелёных аллеях под покровом тёплой майской ночи долго не смолкал гул старшеклассников. Заканчивались вечера под утро и, как всегда, на пляже. Там, под бледнеющими, с рассветом звёздами, изрядно потеплевшим шампанским, под аккорды гитары, провожали выпускники школы своё детство, школьные годы. И, быть может, именно там, овеянные свежим утренним ветерком, зачарованные блеском прибрежных волн старого седого Урала, они, впервые пытались почувствовать себя взрослыми, как-то иначе заглянуть в глаза друг другу.
2001
Коллектив ЖКО ГНПЗ гуляет у своего начальника К. П. Сладкова (третий справа; его супруга Мария – вторая слева) 1955

У фонтана. гл. бухгалтер ГНПЗ Ульченкова (справа), Токарева и др
«Я помню двор и ту скамейку…»
Я помню двор и ту скамейку,Где восседали мы гурьбой.И нашу палку-чародейку5,Непринужденный разговор.Я помню поле, мяч, футболку,Игру в индейцев, чехарду,Где наш характер, как иголка,Под дружбой подводил черту.Я помню солнце, небо, ветер,Цветущий сад, культуры Дом,Урал седой, куда с рассветомМы приходили босиком.И нашу школу, классы, парты,И вас, мои учителя,Все ваши ласки и инфаркты.И даже запах букваря.Дыхание весны зелёной,Что за зимой приходит вновь.И, словно солнцем опалённый,Я помню первую любовь.1980
А. Величко, Б. Гущин, Л. Бычкова. Ф. Таушан, Н. Бакшутова, Г. Лапан, В. Попов, В. Реснянский, Ш. Наурзалина; молодежь 60-х.
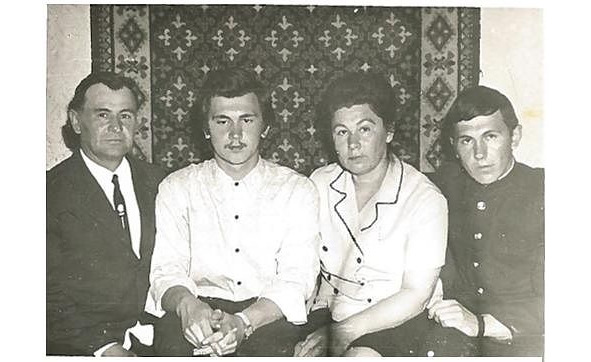
Семья Нечаевых
Зори Урала

Теплоход «Худат» в акватории Жилгородка. 70-е годы
Зори Урала – рыбацкие зори.
Каждому уральскому рыбаку, будь то любитель или профессионал, известно, что рыбачат здесь издревле, и, как правило, артелями. Эта привычка идёт ещё с дедовских времён. Благодаря своей эффективности, то есть взаимовыручке, чувству локтя, эта традиция сохранялась в низовьях Урала вплоть до 90-х годов прошлого века. Сейчас всё больше ловят рыбу в одиночку, да и рыбки-то изрядно поубавилось.
На Урале в 60—80-е, в Жилгородке было немало рыбацких артелей: в районе химпрофилактория, за клубом, в зоне пляжа, и на водозаборе, ну и, конечно, наша дворовая артель. Она располагалась там, где сейчас построен пешеходный мост, соединяющий два микрорайона города – Жилгородок и Авангард. Мы ловили рыбу осетровых пород, а также сазана, жереха, судака, воблу, леща. Сом, чехонь, тарань, краснопёрка и прочая мелочь в расчёт не бралась, её отпускали.
Осетровые сети ставили в ямах. Во второй половине 60-х и начале 70-х в Жилгородке их было предостаточно, поскольку тони уже за клубом не было. А всё побережье района (кроме пляжной зоны) в 40—60 годы представляло собой некую базу стройматериалов из песка, ракушек, гипсоблоков. Их сюда привозили на огромных баржах и перегружали при помощи плавучих кранов. Вот, от этих-то плавсредств и образовались позже те самые ямы, служившие надёжным убежищем для многих рыб, а рыбакам для удачного лова.
В нашу артель, кроме меня, входили Алексей Христокьянц (Лякса), Коленька Тынынбаев (Камошка), Вовка Хандохин (Ловрик) и Мишка Филюшкин (Филин)
Но не только рыбалка объединяла нас. Все мы жили в одном дворе, и поэтому наша дружба, наши интересы почти всегда отвечали нашим потребностям. Конечно же, были в ту пору и рыбаки-одиночки, хорошо знающие места лова и легко управляющиеся сами. Но чтобы поймать осетра или севрюгу – тут без помощи товарищей было не обойтись.
Наши рыбацкие будни начинались ближе к полуночи. Когда совсем темнело и лишь звёзды, и луна становились невольными свидетелями наших ночных бдений, мы выходили на берег. Двое из нас расходились вниз и вверх по Уралу метров на пятьдесят. Это делалось для обзора местности, чтобы в случае опасности, грозящей со стороны рыбинспекторов и ночных облав милиции, не совсем честные рыбаки могли спокойно ретироваться.
Однако я ни в коей мере не могу назвать ни себя, ни моих товарищей отъявленными браконьерами, расхитителями социалистической собственности. Мы ловили рыбу для семьи, угощали рыбой соседей, излишки продавали на рынке (таков, по большому счёту, был жизненный уклад в тогдашнем Гурьеве). Впрочем, иногда до рынка дело не доходило. Рыбу у нас охотно покупали жители Жилгородка. Её мы доставляли прямёхонько по адресу (иногда на заказ) – продавцам здешних магазинов, воспитательницам детских садов, яслей; и даже нашим школьным учителям. Разумеется, со скидкой. Что касается цен, то, к примеру, в середине 70-х судак стоил от 1 до 3 рублей, севрюга – 8—10, а килограмм севрюжьей икры – 15—20 рублей. И продавцов, и покупателей эти цены устраивали.
Ну а настоящие браконьеры ловили рыбу за городом, в верхнем течении Урала, или «внизу», в многочисленных ериках устья реки. Среди них было немало зверских бракашей-хапуг, губящих природу, думающих только о личной выгоде. К этой категории относились не только простые граждане. Но и чего греха таить, были таковыми и некоторые представители высоких чиновничьих кругов, а также правоохранительных органов: сотрудники рыбохраны, водной инспекции, милиции, прокуратуры, вывозившие на казенных авто икру сотнями килограммов. Время было такое: власть воровала сама и давала эту возможность простым гражданам… Испокон веков, включая советский период, деньги в Гурьеве всегда делались исключительно на рыбе, или «за её счет».
Сегодня ситуация иная: многочисленные кооперативы официально промышляют рыбой в низовьях Урала, практически оставляя город на голодном пайке. От этого жизнь рядового рыбака-любителя, его семьи и детей стала намного сложней. Купить рыбу на рынке – тоже проблема: цены кусаются. Где это было видано, чтобы коренные горожане не могли вдоволь покушать отменной ухи из осетра, побаловаться балычком и икорочкой? И это в одном из богатейших рыбных районов республики! Но это только одна проблема. Пожалуй, самым опасным для всего живого мира Прикаспия является бурение на шельфе моря. Запах нефте-долларов кружит голову не только местным предпринимателям, но и иностранным компаниям. Это привело к заметному уменьшению рыбных запасов в Урало-Каспийском бассейне, занимавшем, с незапамятных времен, одно из ведущих мест в плановой экономике СССР.
По поводу того, что в Гурьеве рыбы было хоть завались, а в Атырау она почти не водится, есть даже анекдот.
«Плывёт как-то косяк рыбы к городу. Из воды выныривает вожак и, подплывая к дремлющим от безрыбья на берегу рыбакам, спрашивает: ««Ребята, какой это город?» – Те важно отвечают: «Мынау бар, Атырау!» – Тогда вожак разворачивает свой косяк обратно в море, и со словами: «Нет, такого города мы не знаем!» – устремляется вспять».
Однако мы несколько отвлеклись, и я продолжаю своё повествование об «уральских зорях».
Сетка-«десятерик» уже готова к постановке, и самые опытные из нас, Лякса и Мишка-Филин, спускают на воду камеру с лотком, на котором аккуратно разложены рыбацкие снасти: сетка, балберы, кольца, балласт. Обычно, Филин в ластах «тащил» камеру, заплывая на положенную глубину, а Алексей, сидя на ней верхом, синхронно сбрасывал в воду снасти.

Жилгородской рыбный базарчик на ул. Пархоменко. 50—60 гг.
Но вот «береговушка» кончается. Мягко опускается в воду ракушеблок – наследство оставшихся здесь стройматериалов, – фиксируя место сетки на дне. Положенные десять сажень длины сетки и полторы сажени «стенки» установлены, и ребята возвращаются на берег. Затем, так же тихо, мы покидаем «козырное» место, расходясь по домам. В пять утра – традиционный сбор на дворовой лавочке…
Шагая друг за другом по знакомой, еле освещённой луной тропинке, мы сначала проходили молчаливый парк. Затем, так же бесшумно, заросли лоха (джиды), джингила и выходили на место.
Начинало светать, но зари ещё не было. Самое время перебрать сеть. В этот раз нам повезло. Мы сняли с сетки небольшого осетра и одну икряную севрюгу. Неплохой задел!
Разделали их тут же, на берегу, в кустах. Головы прикопали в земле для утренней ухи. Икру, тушки и сеть мы с Камошкой аккуратно сложили в мешок и отнесли в наш дворовый «рабочий» сарай.
Между тем, Алексей и Михаил, взяв с собой бредень и бидон для мальков, берегом направились вверх по Уралу, на пляж. Там мы встречались и «бродили» малька вместе, спускаясь вниз по течению метров на сто, то есть обратно до нашего рыбачьего места.
В преддверии зари в заветном бидоне уже плескались мальки, необходимые для постановки удочек под судака. Не спеша, мы насадили мальков на крючки и установили приманок (а то устанавливали и два).
Сначала завезли «перемёты» по двадцать пять крючков каждый. Матушки, как и положено, прятали под водой; так надежнее. Две другие легальные пяти-крючковые удочки устанавливали на «сторожки». Теперь оставалось только ждать. К этому времени на часах было начало восьмого. Красная заря медленно, но уверенно поднималась на бледно-голубом небосклоне, предвещая дневной зной. Прибавилось и рыбаков на берегу, что-то «колдовавших» на своих «рабочих местах».
До первого перебора мы с ребятами направляемся отдохнуть в кусты, часика на полтора-два – развести там костерок, – отогреться, а заодно, и потравить анекдоты.
Когда солнышко уже всерьёз начинало припекать, Алексей шёл проверять «перемёты». «Есть!» – коротко чеканил он знакомую фразу. Сначала перебрали пяти-крючковые удочки. С обеих удочек сняли семь судаков; тут же на берегу их прикопали. Насадив «свежих» мальков, вновь завезли удочки.
Прежде чем перебрать «перемёты», мы с Ловриком побродили малька вокруг приманка. Есть малёха. Теперь можно приниматься и за «перемёты». С них мы сняли ещё пятнадцать судаков; всю рыбу закопали на берегу. Больше «перемёты» мы не ставили, потому что с рассветом, как известно, малёк пропадал, да и было уже небезопасно ловить рыбу запрещенными орудиями. Начинался день.
После девяти часов солнце начало припекать всё жарче и жарче. Нашлись желающие искупаться, позагорать. Всё больше камер с рыбаками потянулось на завоз.