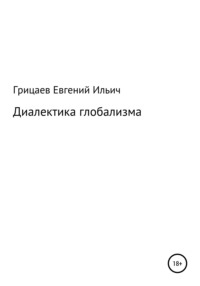полная версия
полная версияДиалектика мира
Прошлое потенциально находится в истории, но имеет при этом массу проблем, связанных с ее оживлением. Недаром вековая история человеческой цивилизации это сплошная цепь кризисов, насилия и войн. История должна не только учить, но и устремлять вперед в целостности с настоящим и будущим в диалектической связке с ними. Прошлое, история, как и мир пропитаны символизмом – символизмом жизни, которая не должна останавливаться. То, что должно быть не может быть осознано без оживления прошлого.
Человечеству подвластно прошлое – нужно заставить его работать. В противном случае будущее не будет работать на нас. Остается одно – разумно оживлять и использовать прошлое. Актуализировать его богатейший опыт существования, в котором есть все необходимое, чтобы избавиться от порочных язв субъективизма. Это он заставляет человечество снова и снова страдать. в отрыве от мира и согласия. При этом самое печальное то, что прошлое не вернешь. Но самое радостное то, что оно при этом устремляет нас в будущее. В этом отношении прошлое нужно ценить, а не сожалеть о нем. Подобным образом нужно ценить будущее. То есть, постоянно работать над ним, чтобы не повторять многочисленных рукотворных ошибок прошлого, когда оно осталось невостребованным.
Кто думает о прошлом, должен вдвое больше думать о будущем. Ибо вектор внимания должен уходит вверх, а не вниз, тогда история помогает. Думая о будущем, мы неизменно вспоминаем прошлое. Это ли не свидетельство, насколько глубоко они связаны друг с другом. Остается лишь разумно использовать прошлое в настоящем, чтобы обеспечить достойное будущее человеческой цивилизации. Настоящее приходит к тому, кто связывает прошлое с будущим. Такое "оживление" прошлого приносит успех процессу мира, который при этом оживает сам. Да, прошлое это еще не история, но оно должно ей стать.
3.3. История должна учить
Вопиющий парадокс антисоциальной и антисоциетальной направленности: прошлое как потенциальный вершитель земного бытия оказывается невостребованным. Ладно была бы еще в этом нужда, как, например, в начальные фазы антропосоциогенеза. А то ведь подобное происходит в годы крупных научных и технологических свершений и вполне возможного благополучия людей и народов.
Так получается в этой связи, что современное одиозное "рефлексивное управление" берет верх над миром и тянет Солнце цивилизации к западному закату века. Хотя само оно абсурдно и бессмысленно в рамках вселенского сосуществования. Поскольку не хочет видеть историю и ведет мировое сообщество к неразумию в глобальных горизонтах бытия. История не может не учить, а прошлое не может не открываться историей для воплощения процесса мира в нашу жизнь.
История должна учить уже потому. что она оживляет процесс мира, то есть, обуславливает наше существование. Если мы говорим, что мир планету не берет, значит, оживление мира не происходит, существование цивилизации тормозится – отсюда кризисы и войны. Здесь сразу возникает интересный вопрос: "Почему история не учит"? Почему люди или что-то другое не желают у нее учиться? Ответ выглядит чрезвычайно просто: общество отдаляется от государства, а человек от общества. То есть происходит десоциализация общества с расчеловечиванием человека при абсолютной неприкаянности мирового сообщества, как главного актора диалектической связи человечества и его социетальных структур с процессом мира. Вот к чему приводит распространенная ложь о "чистом" невмешательстве истории в дела человеческие.
Если история не учит, значит. у некоторых развязываются руки для всех тяжких. Ищем мотивы у этих "некоторых". Такое выгодно правящим верхушкам, выгодно в том, чтобы оболванивать людей и вводить их в историческое рабство. Когда история вроде бы есть, но она ничему не учит, а потому рабье достоинство духа большинства людей на планете оказывается никчемным. При этом меньшенству становится жить еще более вольготно, власть укрепляется сама собой. А они за нее ох как крепко цепляются – до умопомрачения. Что же сообщество в такой ситуации? Оно молчит. Значит, необходимо мировое правительство, чтобы "улучшить" человека? Но те такие общества или сообщество, больные и прогнившие обломки которых в своем бессилие и нежелании при этом использовать силы истории, которая должна учить.
Однако такая стратегия чревата обратной отдачей со стороны граждан, побуждаемых к тому же самоорганизацией – внешней и внутренней. Тогда со стороны "рабьего царства" начинается возмущение. Оно может быть куда лучше осознает роль истории в антропосоциогенезе и даже просто в житейском бытие, имея в виду свободы и права. Если понимать историю как некую неизбежную целостность с будущим, согласно диалектике мира, тогда она никак не может оставаться на задворках социальности. История призвана учить.
Диалектика мира при этом можно дать добрый совет социумам и обществам, странам и государствам: создавайте багаж стабильности и равновесности сообщества, исходя из исторической необходимости оживления процесса мира. Конкретное всегда нуждается в непрерывном, а если существует несколько конкретных образований, то их нужно связывать воедино в целостность с бесконечностью, то есть с процессом единения. Тогда будет выбита почва из под ног конфликтов, а сама конфликтология уйдет в небытие. Пора переводить историю на диалектические рельсы. История должна учить.
Известно, что история общества предоставляет массу примеров более-менее подходящего социального устройства. Помимо явных утопий (от благих намерений), быстро уходящих в Лету, временами были реализованы здравые суждения и успехи. Тем не менее, негатива и недовольства людей остается куда больше. Из всего сказанного можно сделать некоторые выводы, которые могут показаться не бесспорными. Но они лишь подтверждают необходимость оживления истории, которая как ничто должна учить человека и его социетальные структуры.
Первый вывод-критерий: история учит, что история общества это совершенно не социальная история. Если первое – недвижимое тормозное явление радикального излучения всесвятости, то второе – живой «ручейковый» процесс. Главным социальным вопросом должна стоять не демократизация общества, а адекватное уравновешивание капитального отбора – грегарным. На этом этапе прошлое должно оживляться должным образом.
Второй вывод-критерий: история учит, что социальные бедствия происходят больше не от неумения, а от лукавости и нехотения. Главное здесь: государству нужно быть честным перед гражданами, чтобы не допускать страдательно-возмутительных антирефлексий. Прошлое приводит массу примеров добротного жития, которые следовало бы использовать в практике социальных и сциетальных структур.
Третий вывод-критерий: активность народных масс – первейшая характеристика состояния и дифференциации действия и решения социального вопроса. Главное здесь – преодолеть антирефлексию масс. Но вначале нужно понять их причины, которые подсознательно «зарываются» веками в историю. Значит, их следует "открывать и актуализировать с учетом позитивных в принципе успехов науки техники, информационных технологий и социальных сетей..
Четвертый вывод-критерий: особая роль образованности (интеллигентности, а не образования). Интеллигенция должна лежать в основе социального государства. Главное здесь не реформы системы образования или науки и познания, а – дать возможность человеку почувствовать себя человеком. Для этого необходимо вовсе не предоставление прав и свобод, а обеспечение соответствия их с долгами управительства. История требует, чтобы ее оживили. Тогда то, что должно быть от процесса мира станет актуальным для субъективных действий.
Пятый вывод-критерий истории: бессилие власти всегда свидетельствует не о слабости «ползучей» экономики, а о сугубо неверном политическом курсе. Главное то, что здесь социально высвечивается путеводными огоньками – глобальная необходимость постепенно поворачиваться лицом к человеку. Крайне неотложная помощь – наладить действенные для взаиморазвития диалектическиесвязи личностей с обществом. Сообществу и человеческой цивилизации не обойтись без истории, а она пока показывает, что курс был выбран не тот.
Диалектика мира считает, что основные усилия должны быть предприняты для урезания аппетита капитального отбора в рамках всего человеческого сообщества. Как это сделать? Только путем усиления грегарного отбора, начиная с задачи повышения активности личности. Это демократия, образование, культура и человечность. Однако это и… экономика с историей, которая учит, что главная беда исходит из исторической неопределенности. Социальный вопрос – это вопрос судьбы человечества. Он до сих пор не решается, возводя в народ нечеловеческие идеи "улучшения человека". Идеалы социальной жизни лежат в самом народе, их только следует оживить и хорошенько встряхнуть – тогда они заблестят рефлексивной радостностью. Это будет не торжество формализованного осознания, а возвышение самомнения социальности.
История должна учить, но прежде она требует оживления разумными действиями. Необходимо отметить, что все превратности «судьбы человеческой» исходят из истории. Однако еще больше – от ее интерпретации, которая должна учить и связывать тем самым личность и общество. Сочленять их так, чтобы диалектическая связка с ее участием могла развиваться темпорально, без кризисов и катастроф. Это потенциально возможно, история учит, но… у нее нужно учиться. Если мы отмечаем, что история учит через катастрофы, то это означает, что мы у нее ничему не научились. Особенно, если заявляем открыто об этом, то это означает вдвойне, что мы у нее ничему не научились. Да хотим ли учиться, если заявляем, что «без кризисов развитие общества невозможно». Такой идеологический прием не нов, он исходит от бессилия государственных и социетальных структур. От нежелания переходить от государственного управления к государственному регулированию. То есть к высвобождению человечества от чрезмерных пут капитального отбора путем исторического дискурса.
В диалектической связи подмена человеческого или гражданского общества государством служит препятствием развития для различных регуляторов – институтов социальности и человечности. Во все века люди пытались создать общество более справедливое в социальном отношении Сменялись демократии и республики, менялся социетальный уклад и мировоззрения, монархии и тоталитарные системы. Но до сих пор эти попытки по большому счету успехом не увенчались. Почему? Может быть, потому что социальная проблематика это вовсе не состыковка вещественности, а проявление силы духовной целостности, направление свободного убеждения? Ведь вожделенные органические отношения строятся на доверии как синониме духовности. Однако доверие должно быть основано на исторической добротной платформы нашего опыта.
Неужели неизбежно сытое существование меньшинства за счет нищеты большинства? Это, казалось бы, неразумно и нелогично по отношению к объективному диалектическому развитию, о котором мы столь много говорим. Куда оно смотрит? Конечно, уравнение в правах и собственности это абсурдная, тупиковая ветвь в развитии. Но развитие всегда предусматривает процесс, а человеческое сообщество всегда находит лазейки в этом процессе, чтобы его исказить. Ведь по большому счету цивилизация достигла немалых успехов в технически-прикладном отношении, но в социальном вот уже многие века топчется на месте. Прагматизм упреждает социальность и метит не в бровь, а в глаз самой цивилизации, выставляя романтизм необходимости решением «проклятого» вопроса равенства. При этом пеняется на хитромудрую «неразумность действительности». Хотя это лишь действительная неразумность. Иначе как можно называть упущенные возможности использования исторического опыта цивилизации. Тем более, что новейшие достижения науки и техники только помогают этому.
Подобное бессилие человечества во многом можно связать с бессилием государства, которое тормозит будущее. Критикуются идеи институционализма, неокейнсианства. Но когда глядишь в глаза огромных легионов управленцев разных мастей и рангов, когда «один с сошкой, а семеро с ложкой». Кгда они связаны по рукам и ногам прагматическим состоянием имеющегося – тормозом материального интереса в лице капитального отбора – становится не по себе. В таком случае неизбежны прорывы тоталитаризма "глубинной власти" как альтернатива бюрократического исполнительства, катастроф, кризисов и войн – эти явления социального сумасшествия. Собственно "глубинная власть" это следствие исторического опыта – как тенденция того, что должно быть. История должна учить.
Многие задаются вопросом: где находится золоченая середина, чтобы и обществу было хорошо – и личности в нем? Есть ли она вообще эта сусально покрытая середина, нужна ли она? Может ли вообще истина быть печальной? Социальные вопрос заключается в противно-другом: в закоснелости нашего мировоззрения. Многие светло-благие в принципе социальные начинания в итоге скатываются в болото утопий – общество не принимает их. Почему? Выходит, что история ничему не учит, и мы идем с «козлиной бородой» наперекор ей? Или мы сами у нее не хотим учиться? Однако перед лицом глобального кризиса прозревает даже слепой…
Диалектические проблемы информационного общества видятся подобным образом. Они напрямую связаны с процессом мира и целостной связи с ним. «Гладко было на бумаге…» Если интеллектуальный капитал попадет в руки капитального отбора (а это уже наблюдается), то существенных сдвигов в решении социального вопроса ожидать не приходится. История учит и учит, но… значит, что ее урок «пропускают» пока не те образования. Глобальный кризис служит лишь подтверждение тому. Кто же должен спускать учиться у истории, чтобы социальные бедствия нашли свои достойные решения? История пока выглядит этаким «хозяйчиком себе на уме» и угрюмо-странно молчит. Пока молчит, но ждет разумного решения и соответствующих действий. Неужели можно учиться и ничему не научиться? Значит, нужен другой уровень научения и знания, иная историческая парадигма. Для этого необходимо оживление истории с учетом того, что должно быть.
Понятно, что смысл не может существовать вне истории и диалектической целостности бытия с миром и созиданием. Поскольку иначе он теряет корни истины, которая сама по себе должна быть социальна. История это не продукт мышления и осознания факта, его оживления. Но она побуждает к этому, к оживлению события в новый процесс мира. Она сама есть продукт оживления всего исторического опыта и не может не учить. Иначе настоящее и будущее наблюдают конфликты и войны, как будто нечто априорно присущее цивилизации в отсутствие мира. Про современный глобальный кризис даже не хочется говорить. поскольку он создан насквозь прогнившим непризнанием истории как истины первой инстанции бытия. Мы не желаем знать, что должно быть, потому пускаемся во все тяжкие. Хотя мир и согласие ждет, пока человек и его сообщество поумнеют.
Диалектика мира считает, что история должна учить. Весь ход развития человечества связан с обузданием животных инстинктов. При этом общество вырабатывало и закрепляло общечеловеческие ценности, которые способствовали очеловечиванию. Так что духовный и материальный прогрессы не останавливались никогда, несмотря на спорадические вспышки дикости. Такое видим и теперь, когда кризисы и войны будоражат планету и искажают процесс мира. История это не прошлое сообщества или человека, это настоящее выражение будущего процесса мира.
Разумный человек отличается от неразумного тем, что умеет созидать будущее из прошлого, оживляя его при активном участии сообщества. Разумный человек находит свободу в несвободе, неразумный – несвободу в свободе. При этом иногда кажется, что жизнь проходит стороной? В таком случае следует понять: почему? Чаще от плохого видения будущего. Тогда остается прошлое. Но это далеко не лучший выход. Хотя даже в таких условиях в прошлом можно найти много тайн, которые помогут обрести должное. Диалектика мира считает, например, что тайна создания Руси Великой это тщательно скрытая неразумным настоящим история прошлого.
История как человек: также старится и болеет, если ее не оживлять в настоящем и будущем цивилизации. Чтобы придумать нечто новое, нужно прежде всего хорошенько припомнить старое, особенно если оно в крупных масштабах событие, потрясшее сообщество.За тысячелетнюю историю мироустройство не изменилось в основных чертах: обособление социумов, разъединенные национальные идеи, разобщенность умов. Действительно, лишь общность духовной сферы играет за процесс мира. Однако тогда сам процесс мира играет за необходимость того, что история должна учить, должна оживлять мир.
3.4. Цивилизация и история
Ядро цивилизации веками последовательно двигалось к миру и созиданию, несмотря на некоторые внешние торможения. Например, в случае с неандертальцами, которые слишком невиданно быстро изменились, приобретая сапиентные черты. Хотя внутренние процессы неуклонно следовали внешней самоорганизации и объективным групповым отборам. Многие ветви эволюции отходили в тупик забвения из-за их несоответствия внутренней организации процесса мира. То есть. существованию праобщества или общества и их житейского бытия в целостности с процессом мира – тем, что должно быть. История требовала оживления, однако сообщество двигалось своим путем через рукотворные социальные катаклизмы.
Мы даже во многом преуменьшаем значение этих событий и их количественные параметры. Выглядит поразительно тот факт, что в различных районах и регионах и в различной хронологии последовательно проводились типичные для ядра цивилизации этапы становления социальности. Это вполне внятно подтверждает превалирование внешней самоорганизации со стороны Вселенной над внутренней личностной самоорганизацией. Особенно в переломные грустные периоды времени становления цивилизации и стремлению ее к целостности с процессом мира и созидания. История учит цивилизацию, хотя бы в лице объективной самоорганизации.
Диалектика мира подтверждает наличие пассионарного стремления очеловечивания к цивилизационным процессам в широких масштабах. Очевидно, путем схематичного типа: период – культура – время. Например, в археолите дошель преаббельвиля сочетался с гюнц-минделем в цивилизациях классических питекантропов. Или в культуре верхнего ашеля в период рисса непременно выглядывают диалектические корни мира в цивилизации палеоантропов раннего неоархеолита. С соответствующим приложением в виде половых табу, освоения огня, изготовления копий, тотемов и примитивных жилищ в районе около двухсот тысяч лет тому назад. Разве история не учила цивилизацию? Всякое новое это оживленное старое.
Ускоряющее или тормозящее влияние на становление человеческой цивилизации оказывало несомненно изменение климата. Известны развитые цивилизации во время Каргинского потепления на территории Центральной России, такие, например, как Костенки или Сунгирь. Особенно ускорилось развитие человеческой цивилизационных атрибутов и духа человека с одновременным становлением социальности в голоценовом климатическом оптимуме. Начиная с интерстадиала с культурами шательперрон и ориньяк, которые свидетельствуют о существенном образовании целостности общества и мира. В этот период уже можно было говорить о некотором сообществе, так как уже несомненно имелось наличие диалектической связки мировой цивилизации с миром и историей. Так история цивилизации оживляла и оживляет мир. Сообщество просто не могло оставаться в стороне и дичать неким неразумным созданием природы и не только. Когда в дела природные вмешались социальные отборы, историческое не могло не иметь решающего значения в антропосоциогенезе.
Диалектика мира утверждает, что из всех человеческих загадок от «глубокоумия» современная мир-системная социология, рассматривает не только причины возникновения и борьбы – с алкоголизмом, бедностью, нарушением прав и свобод, социальным неравенством, коррупцией и с другими недоразумениями цивилизационного фундамента. Но также определяется роль человека как активного социального субъекта, как историческую целостность. Кроме прочего она призвана ответить на вопрос, ведут ли новые технологии и знания к социальному прогрессу или социальному кризису. Остается на острие истории цивилизации вопрос, как достигнуть уровня социального, правового государства.
Общепризнанно считается, что в настоящее время социальные вопросы глубинно обостряются. Выход видится, исходя из опыта западных стран, таковым: в демократизации общественной жизни, борьбе всех граждан за использование конституции, необходимость социальных стандартов и норм для уязвимых слоев населения, повышении ответственности интеллигенции. Обычными институционалистическими признаками социального государства авторитетно считаются: развитая экономика, общественная система без неимущих, соответствующая нарастающая культура и доступное для всех слоев образование, соответствующая государственная система, нацеленная на защиту граждан. К сожалению остается за бортом цивилизационных процессов потребность оживлять историческое знание в разумные действия в целостности с процессом мира.
Например. Российское общество пока явно не «дотягивает» до требований социального государства. История общества это, как показывают упрямые реалии, вовсе не социальная история. Отсталость веков невозможно наверстать подгонкой истории. Социальный вопрос – слишком широкое и всеобъемлюще описанное понятие, такое, что его бессмысленно освещать в деталях в настоящей работе. Усилиями многих исследователей подробнейшим образом проанализирована история общества, сделаны выводы, предложены модели редуцированного процесса развития его. Но… "история ничему не учит". Потому непрерывные извращения глобализма обращают нашу жизнь и цивилизацию в целом в кошмар кризисов и конфликтов.
Действующая масса социальных бедствий отнюдь не уменьшается, социальное напряжение упорно не спадает, войны и терроризм, утончаясь, не кончаются. Культура уходит на задворки темноты, терроризм терзает, коррупция разъедает государственную систему. Так появляется уныние от угрозы глобального кризиса, негативные социальные вопросы торжествуют, социальные кризисы не преследуются по законам истории, а дуальная мир-системная социология пока оказывается неэффективной. Почему так? Где же выход?.. Он в самом человеке и в истории, которая лежит мертвым прошлым цивилизации.
Первофеномен истории это, прежде всего, «яркое знамя» под идеей становления, импульс «святой искры». То есть – соединение субъекта истории с объектом бытия. Небезызвестный О. Шпенглер с его "цивилизационным подходом", не мудрствуя лукаво, заявлял: «В основе ставшего всегда лежит становление, а не наоборот». Там, где связь ограничивают внешним соотнесением, где ищут субъективное зло, а не объективное добро, там становится прав Шпенглер. Особенно когда говорит, что «хотели обнаружить жизнь, а наткнулись на орнаментику понятий». Вдохнуть жизнь в эту орнаментику может лишь ее связь с историей и миром. Хотя бы как функциональное становление равновесия предикации, как контрапункт изменения и сохранения под апофеозом диалектизации самой цивилизационной платформы..
Диалектика мира считает, что известная нелинейная символика исторического события всегда выливается в линейность действия грегарного отбора по становлению личности. Проблема целостности становления выходит за грани формализации – она скрывается много глубже, затрагивая диалектически обрамленные исторические слои субъективного обращения объективного. Вспомним при этом тот факт, что становление цивилизаций всегда происходит в жесткой борьбе логического с историческим. Пока видно, что логика материального интереса настоящего оказалась выше исторических духовных обретений. Понятно, что в таком направлении цивилизация гибнет.
Однако гибель цивилизации можно считать их поражением в этой борьбе, поскольку субъективное обращение объективного проходило не по диалектическим магистралям. В историческом ракурсе цивилизации должны становиться, развиваясь в мировое сообщество. В этом отношении становление приобретает видимость крещения верой. Но этого не происходит из-за исторической «катаракты» на глазах прогнивающего от ржавчины прагматизма регулятора равновесия социальных отборов. Хотя бы в лице мировоззренческого тупика управления без учета исторического разума процесса мира.
Властьимущие, а тем более капиталлоимущие скоро поняли, что прогресс экономики невозможен без прогресса социального. Они стали «вкладывать» в человека – в его образование и некоторую интеллектуальную свободу. Но это же одновременно еще больше привязывало человека труда (теперь уже умственного, а не мускульного) к «хозяевам» капитала, к корпорациям от его денежной власти. Порабощение интеллектуальной собственности продолжается и поныне. Люминофор прошлого разжигается обществом, несмотря на справедливые требования к цивилизации со стороны истории и мира.
Становление объективного грегарного отбора при его дефиците относительно капитального отбора в основном продолжает оставаться под значительным субъективным нажимом. Тогда общечеловеческие ценности, выработанные историей, остаются во многом невостребованными. Продвинутые умом люди начинают говорить о «гибели культуры». Грегарный отбор требует выхода. Сотни общественных организаций действуют в борьбе за этот выход. Так внутренняя «хемилюминесценция» становления освещает историю, делает ее доступно-прозрачной. Вот только темпы прироста общественного тсознания особенно в социетальных структурах просто мизерные.