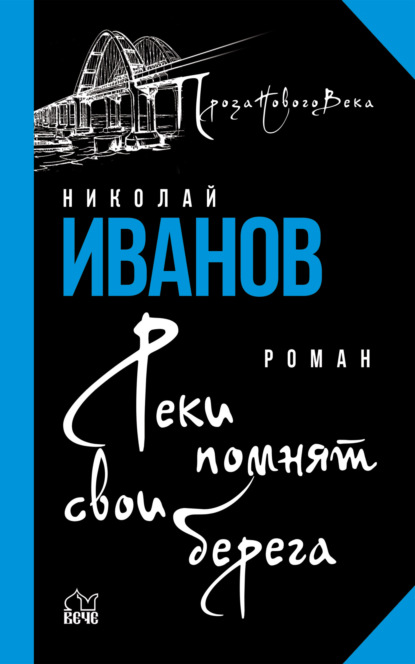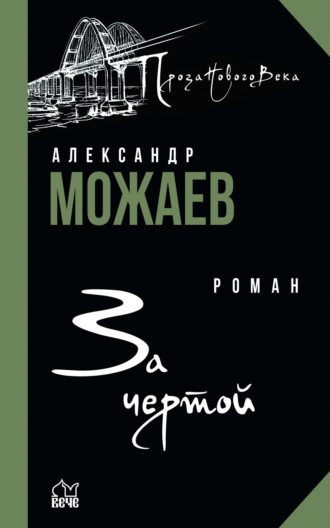
Полная версия
За чертой
Судил матчи однорукий Вовка Дьяков, – по-уличному – Дикий. Когда мы с Кудином были в пятом классе, нам посчастливилось найти под соломенной стрехой сарая гранату. Мы уж принялись её курочить, но, на ту беду, нас за этим делом застукал Дикий. Был он на пять лет старше нас, поэтому легко накостылял нам подзатыльников и гранату конфисковал. Дикому удалось выкрутить из неё запал, но даже его хватило, чтоб оторвать ему кисть руки и вышибить глаз.
Дикий всегда судил честно, хоть и был с нашей стороны, но проигравшая сторона свою неудачу всё равно сваливала на него.
К нарушениям с обеих сторон Дикий был либерально-терпим, пока это не переходило дозволенную грань, но, если кому-то вздумывалось бузить – не церемонился. Своей могучей рукой брал буяна за шиворот и, выкатив на край поля, швырял к зрителям, при этом говорил без всякой злобы, даже ласково:
– Охолонь тут маленько…
Счёт матчей обычно имел трёхзначные цифры: 105 на 103 или 119 на 117 в нашу или в противную сторону. Это как кому повезёт. Расходились уже в полных сумерках.
– Завтра матч-реванш! – грозила проигравшая сторона.
– Приходите – ещё накидаем, – обещали победители.
Но фортуна – дама переменчивая, и на другой день уже вчерашние победители грозились реваншем.
* * *Хуторская детвора начинала работать с начальной школы. Дружной гурьбой ходили мы на ток разгружать машины с зерном. Самосвалы в ту пору были редкостью, в основном бортовые ГАЗ-51. Подъедет водитель к бурту с зерном, откроет задний борт и скомандует:
– Саранча, налетай!
И мы в один миг саранчой взлетаем наверх и деревянными лопатами в считанные минуты освобождаем кузов. Платили за эту работу сущие копейки, но это были уже свои копейки, которыми можно гордиться. Помнится, купил с этих денег своей бабушке белый платочек, и она, расстелив его на коленях, долго разглаживала своей большой шершавой рукой. И я не понимал тогда, почему она плачет.
А уже в старших классах, на летних каникулах, нам дозволялось идти штурвальными на комбайны. В ту пору – это элита среди шпаны! Комбайнёры придирчиво, как на аукционе, рассматривали нас и брали себе в помощники не каждого. А мы, прошедшие конкурс, были невероятно горды своим положением и лезли из кожи, чтоб оправдать оказанное доверие и угодить своим благодетелям-комбайнёрам. Натаха и Людка тоже работали – развозили обед по тракторным бригадам.
С хутором Нижним, несмотря на то что административно это была Украина, у нас была и общая школа, и общая работа (Жека и Кубане́ц работали с нами, так как до Верхнего хутора, там, где находилась их бригада, было значительно дальше, чем до нас). И улица, где мы собирались вечерами, тоже была общая. И откуда только силы брались! День на комбайнах, ночь, чуть не до зари, с девчатами на улице!
Мне повезло, меня взял в штурвальные дядька Мишка, наш сосед, один из лучших комбайнёров района. Мой заработок – от его заработка. Дядька Мишка никогда не бранится, может лишь незло пошучивать.
Утром, до того как поднимется солнце и подсушит росу, мы, не успев ещё до конца проснуться, набивали «шприцы» солидолом и накачивали им до сотни тавотниц. Солнце выше, выше, звонче голоса жаворонков, ветерок прогоняет росу.
– Пора! – командует бригадир Зынченко.
На краю полевого стана, на взгорке, голубеют поляны полынка. Сорвав махровые его стебли, насухо вытираем измазанные солидолом руки и заводим моторы.
Ближе к обеду кабины комбайнов разогреваются и напоминают раскалённые духовки. Когда идём под ветер, – пыльное облако накрывает комбайн. Мелкие, перемолоченные остья соломы и половы выедают глаза, впиваются в ноздри и губы. Вместе с тем недосып давал о себе знать, и мы начинаем клевать носами. Жалеючи нас, комбайнёры дают команду:
– Так, штурманá, мы тут пока без вас по кругу пройдём, а вы дуйте в посадку, «придавите на массу».
Едва войдя в тень деревьев, падаем в траву и тут же засыпаем. Кажется, только закрыли глаза, а уже новый крик над нами:
– Штурмана-а-а! Хватит муравейники топтать. Вылезай!
Продирая глаза, бредём к комбайнам, лезем по лесенкам вверх.
– Что, уже по кругу прошли?..
– Уже по десять прошли, пока вы мух кормили! – смеются комбайнёры.
Солнце уже не столь злое, но пыль ещё гуще, чем была до обеда.
Вот на моём комбайне задымил вариатор, забуксовали ремни. Всё, стал среди поля. Дядька Мишка, почёсывая затылок, подходит к комбайну. Осмотрев механизмы, плюёт на посиневший подшипник.
– Чегой-то он?.. – спрашиваю я.
– «Чегой-то»… – усмехаясь, передразнивает дядька Мишка. – От обильной смазки… Мазал?
– Вроде мазал… – неуверенно говорю я.
– Да-а, вижу, как ты мазал… Поднять подняли, а разбудить забыли… Ну, коль мазал, давай снимай.
Отпускаю натяжные ремни, откручиваю вариатор. Вот только сил маловато снять и установить новый. У дядьки Мишки надорвана спина, поэтому все тяжести приходится поднимать самому. Хорошо хоть Кудин с Жекой пришли помочь.
– Железяку на пупяку раз-два – взяли! – командует дядька Мишка.
Ставим на место новый вариатор. Сопим, молча натягиваем ремни.
– Везёт тебе с дядькой Мишкой, – шепчет Кудин. – Мой Григорьевич за такой косяк позавчора по мне молотком запустил…
– Попал?..
– Если б попал, я бы сейчас тебе не пособлял… Мимо просвистел. Потом еле нашли в стерне…
А вечером, едва смыв с себя мазут, мы бежали на улицу. Собиралась «улица» у двора Людки Зынченко. Там вот уже много лет как ветром свалило огромный тополь. На нём и рассаживались парами. Играли в «Садовника». Каждый выбирал для себя имя цветка. Натаха была ромашкой, Людка – незабудкой, Бармалей – тюльпаном… Были у нас и семицветик, и роза, и сирень, и жасмин… Только мы с Кудином выбрали себе самые отвратительные растения. Я был чертополохом, Кудин – репяхом, но это нисколько не мешало нам.
– Я садовником родился, не на шутку рассердился, – поочерёдно тыча пальцем в сидящих, декламирует свою считалку Кубане́ц.
– Буду резать, буду бить, с кем останешься дружить? – Палец Кубанца́ останавливается на Натахе.
– Ромашка!
– Ой!
– Что с тобой?
– Влюблена.
– В кого?
– В чертополоха!
Я понимаю, Натаха специально выбирает меня, чтобы позлить Кудина. Кудин же в свою очередь, чтоб позлить Натаху и Бармалея, всегда выбирает Людку-незабудку.
Натаха сидит рядом со мной. От её распущенных волос действительно исходит запах ромашки и чабреца. Я на расстоянии чувствую теплоту её тела. Затаив дыхание, касаюсь плечом её плеча. Собравшись с духом, осторожно, чтоб никто не заметил, кладу свою руку на её тёплую спину, легонько сжимаю пальцы. Натаха не убирает моей руки, напротив, как мне казалось, плотней прижимается ко мне. У меня останавливается дыхание. Но вдруг, совершенно неожиданно для меня, говорит так, чтобы слышали все, и в первую очередь Кудин:
– Ой, Сань, не бери меня за здесь, не делай мне приятно!
Как ошпаренный, я отдёргиваю руку и даже отклоняюсь от Натахи.
«Вот же зараза! – в сердцах думаю я о ней. – Я и дотронуться не успел до «за здесь», а она уже объявила всем…»
Хорошо ночь и никто не видит, как у меня от стыда покраснели уши. Кудин же от стыда никогда не краснеет. На время, отпустив Людку, он с другой стороны придвигается к Натахе, сгребая её в объятия, крепко прижимает к себе.
А ты ромашка белаяЛепесточки нежные…– Дай-ка, Натаха, я прикогтюсь «за здесь»! – никого не таясь, говорит он.
– Ой, Кудин, ты, куда свои лапища-то запустил?.. – слабо сопротивляясь, стонет Натаха.
– Туда, куда ты Санька не пустила…
– А кто тебе сказал, что я его не пустила? – вновь подзадоривает его Натаха.
А утром, чуть свет, не успеешь как следует и заснуть, бригадир Зынченко, которого за глаза все звали Дрыком, хлопает уже своей плетью в ставни.
– Протягалися до утра, спыте, сукины диты? Он, солнце уж в жопу препикае… Швыдко одягайтесь, машина вже чикае…
Пеночки-конфетки
Это было давно, когда моя покойная мама была ещё молодой и красивой… Конфеты в моём детстве были великой редкостью. Вволю наесться ими можно было лишь на Новый год, Рождество и на Пасху. В иные дни длинную в полосатой обёртке конфету давал мне мой двоюродный дядька Сашка-Герой, когда тёмными вечерами мы с матерью ходили к нему «посумерничать».
– Пойдем проведаем братку, – говорила она. – Посумерничаем.
Света вечерами в хуторе не было, зимой смеркалось рано, заняться было нечем; единственное развлечение – разговоры о былом. Дядька Сашка-Герой был инвалидом Советской Армии, пенсию получал неплохую, поэтому «на всяк случай» у него всегда имелись конфеты, но и их он просто так не раздаривал. Конфеты у дядьки Сашки нужно было ещё заработать, а это уже нелегко.
– Так, Санько, ты чего судомишься на лавке, как будто у тебя шило в жопе? – строго спрашивал он и тут же выставлял свои условия:
– Видишь стрелку на ходиках? Вот покуда она отсюда и туда вон дотикает – будет пять минут. Выдержишь, чтоб не ёрзать по лавке и не болтать ногами – дам конфету.
Попробуй тут высиди эти пять минут, стрелка на часах, кажется, забыла о своём ходе, а предательская нога, вопреки всем командам, выходит из подчинения и сама по себе начинает дёргаться.
О своих геройских подвигах дядька Сашка-Герой никогда не рассказывал. Когда кто-то пытался расспрашивать его о минувших передрягах, в которых тот побывал, он грозно сводил брови и отвечал очень строго:
– Это военная тайна, я на сто лет вперёд подписку дал. Выйдет срок – расскажу…
Мать же моя никаких подписок не давала, поэтому в который уж раз рассказывала печальную историю про свои красные сапожки:
– Папка, прежде чем уйти на фронт, справил мне красные юфтевые сапожки, – всегда начинала она свой рассказ с этой фразы. – Какая радость была! Таких сапожек ни у кого в хуторе и на показ не сыскать. Полька, подруга моя, так мне завидовала! Бывало, придёт в гости и просит:
«Достань сапожки».
Я достаю.
«Дай я потрогаю их».
Даю.
В сорок первом мы уже взрослые были – по четырнадцать лет. И вот вызывает нас председатель и говорит:
«Вот что, девоньки, сейчас мы все солдаты – отцы на фронте, матери – окопы копают… И вы тоже наши солдаты. Вам достаётся задание особой важности. Завтра седлаете коней, собираете весь колхозный скот и гоните его строго на восток. Восток знаете где?»
«Там, где солнце встаёт…»
«Молодцы, соображаете… На восход, значит… Там, через сто вёрст, может, чуть боле – «Совхоз Ильича». Будете спрашивать – подскажут. Его все знают. Директор там Дрюков. Скотину сдадите ему, а он вам бумажку напишет… Харчи на дорогу выдадим…»
А ещё сказал председатель, что дорога тяжёлая и чтоб обувку мы брали добрую, потому что назад нам уже пеши идти. А у меня из обувки одни лишь красные сапожки и есть… На другой день сели с Полиной на коней да и погнали колхозное стадо. Пыль до самого неба, того и гляди затеряешься в ней; где гурт, где погонщики – всё перемешалось. День гоним, два… Люди дорогу подсказывают… На четвёртый день стало кругом грохотать. И сзади грохочет, и спереди, и, куда ни глянь, везде земля ходуном ходит. Наконец добрались мы до этого совхоза, а там пусто, и людей почти никого. У какой-то старушки спросили:
«Где Дрюкова найти?»
«Ой, милые, нигде вы его не найдёте. Два дня как сбежали все и Дрюк попереди всех».
«Что ж нам делать теперь?»
«И вы дальше бегите, может, приткнётесь где…»
Кто знает, куда бечь дальше, но бегим, гоним своё стадо куда глаза глядят.
Харчишки, которыми нас снаряжали, уже покончались. Стали в какой-то балочке на отдых, пустили коней попастись, а сами давай коровок доить – больше есть нечего. Тут самолёты. Кинули бомбы, да с пулемётов… Как полыхнули наши коровки по степи да по балке, и конь мой невесть куда убежал. А к луке седла сапожки мои красные были приторочены. Вот мы с Полиной мечемся по степи, да по балке. Ни коров, ни коней догнать не можем. Выбились из сил, сели тогда и плачем во весь рот. Тут останавливается машина. Выходит военный:
«Кто такие?» – спрашивает.
«Солдаты…» – отвечаем, как научил председатель.
«Откуда ж вы такие «солдаты»?»
Отвечаем, откуда.
«Что ж вы, «солдаты», плачете?»
«Коровы убегли».
А тот и говорит:
«Я как старший по воинскому званию приказываю вам возвращаться домой. Здесь сейчас война будет».
А я ему:
«Никуда я возвращаться не буду».
«Почему?»
«Там с конём ускакали мои красные сапожки. Что я мамке скажу? Пока не найду – возвращаться не буду».
Тот опять говорит:
«Я тебе честное солдатское слово даю: как только закончится война, приеду к тебе, и привезу тебе красные сапожки».
Я всю войну за него молилась, а он так и не приехал… – вздыхала мать.
* * *Высоко в небе, едва различимы, паря над Логачовой левадой, верещат кобчики. Задрав головы и щуря на солнце глаза, мы с Кудином вопим во всё горло свою дразнилку:
– Коба «Пи-пи-пи»! Коба «Пи-пи-пи»!
– Ну, чего вы его зазываете?! – нарочито строго ворчит тётка Полина. – Давно он курчат таскал?..
Летом смеркалось поздно, дел по дому было много, поэтому «сумерничать» до дядьки Сашки-Героя мы уже не ходили. Мать завязывала у меня на поясе фартук, подтягивая края, делала из него вместимое лукошко и отсылала рвать вишни, которые мы сушили на пологой крыше веранды. У Кудинов крыша дома была крутой, вишни сушить было негде, поэтому тётка Полина заготовляла варенье.
– Санька, Санька!.. – задыхаясь, вбегал к нам малолетний Кудин. – Айда к нам! – кричал он. – Мамка из вишника варенье варит – вся пенка наша!
В кудиновом дворе, в тени старой тютины, стояла под небольшим, крытым совковой черепицей навесом, древняя грубка. На грубке, в огромном закопчённом медном тазу, побулькивало варенье. Тётка Полина помешивала его большой деревянной ложкой и в отдельную миску аккуратно собирала с него пенку. Наша с Кудином задача было предельно проста: подтаскивать из соседней левады сухие дрова и подбрасывать их в огонь. Мы хорошо усвоили простую истину: чем жарче под тазом, тем больше поднимается пенки.
– Куда вы кочегарите, черти?! – бранится на нас тётка Полина. – Это вам паровоз, что ли?.. Пригорит таз, кто потом отдирать будет?..
Пригоревший таз, как и пенки, – законная наша добыча. Сначала, пока тётка Полина разливает по банкам варенье и укупоривает его стеклянными крышками, мы лихо расправляемся с пенками, а когда освобождается таз, начинаем отдирать и поедать все пригарки, пока не спохватится тётка Полина.
– Хватит! – строго говорит она. – Дай вам волю – вы его насквозь прогрызёте!..
Конфеты дядьки Сашки-Героя, пеночки и пригарки тётки Полины – самое сладкое, что было в моём детстве.
Батюшка Никодим
Познакомил нас всех с отцом Никодимом Носач, когда после долгих лет безбожного запустения тот приехал по-новому освещать и обживать полуразрушенный храм в Нижнем хуторе.
– Мы с ним как-то нашу речушку переходили, он, чтоб не замочиться, и приподнял рясу, а там в яловые сапоги шаровары с лампасами заправлены, – делился с нами Носач. – Наш батюшка! Плоть от плоти – наш.
Особое доверие к Никодиму пришло тогда, когда он, по просьбе Носача, пришёл гнать с его сенокоса кротов. Поначалу, когда батюшка, читая какие-то подобающие к этому случаю молитвы и кропя святою водой, обходил сенокос Носача, мы с Жекой наблюдали за этой церемонией с насмешкой.
– И куда ж они теперь денутся? – смеялись мы.
– Должно быть, к вам побегут… – виновато вздыхал Никодим. – Хотите, и от вас отвадим?
Мы в это действо не очень верили, происходящее воспринимали с усмешкой и оттого просчитались. Сенокос Носача был зелен и чист, наши ж луга были до безобразия изрыты кротами.
Так батюшка Никодим стал прочно входить в нашу жизнь. Он и крестил, и венчал, и отпевал, и казачьи «круги» освящал. К нему бежали за советом по всем житейским вопросам. Там, где Никодим ответить не мог, он умел так повернуть заданный ему вопрос, что вопрошавший сам находил на него ответ.
Я уж не помню, кто первым прокричал моё имя, когда, возвращая былые традиции, выбирали хуторского атамана. Может, это был Кудин, может, Бармалей, может, дядька Мишка, у которого я когда-то был в штурвальных, а может, все разом, но других кандидатов никто не предложил.
– Любо! – ревел зал, когда, раскланиваясь перед всеми, я вышел на сцену.
– Ну-ка, подведите его ко мне! – командует Никодим.
Жека и Кудин берут меня под руки и ведут к Никодиму.
– В Господа нашего Иисуса Христа веруешь? – спрашивает тот.
– Верую, – склонив голову, отвечаю я.
– Расстегните ему рубаху, – приказывает Никодим. – Щас глянем, что ты за христианин. А то, может, хуторяне, не разобравшись, татарина себе в атаманы выбрали.
В губах Никодима шевелится едва заметная улыбка.
– Наш! Наш!.. – не поняв иронии Никодима, кто-то орёт из зала.
– Я его как облупленного ещё безпортошным помню! – угадываю я голос своего двоюродного дядьки Сашки-Героя, который намекает на то, что знает меня с тех давних пор, когда на мне и штанов ещё не было.
Рубаха расстёгнута. На груди тускло мерцает позеленевший с наружной стороны медный крестик.
– Похоже, не ошиблись! – уже широко улыбается Никодим. – Читай присягу!
– На Христовом Животворящем Кресте, на Священном Писании присягаю: «Служить верно, не щадя головы…»
Зачитываю текст Присяги, целую Крест, Евангелие и икону.
– Теперь можете и ногайку вручить! – приняв присягу, разрешает Никодим.
Дядька Сашка-Герой, кряхтя, поднимается с ногайкой на сцену. Не успел я протянуть к нему руку, как он отводит ногайку в сторону.
– Погодь, сначала на себе спробуй, – строго говорит он, словно и забыв о нашем с ним кровном родстве.
– Дай-ка, я стегану! – тянется за плетью Кудин.
– Сопли подбери, стегальщик… – Дядька Сашка-Герой даже не взглянул на Кудина.
«Ну, этот сейчас влупит, – думаю я. – Припомнит все мои бедокурства…»
– Заголи спину, чтоб рубаху не попортить, – словно оправдывая мои догадки, говорит дядька Сашка. – И наклонись, чтоб плеть не соскользнула…
– Герой, ты там не дюже усердствуй! – кричат из зала. – А то до смерти засечёшь, а нам морока – нового избирай…
Дядька Сашка хоть и нагнал страху, разминая своё плечо, шлёпал всё же не очень больно.
– Это чтоб помнил: откуда пришёл и куда уйдёшь! – после третьего хлопка, вручая ногайку, говорил он.
– А скажи, атаман, давно ли ты причащался Святых Таин? – едва закончился Круг, спрашивает меня Никодим.
– Да уж и не помню, когда… – честно признаюсь я.
Батюшка Никодим, призывая к вниманию, поднял руку. Зал стих.
– Завтра у нас в Нижнем хуторе праздничная служба – Рождество Христово. Всем казакам следовать за атаманом на исповедь и причастие, – объявил он, как о деле уже решённом.
Пока собрались, пока добрались до хутора Нижнего, в церкви уже пели «Верую».
– Хорошо хоть к трапезе не опоздали… – допев «Чаю воскресения мертвых», насмешливо шепчет Носач.
Хор пропел псалмы Давида, и Никодим вышел из алтаря принимать исповедь. Чтоб не ошибиться в чём-либо, пропускаем вперёд местных старушек, потом Носача. Наблюдаем, в каком порядке нужно действовать. Носач хитёр, свои грехи он подал в письменном виде, и что там, на тетрадном листке, никому не ведомо.
Первым от нас идёт к Никодиму Кудин. Неуклюже перекрестившись, склоняется над Евангелием. Молчит. Молчит и Никодим, ждёт, когда Кудин вспомнит все свои прегрешения.
– Что ж ты молчишь? – прерывая молчание, первым сдаётся батюшка.
– А чего говорить?
В углу на клиросе старушка монотонно читает молитву к причастию, но это не мешает мне слышать происходящее на исповеди.
– Скажи, что душу тревожит, – подсказывает Никодим.
– Ничего не тревожит, – отвечает Кудин.
– Святой?! А я, грешный, тяну из тебя непотребное…
– Ну, не святой… – наконец близится к покаянному пути Кудин.
– Так что же душу тревожит? – вновь батюшка направляет разговор в нужное русло.
– Ничего не тревожит… – пожимает плечами Кудин.
– Пшеницу с колхоза воровал? А прелюбодеяния?.. – зная слабые места Кудина, подсказывает Никодим.
– Да это разве грех? – искренне удивился Кудин.
– Грех.
– Эх, батюшка, что для тебя грех, для казака – доблесть!
Беседа длится – служба затягивается. Носач уж накрыл в клубе Верхнего хутора столы для праздничной трапезы, а тут никак до причастия не доберёмся. Вот уж народ и роптать начинает, а Кудин никак не сдаётся. Большого труда стоит Никодиму убедить его всё же раскаяться в своих «доблестях». Вот наконец он накрывает Кудина своей епитрахилью, и храм облегчённо выдохнул.
Следующим иду я.
– В чём каешься, атаман? – утирая после тяжёлой беседы с Кудином лоб, спрашивает Никодим.
– Во всех смертных грехах! – чтоб не затягивать исповедь, отвечаю я.
– Неужто убил кого?! – вскидывает голову Никодим.
– Ну, убивать не убивал, а так…
– А говоришь: «во всех смертных»… – слабо улыбается батюшка.
Склонив голову над Святым Писанием, гудит о своих грехах Жека, чем вводит в смущение местных старушек.
После службы Носач поучает его:
– Ты, Жека, на листочек свои грехи записывай. Никодим молча прочтёт – и все дела! А ты трубишь на весь храм, как племенной бугай, о своих похождениях…
– Какой «листочек», Носач! Это мне на каждую службу нужно общую тетрадь заводить и писать мелким почерком…
– А ты лаконично пиши, – научает Носач. – Нечего рассусоливать. Пиши одним словом: «Каюсь в блудном грехе». И ненужно перечислять всех своих ухажёрок, да ещё со всеми подробностями: где, с кем, когда и каким боком…
После Жеки исповедовался Бармалей. Он недавно пришёл с Афгана с орденом Красной Звезды и контузией, отчего слегка заикался.
– И рад бы, да не знаю, в чём и каяться, батюшка, – живу сейчас смирно, скучно, даже похвалиться нечем… – простодушно говорил он.
– Людей убивал?.. – взглянув на орден, тихо спросил Никодим.
– Не знаю… Так, чтобы с глаза на глаз – не приходилось, а там… Пуля далеко летит, не проследишь…
– Вот и облегчи душу… Зачем ей лишний груз?..
– Так и они ж стреляли… – по-детски оправдывается Бармалей.
– Чужими грехами не оправдаешься. В свой час с них тоже спросится. Ты о своей душе думай…
В постные дни отец Никодим всегда находил какой-нибудь веский предлог, чтоб не участвовать в общей трапезе и никого не обидеть своим воздержанием. Если же день был скоромным и тем более праздничным, Никодим был вместе со всеми и никогда ни в чём себе не отказывал.
Едва окончилась служба, Носач подал к храму автобус, все едут на праздничную трапезу. Батюшку Никодима сажают во главе стола, меня и Носача как почётных атаманов по правую и левую руку от него.
Став лицом на восток, батюшка читает молитву «перед вкушением пищи», крестит стол и разрешает всем приступить к обеду.
– Батюшка, а нельзя ли вам стаканчик наполнить вином? – заботливо обращаются к Никодиму окружающие.
– Отчего же нельзя… В сегодняшний праздник можно. Но лучше водочки… – кротко отвечает тот.
Никодим крестит свой стаканчик, тихо шепчет какую-то молитву и аккуратно выпивает свой первый тост «за Рождество Христово». Потом все пьют за батюшку Никодима, за атамана Станично-Луганского юрта, Носача, за меня – атамана Митякинского юрта, снова за Носача – председателя районного Совета, за всех казаков наших, за тех, кто готовил обед, и за всю во Христе братию.
Никодим по-прежнему кротко крестит свой стаканчик и, чтоб никого не обидеть, не пропускает ни единого тоста, но при этом оставаётся трезв и телом, и словом. Он, никого не перебивал, даже если собеседник нёс что-то не то, внимательно выслушивал его, всегда говорил по делу и лишь тогда, когда его хотели услышать. И когда мы едва уж держались на ногах, он, как ни в чём ни бывало, читал благодарственную молитву «после вкушения пищи».
– Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил нас земных Твоих благ… – легко и непринуждённо произносит он нараспев, и поклонившись всем, уходит твёрдой походкой.
– Неупиваемый батюшка, – говорил про него наш народ.
– Что-то в этом деле не так… – едва ворочая языком, сомневался Кудин. – Может, он перед трапезой хлебнёт какой-то микстуры, и тогда его ничем уж не свалишь…
– Ты, Кудин, главного не приметил, – возражает ему Носач. – Батюшка Никодим перед тем, как выпить, обязательно стаканчик свой перекрестит.
– И чего?..
– А того. Ты пьёшь её вместе со всеми чертями, вот они тебя и корёжат. А батюшка нечисть прогонит и пьёт, как водичку.
Кудин и Натаха
Если б не армия, то Кудин с Натахой поженились бы, но батя Кудина, Митрий, хлопнув по столу пятернёй, твёрдо сказал:
– Какой с тебя семьянин, когда ты в долгах?! Перво Родине долг отдай, а там уж жанись на своих натахах…