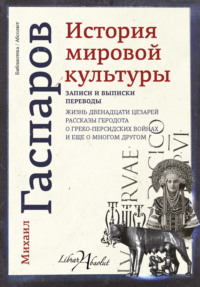Полная версия
Собрание сочинений в шести томах. Т. 3: Русская поэзия
1б. Второй период отбит от первого мертвой паузой: в 1822–1823 годах у Пушкина нет ни одного стихотворения, написанного 4-ст. хореем. Наоборот, со следующим, третьим периодом он сливается плавно, 1828–1830 годы могут считаться расплывчатой пограничной полосой.
Главная черта второго периода – раздвоение основной струи «легкой лирики». Стихотворения, продолжающие прямо ее тематику, обрастают приметами быта, становятся менее условны:
Здравствуй, Вульф, приятель мой, Приезжай ко мне зимой… В Троегорском до ночи, А в Михайловском до света… («Из письма к Вульфу», 1824);
Что же? будет ли вино?.. Рад мадере золотой… Сен-Пере бутылке длинной… («Послание к Л. Пушкину», 1824);
У Гальяни иль Кольони Закажи себе в Твери С пармезаном макарони Да яичницу свари… («Из письма к Соболевскому», 1826);
Подъезжая под Ижоры… Хоть вампиром именован Я в губернии Тверской… (1829);
Город пышный, город бедный… Ходит маленькая ножка, Вьется локон золотой… (1828).
А рядом с ними появляются стихотворения грустные, тревожные и медитативно-сентенциозные:
Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись… (1825, пока еще с оптимистической концовкой);
Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? (1828);
Снова тучи надо мною Собралися в тишине… («Предчувствие», 1828);
…Жизни мышья беготня, Что тревожишь ты меня… («Стихи, сочиненные ночью…», 1830);
«Все мое, – сказало злато, Все мое – сказал булат…» (1827–1836);
к этому же ряду можно отнести и разобранное Ю. М. Лотманом «Зорю бьют… из рук моих…». Эти настроения проникают даже в такое традиционно-любовное и подчеркнуто-песенное стихотворение, как «Талисман» (1827): «…От печальных чуждых стран… от преступленья, От сердечных новых ран…». До сих пор привычная радостно-оптимистическая семантика размера подкрепляла содержание пушкинских стихов, теперь она начинает их контрастно оттенять. Некоторые стихи приобретают амбивалентное звучание, могут ощущаться и как радостные, и как грустные: таковы перекликающиеся из начала и из конца этого периода
Птичка божия не знает Ни заботы, ни труда… («Цыганы», 1824)
и
…Завтра с первыми лучами Ваш исчезнет вольный след… («Цыганы», 1830).
Линией соприкосновения этих двух струй становятся стихотворения о зиме и дороге: с одной стороны, это реалии русской жизни, с другой – знаки мрачности и неуверенности. Ряд этих стихотворений тянется от «Зимнего вечера» и «Зимней дороги» (1825–1826) через письмо к Соболевскому и «Дорожные жалобы» (1826, 1829), до – уже в следующем периоде – «Бесов» и «Похоронной песни Иакинфа Маглановича» (1830, 1834). 4-ст. хореем у Пушкина написаны все стихотворения о дороге (кроме разве что VII главы «Евгения Онегина») и половина стихотворений о зиме:
Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя… («Зимний вечер»);
Мчатся тучи, вьются тучи, Невидимкою луна… Еду, еду в чистом поле… («Бесы»);
…По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит… («Зимняя дорога»);
Долго ль мне гулять на свете То в коляске, то верхом… («Дорожные жалобы»);
С богом, в дальнюю дорогу! Путь найдешь ты, слава богу… («Похоронная песня…»).
Более традиционная легкая поэзия в этом периоде усыхает до маленьких альбомных мадригалов («В отдалении от вас…», 1827). Эпиграмм становится все меньше («Что с тобой, скажи мне, братец…», «Нет ни в чем вам благодати…», «Там, где древний Кочерговский…», «Как сатирой безымянной…» и др.); заметим, что самая известная – «Лук звенит, стрела трепещет…» – в первом четверостишии, собственно, ничего эпиграмматического и не имеет. В следующем периоде и те, и другие совсем сходят на нет. Одинокий рецидив мадригалов – «Долго сих листов заветных…» (1832), одинокий рецидив эпиграмм – «На Дондукова» (1835), одинокий рецидив бытовых Михайловских стихотворений – «Если ехать вам случится…» (1835).
1в. Третий период начинается в 1828 году балладой «Утопленник» – это приметы русского быта переходят из лирики в эпос, приобретая при этом черты «простонародности», которой еще не было в «Бове» и «Царе Никите». За балладой следуют три большие сказки: «О царе Салтане», «О мертвой царевне…» и «О золотом петушке» (1831–1834) с придатками к ним: «Сват Иван, как пить мы станем…» и «Царь увидел пред собой…» (1833). Это значит, что национальная окраска 4-ст. хорея ощущается Пушкиным все сильнее – особенно на эпическом материале. (Из лирических набросков к этому ряду примыкают лишь «Стрекотунья-белобока…» и «В поле чистом серебрится…».) Начиная с 1828–1829 годов эпические произведения все больше теснят лирику в 4-ст. хорее и все более отчетливо несут национальную, т. е. экзотическую (для нейтральной традиции легкой поэзии) окраску, порой перекидываясь ею и в лирику. Таких национальных колоритов – не считая основного, русского, – можно различить пять.
Первый – восточный; первая проба – в библейской лирике 1825 года Пушкин экспериментирует почти на глазах у читателя: одно из подражаний «Песни песней» пишется ямбом («В крови горит огонь желанья…»), другое хореем:
Вертоград моей сестры, Вертоград уединенный; Чистый ключ у ней с горы Не бежит запечатленный…
Кульминация восточной темы – в стихах 1829 года, связанных с путешествием в Арзрум, причем в трех стихотворениях из четырех (четвертое – «Из Гафиза») восточная тема скрещивается с русской:
…Делибаш уже на пике, А казак без головы… («Делибаш»);
…Льют уже донские кони Арпачайскую струю… («Дон»);
Был и я среди донцов, Гнал и я османов шайку; В память битвы и шатров Я домой привез нагайку…
Поздний отголосок темы – в стихах 1835–1836 годов: «Подражание арабскому» («Отрок милый, отрок нежный…» – в скрещении с античным колоритом) и «От меня вечор Лейла…».
Восточные стилизации в русской поэзии не имели метрических предпочтений; у Пушкина они подсказаны античной и русской народной традицией. Как известно, поэма о Тазите тоже первоначально была начата 4-ст. хореем («Не для тайного совета, Не для битвы до рассвета, Не для встречи кунака…»). Заметим, однако, что в «Подражаниях Корану», где Восток у Пушкина предстает в наиболее чистом виде – без вина, без любви, без античных и русских ассоциаций, – поэт ни разу не пользуется 4-ст. хореем.
Второй колорит – испанский, с опорой на традицию романсного безрифменного 4-ст. хорея, введенную в России Карамзиным, Катениным и Жуковским. Первая проба в лирике – еще в 1825 году:
Там звезда зари взошла, Пышно роза процвела… («С португальского»);
в балладе – в 1829–1830 годах: это знаменитое «Жил на свете рыцарь бедный…» (впрочем, без прямых указаний на Испанию!) и «Пред испанкой благородной Двое рыцарей стоят…» (как бы сюжетная завязка без сюжета). Кульминация – в стихах о Родрике, «Чудный сон мне бог послал…» и
На Испанию родную Призвал мавров Юлиан… Мавры хлынули потоком На испанские брега…
(может быть, испанский колорит хорея подкрепляется здесь восточным).
Третий колорит – шотландский, сильно стушеванный; но все-таки в лирике Пушкина он появляется дважды, и оба раза в 4-ст. хорее: в балладе из Вальтера Скотта (с русифицированным «богатырем») и в песне Мери из Вильсона (без реалий, но тоже очень далекой от подлинника). В оригиналах, конечно, размер был иной – балладно-песенный дольник:
Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит: «…Ворон, где б нам отобедать? Как бы нам о том проведать?..»
Было время – процветала В мире наша сторона: В воскресение бывала Церковь божия полна…
Четвертый национальный колорит – славянский: польский в «Воеводе», южнославянский в «Бонапарте и черногорцах», «Вурдалаке» и «Коне». Все это – эпические мотивы; в лирику они переплескиваются в «Похоронной песне Иакинфа Маглановича» и в «Соловье». Появление этого колорита по смежности с привычным русским не вызывает никакого удивления:
Поздно ночью из похода Воротился воевода…«Черногорцы? что такое?» – Бонапарте вопросил…Что ты ржешь, мой конь ретивый, Что ты шею опустил…Наконец, пятый колорит – античный, с опорой на традицию анакреонтического безрифменного 4-ст. хорея, знакомую России с сумароковских времен. Первые пробы, еще окрашенные условной античностью раннего периода, – в переложении фантазии Парни «Прозерпина» (1824) и в оригинальной фантазии «Рифма, звучная подруга…» (1828). Первый перевод из Анакреона – «Кобылица молодая…» в том же 1828 году (с привнесением восточного мотива «дочь кавказского тавра»: в подлиннике кобылица – фракийская). Кульминация – в цикле переводов и подражаний 1832–1834 годов:
Пьяной горечью фалерна Чашу мне наполни, мальчик… («Мальчику», из Катулла);
Бог веселый винограда Позволяет нам три чаши Выпивать в пиру вечернем… (из Евбула, по Афинею);
Узнают коней ретивых По их выжженным таврам… («Из Анакреона»);
Поредели, побелели Кудри, честь главы моей… («Ода LVІ», из Анакреона);
Что же сухо в чаше дно? Наливай мне, мальчик резвый… («Ода LVІІ», из Анакреона).
Таким образом, в порядке исключения, все античные мотивы в 4-ст. хорее позднего Пушкина являются в виде лирических, а не эпических отрывков. Большинство поздних переводов связаны с темой пира – это не только отголосок ранней анакреонтики, это для Пушкина символ заката античного мира перед явлением христианства (ср. «Египетские ночи» и «Цезарь путешествовал…») – предмет раздумий Пушкина над логикой исторических переломов, как это показано Ю. М. Лотманом.
Мы видим: после 1828–1830 годов 4-ст. хорей для Пушкина становится носителем экзотики (русской простонародной – или иноземной), носителем «чужого голоса». Единичное исключение – «Пир Петра I» – по существу, тоже экзотика, историческая. Альбомная и эпиграммная традиции проявляют себя, как сказано, только одинокими всплесками; а что показательнее всего, тревожно-медитативные стихи, столь много обещавшие в «Предчувствии» и «Стихах… во время бессонницы», исчезают совершенно: они предельно субъективны, а 4-ст. хорей теперь для Пушкина – предельно объективный размер.
Такова эволюция пушкинского 4-ст. хорея. Было бы интересно проверить, нет ли подобных или противоположных тенденций – пусть ослабленных – и в других пушкинских размерах. Это потребовало бы работы слишком большого масштаба для нашей книги. Но мы попробовали другое: посмотреть на эволюцию 4-ст. хорея у современников Пушкина – трех старших поэтов, трех сверстников и трех младших. Результаты получились небезынтересные.
2. Батюшков. Все восемь стихотворений Батюшкова, написанных 4-ст. хореем, относятся к 1806–1815 годам (от «К Гнедичу» до «Вакханки»), все современны молодому Пушкину и все держатся эпикурейского набора тем легкой поэзии. Здесь и дружба:
Только дружба обещает Мне бессмертия венок… Мне оставить ли для славы Скромную стезю забавы?.. («К Гнедичу»);
и вино с любовью:
…Я уста, в которых тает Пурпуровый виноград, – Все в неистовой прельщает! В сердце льет огонь и яд! («Вакханка»);
и любовь без вина:
Помнишь ли, мой друг бесценный! Как с амурами тишком, Мраком ночи окруженный, Я к тебе прокрался в дом?.. («Ложный страх»);
и лень с любовью и вином (а для контраста – военные подвиги адресата):
…Мой челнок Любовь слепая Правит детскою рукой; Между тем как Лень, зевая, На корме сидит со мной… Вся судьба моя в стакане! Станем пить и воспевать… («К Петину»);
и довольство малым (через контраст – вечную тревогу временщика):
…Счастья шаткого любимец С нимфами забвенье пьет, Там же слезы сей счастливец От людей украдкой льет… («Счастливец»);
и грустная мимолетность этих земных радостей:
О, пока бесценна младость Не умчалася стрелой, Пей из чаши полной радость… Славь беспечность и любовь! («Элизий»; ср. «Привидение»).
За пределы этой традиционной тематики осторожный Батюшков не выходит ни разу.
От этого устойчивого метрико-тематического комплекса оказались возможны два пути дальнейшего развития: один из них наметил Жуковский, другой – Денис Давыдов.
3. Жуковский тоже начинал с эпикурейских песен: таковы в стихах 1801–1809 годов «Не прекрасна ли фиалка? Не прельщает ли собой?..», «Голубок уединенный, Что так невесел, уныл?..», «Счастлив тот, кому забавы…» и др. Даже в более поздних «романсах и песнях» порой слышны отголоски той же традиции – только, конечно, с приглушением мотивов радости и с усилением мотивов быстролетности («Вспомни, вспомни, друг мой милый, Как сей день приятен был!..»). Появляется 4-ст. хорей и в шуточных стихах не для печати: «О Воейков! Видно, нам Помышлять об исправленьи…», «Пред судилище Миноса Собралися для допроса…». Но главное направление работы Жуковского было иное.
Жуковский переводит наш размер к семантике более серьезной и высокой. Это он делает, перенеся опору с французской традиции на немецкую. В Германии 4-ст. хорей (по признаку песенности) стал ходовым размером протестантских духовных песен и в этом жанре привык к высоким темам. Вместе с ними он отсюда переходит в лирику штюрмеров и Шиллера, а далее, через переводы – к Жуковскому:
…Я смотрю – и холм веселый И поля омрачены; Для души осиротелой Нет цветущия весны… («Жалоба», из Шиллера);
Озарися, дол туманный; Расступися, мрак густой; Где найду исход желанный? Где воскресну я душой?.. («Желание», из Шиллера);
…Входит в сумрак твой Психея; Неприкованна к земле, Юной жизнью пламенея, Развила она криле… («Элизиум», из Маттисона);
(дальнейшие строки «…Видит Летою кропимы Очарованны брега…» отразились потом в «Прозерпине» Пушкина).
Любопытным ответвлением была у Жуковского серия аллегорических картинок с плаванием на жизненной ладье, «Путешественник» («Дней моих еще весною Отчий дом покинул я…») из Шиллера, затем оригинальные вариации: «Пловец» («Вихрем бедствия гонимый, Без кормила и весла…»), «Стансы» («…Нам погибели здесь нет, Правит челн наш Провиденье!»), «Жизнь: видение во сне» («…Правь ко пристани желанной За попутною звездой…») – параллельно и у Батюшкова является аллегорическая «Любовь в челноке».
Другой формой возвышения семантического ореола 4-ст. хорея были у Жуковского, конечно, баллады; возвышенные романсы и песни, с одной стороны, и баллады, с другой, стали двумя опорами для индивидуальной семантики 4-ст. хорея Жуковского 1808–1820 годов:
…О, Людмила, грех роптанье; Скорбь – Создателя посланье; Зла Создатель не творит; Мертвых стон не воскресит… («Людмила», с оглядкой на «русскую» семантику 4-ст. хорея);
…Спит гроза минувшей брани, Щит, и меч, и конь забыт; Облечен в пурпурны ткани С Поликсеною Пелид… («Кассандра», с сохранением шиллеровского размера);
Отуманилася Ида; Омрачился Илион; Спит во мраке стан Атрида; на равнине битвы сон… («Ахилл», с подражанием шиллеровскому размеру).
Двадцатые годы для Жуковского, как известно, – творческая пауза; а после них, в 1830-е годы, хореи у Жуковского – как и у Пушкина! – перестают быть субъективно-лирическими и становятся стилизациями: романсы исчезают, баллады остаются:
Пал Приамов град священный; Грудой пепла стал Пергам… («Торжество победителей», из Шиллера);
Снова гений жизни веет, Возвратилася весна… («Жалобы Цереры», из Шиллера);
Перед дверию Эдема Пери тихо слезы льет: Никогда не возвратиться Ей в утраченный Эдем!.. («Пери»);
появляются басня («Солнце и Борей»), сказка («Спящая царевна»), стилизация восточного:
В степь за мной последуй, царь! Трона там ты не найдешь, Но найдешь мою любовь… («Песнь бедуинки»);
стилизация испанского («Сид» из Гердера, «Алонзо» из Уланда):
Из далекой Палестины Возвратясь, певец Алонзо К замку Бальби приближался, Полон песней вдохновенных…;
стилизация собственных ранних стихов (ср. пушкинские переработки лицейских стихов для собрания стихотворений 1826 года):
Младость легкая порхает В свежем радости венке, И прекрасно перед нею Жизнь цветами убрана… («Тоска»);
Всем владеет обаянье! Все покорствует ему! Очарованным покровом Облачает мир оно… («Мечта»).
И, наконец, появляется то, чего у Пушкина не было, – стилизация русского XVIII века, «Русская песня на взятие Варшавы»:
Раздавайся, гром победы! Вспомним песню старины: Бились храбро наши деды; Бьются храбро их сыны… –
а отсюда потом – «Многи лета, многи лета, Православный русский царь…» и, с более сложным сочетанием традиций, «Бородинская годовщина» («Русский царь созвал дружины Для великой годовщины…» – и гимн, и «лирическое стихотворение» по образцу «Певца во стане…», и даже, от парной рифмовки, оттенок баллады-сказки). После этого в «К русскому великану» 1848 года («Мирно стой, утес наш твердый…») Жуковский передает эту «громо-победную» семантическую традицию Тютчеву.
4. Давыдов. Но в этом скрещении «эпикурейского» 4-ст. хорея с «боевым» 4-ст. хореем XVIII века Жуковский имел предшественника. Это был Денис Давыдов, уже в 1804 году прославившийся стихами:
Бурцов, ёра, забияка, Собутыльник дорогой! Ради бога и… арака Посети домишко мой!.. («Бурцову: призывание на пунш»);
В дымном поле, на биваке, У пылающих огней, В благодетельном араке Зрю спасителя людей… («Бурцову»).
Собственно, для такой контаминации нужно было сделать три вещи. Во-первых, гиперболизировать в центре прежней образной системы «вино» («водку», «арак» и т. д.). Во-вторых, оттеснить «любовь», заменив ее боевой «дружбой». (Это дается с трудом, рудименты любовной темы несколько раз возникают в Давыдовском хорее:
…Жизнь летит: не осрамися, Не проспи ее полет. Пей, люби да веселися! Вот мой дружеский совет… («Гусарский пир»);
Мы недавно от печали, Лиза, Я да Купидон По бокалу осушали И просили Мудрость вон… («Мудрость: анакреонтическая ода»);
целое стихотворение 1816 года «Ответ на вызов…» посвящено отводу любовной темы – «…Ах, где есть любовь прямая, Там стихи не говорят…», – а «Элегия IV» представляет собой попытку скрестить темы: герой идет на бой не только за отечество, но и за возлюбленную.) В-третьих, наконец, требовалось оттеснить «лень», заменив ее «службой»: здесь и пригодилась Давыдову опора на солдатские хореи XVIII века, отсюда –
Я люблю кровавый бой! Я рожден для службы царской!.. Сабля, водка, конь гусарский, С вами век мне золотой!.. За тебя на черта рад, Наша матушка Россия!.. («Песня»).
Какие нечаянные последствия имела эта давыдовская семантическая реформа 1804–1817 годов (всего около десятка стихотворений!) – мы увидим дальше. Заметим лишь, что если среди 4-ст. хореев Пушкина есть похожие на Батюшкова и на Жуковского, то на Давыдова нет (кроме разве пародического «…то смертельно пьяны. То мертвецки влюблены»); и послание к Давыдову в 1836 году Пушкин пишет ямбом.
5. Дельвиг. Среди сверстников Пушкина Дельвиг в своих 18 стихотворениях, написанных 4-ст. хореем, предпочитает держаться в рамках традиционной эпикурейской поэзии: «Други, пусть года несутся, О годах не нам тужить!..», «Друг, поверь, что я открою: Время с крыльями! – лови!..», «…И за мрачными брегами Встретясь с милыми тенями, Тень аи себе нальем». Иногда она сопровождается усиленной античной окраской:
Либер, Либер! я шатаюсь, Все вертится предо мной… («Дифирамб», 1816);
Вечер тоже отдан мною Музам, Вакху и друзьям… (стихотворение с мрачным началом «Смерть, души успокоенье…»);
Мальчик, солнце встретить должно С торжеством в конце пиров! Принеси же осторожно… («К мальчику», не без влияния на будущий пушкинский перевод из Катулла).
Баллад в его зрелом творчестве нет (только лицейский «Поляк»), зато есть «русские песни» и просто «песни»:
Соловей мой, соловей, Голосистый соловей! Ты куда, куда летишь, Где всю ночку пропоешь?..
И я выйду ль на крылечко, На крылечко погулять, И я стану ль у колечка О любезном горевать…
Как ни больно сердца муки Схоронять в груди своей, Но больнее в час разлуки Не прижать родную к ней…
Наяву и в сладком сне Все мечтаетесь вы мне, Кудри, кудри шелковые, Юных персей красота… (не без влияния на позднейшие знаменитые стихи Бенедиктова).
Особый интерес представляет «Разговор с Гением» – это как бы та же эпикурейская поэзия, но тема мимолетности и гибельности земных наслаждений из оттеняющей становится главной, и легкая поэзия превращается в трагическую:
…Вам страдать ли боле нас? Вы незнанием блаженны, Часто бездна видит вас На краю – а напененный С криком радости фиал Обегает круг веселый; Часто Гений ваш рыдал, А коварный сын Семелы, С Купидоном согласясь, Вел, наставленный судьбою, Вас, играя и смеясь, К мрачной гибели толпою…
6. Баратынский. Еще дальше по этому пути сублимации легкой поэзии пошел Баратынский. Свою преемственную связь с Дельвигом он, по-видимому, ощущал: строфа его знаменитого «Недоноска» с нестандартной последовательностью окончаний (МЖМЖ вместо обычного ЖМЖМ) заимствована из «Разговора с Гением»:
…Изнывающий тоской, Я мечусь в полях небесных, Надо мной и подо мной Беспредельных – скорби тесных!..
«Недоносок» – позднее стихотворение; к этому трагизму Баратынский шел постепенно. В первом его сборнике 4-ст. хореи держатся в традиционном кругу эпикурейства, альбома, эпиграммы:
…Прочь с нещадным утешеньем! Я минувшее люблю И вовек утех забвеньем Мук забвенья не куплю («Лета»);
Выдь, дохни нам упоеньем, Соименница зари; Всех румяным появленьем Оживи и озари!.. («Авроре Шернваль»);
Окогченная летунья, Эпиграмма хохотунья, Эпиграмма егоза… («Эпиграмма»).
В своде 1835 года программное стихотворение «Наслаждайтесь: все проходит…» от этого эпикурейского зачина уже переходит к упоминанию «богов праведных» в конце, а «Своенравное прозванье…» от предельно бытового предмета, домашнего прозвища, – к «тому миру» без «здешних чувственных примет». Здесь же напечатано и «Чудный град порой сольется…», явно ориентированное на аллегорическую стилистику Жуковского.
В «Сумерках» «Недоносок» с его трагизмом, выдержанным от начала до конца, остается уникален. Но остальные 4-ст. хореи (к которым Баратынский обращается все чаще) строятся по уже наметившейся схеме: от нейтрального зачина к возвышенной концовке. «Бокал» начинается эпикурейски: «Полный влагой искрометной, Зашипел ты, мой бокал!..» – но тотчас сообщается: «…Сластолюбец вольнодумный, Я сегодня пью один…», а концовка возвышается до
…И один я пью отныне! Не в людском шуму пророк – В немотствующей пустыне Обретает свет высок! Не в бесплодном развлеченьи Общежительных страстей – В одиноком упоеньи Мгла падет с его очей!
Точно таково же и по структуре, и по мысли стихотворение «Что за звуки? мимоходом Ты поешь перед народом, Старец нищий и слепой!..» – кончающееся: «…Опрокинь же свой треножник! Ты избранник, не художник! Попеченья гений твой Да отложит в здешнем мире: Там, быть может, в горнем клире Звучен будет голос твой!» Изолированным рецидивом античной радости (с Аполлоном, «пиитом» и Харитами) остается 12-стишие «Здравствуй, отрок сладкогласный!..». Зато полностью отрываются от легкой поэзии и переносят опору на сентенциозную традицию немецкой аллегорики у Жуковского «Предрассудок…» и «Ахилл»:
…Воздержи младую силу! Дней его не возмущай, Но пристойную могилу, Как уснет он, предку дай.
…И одной пятой своею Невредим ты, если ею На живую веру стал!
7. Вяземский. Третий современник Пушкина, Вяземский, отталкивается от легкой традиции иным способом – через песню, но не «народную» (как Дельвиг), а литературную, «куплетную». Ранние 4-ст. хореи Вяземского – это, как правило, именно комические куплеты: «Стол и постеля», «Воли не давай рукам», застольная «Две луны» и проч., вплоть до самой знаменитой – «Русского бога»:
…Бог метелей, бог ухабов, Бог мучительных дорог, Станций – тараканьих штабов, Вот он, вот он, русский бог. …Бог бродяжных иноземцев, К нам зашедших за порог, Бог в особенности немцев, Вот он, вот он, русский бог.
Отталкиваясь от песни, Вяземский иронически придает ей утрированный отстраняющийся пафос в стиле Дениса Давыдова («Эй да служба! Эй да дядя! Распотешил старина! На тебя, гусар мой, глядя, Сердце вспыхнуло до дна…», «…Здравствуй, русская молодка, Раскрасавица-душа, Белоснежная лебедка, Здравствуй, матушка зима!..»). От себя же он привносит в песню меланхолические мотивы:
…И в бесчувственности праздной, Между бдения и сна, В глубь тоски однообразной Мысль моя погружена… («Дорожная дума»);
Сердца томная забота, Безыменная печаль! Я невольно жду чего-то, Мне чего-то смутно жаль… («Хандра (песня)»).
От застольной песни за здравие приходят к Вяземскому 4-ст. хореи обоих «Поминок», 1854 и 1864 годов:
…В их живой поток невольно Окунусь я глубоко – Сладко мне, свежо и больно, Сердцу тяжко и легко.
Независимо от песни в 4-ст. хореи Вяземского входят разве что описательные стихи: «Петербургская ночь», «Ночь в Ревеле», «Степью», «Венеция», «Чуден блеск живой картины…», «Ни движенья нет, ни шуму…» – это явная экспансия тематики, характерной для его позднего 4-ст. ямба. Однако и здесь можно заподозрить связь с песней – точнее, с романсом – в самом начале этого ряда: «Петербургская ночь» с ее припевами («Дышит счастьем, Сладострастьем Упоительная ночь! Ночь немая. Голубая, Неба северного дочь!..») сочинена была явно под влиянием знаменитого романса И. И. Козлова «Венецианская ночь» (1825): «Ночь весенняя дышала Светло-южною красой; Тихо Брента протекала, Серебримая луной…» и т. д. (у Вяземского тоже «Весел мерные удары Раздаются на реке И созвучьями гитары Замирают вдалеке», как у гондол Козлова).