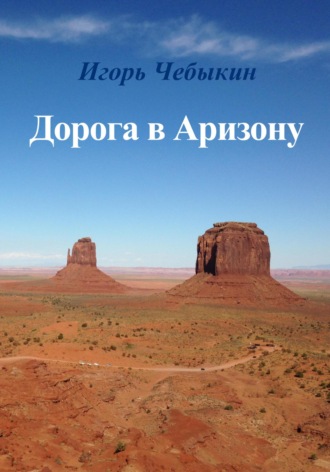 полная версия
полная версияПолная версия
Дорога в Аризону
Муж Елены Геннадьевны, капитан, начальник детской комнаты милиции, разительно контрастировал с супругой – сухощавый, подтянутый, тонкий. Что, впрочем, не мешало пацанам бояться его, так же, как и жену. Пацаны шутили, что у капитана с женой семейное предприятие с педагогическим уклоном: нерадивый школяр сначала попадает в крепкие руки жены и, если не поддается перековке, то отправляется прямиком в руки мужа. Капитан Милогрубов был грозой городской шпаны. Нескольких особо хулиганистых и безнадежных юнцов он уже определил в колонию для несовершеннолетних. При этом, по возвращении юных правонарушителей из острогов, всякий раз активно устраивал их судьбу на воле: подыскивал нормальную работу, добывал абонементы в спортзал, брал с собой на рыбалку, водил к себе домой на семейные обеды, одним словом, делал все для того, чтобы преступные рецидивы не повторялись, и бывший каторжанин стал приемлемым членом общества.
"Парни, а ведь, если вдуматься, этот мужик – счастливейший из смертных, – говорил Толик, наблюдая из окна за тем, как капитан Милогрубов на вишневой "ниве" заезжает за супругой в школу. – Он единолично обладает таким богатством, как тело Елены Прекрасной. И может наслаждаться им хоть каждую ночь – кататься по нему, как по лужайке, и прыгать, как на батуте". "А ты хотел бы оказаться на его месте? – спрашивал Макс Дыба. – Хотя бы один разок? Что бы отдал за это?". – "Ничего. Не хотел бы я оказаться на его месте. Для меня это, конечно, была бы волшебная ночь, но первая и последняя в моей столь многообещающей жизни. На рассвете я бы обессилел и умер от физического истощения. И Легенда придавила бы меня своим телом, как могильной плитой". "Ну, ты сказал – как в лужу пернул! – смеялся Дыба. – На рассвете… Хвастун ты, Толян! До рассвета ты бы не дотянул. От силы на полчасика тебя бы хватило!".
Обращаясь к ученикам на линейке, Елена Геннадьевна называла их "отроками", что породило скороговорку "Отрок, будь к учебе строг, не слушай рок и в срок учи урок!", ставшую неофициальным школьным девизом. Помимо понедельников директриса проводила линейки и перед такими важными в жизни школьников событиями, как праздники или каникулы либо, во внештатном режиме, – в случае какого-нибудь ЧП. Не было сомнений, что на сей раз поводом для сбора учащихся стала именно внештатная ситуация, виновником которой был он – Тэтэ. Ничего путного в свое оправдание за то недолгое время, что ему оставалось жить на белом свете, он, естественно, не придумал; ночь провел, беспокойно ворочаясь на кровати, как принцесса на горошине, и на следующее утро явился на гильотинирование с серым лицом, которому тщетно пытался придать спокойное выражение. "Толян, ты как?", – спросил измученный страхом Венька. "Сойдет, – шепнул в ответ Тэтэ. – Прикинусь дурачком, стану твердить, что какое-то помрачение на меня нашло, что осознал и раскаиваюсь, а там будь что будет". При появлении Легенды он не смог заставить себя посмотреть ей в глаза и прочесть в них свой приговор, воззрившись вместо этого на елочный паркетный узор. "Отроки мои, – начала директриса своим ровным гудящим басом, которому мог бы поаплодировать Шаляпин, – мы проучились уже почти месяц в новом учебном году, но, по-моему, не все из вас это заметили. (Вот сейчас она вытащит Тэтэ на лобное место. Твой последний выход, шут!). У меня такое ощущение, что многие из вас мыслями еще на каникулах. Вместо того, чтобы закатать рукава (…они пытаются закатать юбки учителям. Вот сейчас, сейчас…) и взяться за работу, они продолжают валять дурака и резвиться, словно в пионерлагере. Таким потерявшимся во времени и пространстве гражданам я хочу сообщить, что на календаре у нас не июль-месяц, а конец сентября, а это значит, что думать нужно только об учебе. Времени на раскачку у нас с вами нет – ни одного дня. Четверть и полугодие пролетят очень быстро". Директриса вещала, призывая собравшихся выбросить из головы ненужные, отвлекающие от занятий мысли, чтобы потом горько не пожалеть об упущенном времени и не стать жертвами суровых, но справедливых штрафных санкций с ее, директорской, стороны, и закончила объявлением о назначенном на послезавтра субботнике по уборке территории школы. По шеренгам прошелестел еле слышный вздох сожаления, тут же придушенный жандармствующими классными руководителями. Фамилия Толика так и не была озвучена. "Вопросы есть, отроки?", – поинтересовалась Легенда. (Какие вопросы, родная?!. Давай отпускай народ с Богом, страсть как хочется учиться и готовиться к субботнику!..) "Вопросов нет. Прекрасно. Тогда за работу!". Толик, вспотевший и счастливый, чувствуя себя пациентом, чья температура с 39-ти градусов вмиг упала до 36-ти, повернулся было к испытывающему такое же неземное облегчение Веньке, как вдруг услышал над ухом иерихонский глас директрисы: "Топчин, пошли со мной!".
Кабинет Легенды находился на первом этаже. К нему вел угрюмый и узкий (двое с трудом могли разминуться) проход, освещаемый люминесцентной колбасой под потолком. На языке школьников этот бункероподобный тоннель назывался "коридором смерти", а кабинет директора – "смертью в конце тоннеля". Хотя в самом кабинете было светло и уютно, пахло чаем и духами "Дзинтарс". К похожему на комод директорскому столу перпендикуляром был приставлен овальный стол, за которым рыцарями овального стола рассаживались учителя во время совещаний. У окна в затуманенном стоячем саркофаге из оргстекла высилось знамя школы. "Садись, Топчин", – сказала Легенда, притащив Толика в свою берлогу. Тэтэ, у которого несколько минут назад перед носом помахали царским указом о помиловании, а потом отменили его, обреченно опустился на стул. Легенда достала из ящика стола злосчастную прищепку. "Твое?". – "Мое…". – "Где взял?". – "Сам сделал". – "Для чего?". – "Так, пошутить…Помрачение какое-то на меня нашло, Елена Геннадьевна… Я осознаю всю глупость своего поступка и раскаиваюсь. Честное слово". – "Хор-ро-ош, ничего не скажешь". (Легенда поправила янтарный кулон, почти сгинувший в расщелине между грудями-валунами. Толик почему-то вспомнил, как в далеком сопливом детстве считал, что сердце у женщин находится не в грудной клетке, как у мужчин, а в левой груди, пока Славик Ветлугин во втором классе не просветил его. "Ты дурак, что ли? – прямо спросил тогда Славик. – Им ведь грудь отрезать могут на операции. Так вместе с сердцем, что ли?"). "Не ожидала от тебя, Топчин, – Легенда сотрясала воздух в кабинете голосом, грудями и всем своим неимоверным туловом. – Я думала, ты взрослый разумный человек, родители у тебя такие солидные люди, ответственной работой заняты, а сын в школе дурошлепством мается!.. В игрушки еще не наигрался, деточка? Еще раз так поиграешь – вылетишь и из школы, и из комсомола, уяснил?". – "Да. Извините меня, пожалуйста, Елена Геннадьевна". – "Извинишься перед Тамарой Кирилловной. Только обязательно, Топчин: я у нее спрошу, извинился ты или нет. Завтра в 11 часов придешь ко мне с кем-то из родителей, а сейчас отправляйся на урок".
Глава 17
Родители Тэтэ по-прежнему жили в обстановке напряженного молчания, которое все пуще давило на мозги и нервы. Отец все так же являлся домой, как пушкинский Герман, после полуночи и исчезал по выходным. Отчуждение между ним и матерью нарастало. Да и с Толиком отец за весь этот месяц общался лишь раз – 2 сентября, когда он вернулся с работы, вопреки сложившейся традиции, не слишком поздно и с не слишком вороватыми глазами. "Как дела?", – спросил отец Толика, проводящего время в обществе "Королевы Марго". – "Как всегда, пап: хуже, чем хотелось бы, лучше, чем могло бы. Шутка! Все нормально". – "Вам в школе про самолет корейский ничего не говорили?". – "Нет… А в чем дело?". – "По телевизору, радио ничего не слышал?". – "Нет… А что случилось?" (Эти два дня он вообще ничего не видел и не слышал, переживая свое первосентябрьское фиаско сначала в школе, а потом – в парке аттракционов). – "Наш истребитель вчера на Дальнем Востоке сбил южнокорейский пассажирский самолет. "Боинг". Он нарушил советское воздушное пространство и не отвечал на запросы". – "Пассажирский?.. То есть, там внутри пассажиры были?". – "Да, и много". – "И…что?.. Все погибли?". – "Не знаю. Наверное. Но ты же, понимаешь, сын: иностранный самолет внезапно отклоняется от курса, нарушает воздушную границу, причем – в районе, где находятся наши стратегические объекты, на запросы не отвечает, на предупредительные очереди в воздух и требования сесть на наш аэродром не реагирует … Что наши должны были подумать? Ты же понимаешь, что это могла быть диверсия: под видом пассажирского самолета могли запустить самолет-разведчик. Наши его, кстати, за разведчика и приняли: американцы в том районе постоянно отираются. Или того хуже могло быть – бомбардировщик с какой-нибудь ракетой на борту. Шарахнул бы по наземным ядерным объектам и ушел к себе на базу. Так что, наши сделали все правильно. Другого выхода не было. Имей в виду, если кто-то вдруг что-нибудь другое болтать станет". – "Ну, да…конечно, ты прав, пап. Я все понял".
С тех пор они с отцом почти не разговаривали, ограничиваясь спорадическими "Привет!" – "Пока!", к чему Тэтэ, сам того не замечая, начал привыкать. Однако на сей раз нелицеприятного разговора было не избежать. Толик попытался уговорить деда пойти с ним к директрисе, но дед, всецело поглощенный новой идеей – возведением в городе масштабного памятника героям битвы за Москву, отказался закрыть внука своим орденоносным телом: "Нет, Толик, завтра в 11 никак не смогу. В это время я должен быть в горисполкоме".
Пришлось идти с повинной к матери. "Что ты там натворил?", – спросила мать. – "Да так, ничего особенного… Баловался на уроке". – "Что значит "баловался"?". – "Детство в голову ударило. Тебе директор все расскажет, мам". – "А ты сам рассказать не хочешь?". – "Да нечего рассказывать, ну, правда, ерунда какая-то…". – "Да?.. Посмотрим, что за ерунда. Из-за тебя буду завтра у начальницы отделения отпрашиваться, а мне перед ней лишний раз унижаться не хочется".
Однако подлинное унижение ждало мать в кабинете директора школы. После долгого и нудного словесного препарирования Толика, который сидел перед очами Легенды рядом с матерью и о котором говорили, главным образом, в третьем лице ("Я надеюсь, Светлана Николаевна, вы понимаете мою озабоченность: все-таки у него выпускной год на носу". – "Безусловно, понимаю, Елена Геннадьевна, и очень признательна вам за то, что вы своевременно ставите меня в известность о его фокусах"), они, наконец, вырвались из директорских застенков. Мать, удостоверившись, что их никто не видит, дала сыну несильный подзатыльник: "Вечером поговорим!".
Вечером никаких разговоров не было: мать отхлестала сына яростным криком, срывая долго копившееся раздражение и обиду на отца, понимая это и чувствуя в глубине души, что не совсем права. В качестве наказания она определила Толику запрет на прогулки и посещения драмкружка в течение двух недель. "Мам, ну, а драмкружок-то здесь причем?..", – возроптал он. "Без "мам"! – отрезала мать. – Я ничего не имею против драмкружка, как и против твоих прогулок во дворе. Но ты наказан! Две недели посидишь дома, уроками займешься. Я лично каждый вечер проверять буду!".
Отец, которому мать днем позвонила на работу и, видимо, нарушила его вечерние амурные планы, лишь мрачно спросил сына: "Ну, и к чему ты все это затеял?". – "Так, пошутить решил… Глупая затея, согласен". – "Еще раз так пошутишь, я возьму палку и все ребра тебе переломаю". В реальность отцовской угрозы Тэтэ не поверил: родители никогда не били его. Но лаконичность и угрюмый тон отца, с которым они всегда говорили по-товарищески спокойно и дружелюбно, произвели на него гнетущее впечатление.
Подсластил пилюлю родительского негодования дед. "Перед барышней какой-нибудь отличиться хотел?" – догадался он, оставшись с внуком наедине в их комнате. Вилять и отнекиваться было бесполезно. "Да", – признал Толик. – "Ну, и как? Оценила?". – "Не-а". – "Не падай духом, Толик. Оценит. Обязательно оценит. Но, конечно, не такие глупости, как та, что ты отчебучил. Глупостями девушку не завоюешь. Глупыми поступками девушку, наоборот, лишь оттолкнуть можно. Хорошие девушки ценят серьезных и умных парней". В женском вопросе дед и Генрих Пуповицкий явно стояли на разных философских позициях.
Пацанам в школе, забросавшим Толика взволнованными вопросами о визитах к директору, он бодро отвечал: "Вроде пронесло!". Он не знал, что директриса подумывала пропесочить его еще и на общешкольном комсомольском собрании и для вящей назидательности объявить ему выговор с занесением в учетную карточку члена ВЛКСМ. Однако собирать всех комсомольцев школы в актовом зале и мусолить тему прищепки, задранного подола женского платья… Точнее, подола, который едва не был задран… Могла возникнуть чересчур двусмысленная и щекотливая ситуация, абсолютно не нужная подростковым умам и душам. Легенда чуяла это своим многоопытным преподавательским нутром и потому решила на сей раз обойтись без показательной комсомольской порки.
Впрочем, и одним лишь вызовом родителей в школу приговор Толику не исчерпывался. Последнюю педагогическую розгу на его спину опустила Таисия Борисовна на классном часе. Классный час был неизменной отрыжкой каждого понедельника, превращаясь, по сути, в дополнительный урок по окончании всех уроков в этот день. Школьники прекрасно понимали значение расхожего выражения "Понедельник – день тяжелый". Лично для них каждый понедельник был отягощен двумя гирьками. Гирькой поменьше была 15-минутная политинформация перед первым уроком, из-за которой в школу нужно было приходить на четверть часа раньше. Ответственный за политинформацию в этот день, изучив предварительно свежие статьи "Правды" и "Известий", докладывал потрясенной аудитории о новых происках стервятников империализма и манифестациях измученных рабскими условиями труда шахтеров и докеров в несчастных капиталистических странах. Гирькой побольше был пресловутый классный час, на котором классная руководительница в увлекательном стиле "тары-бары" (они же – "ля-ля-тополя") обсуждала насущные вопросы школьной тактики и стратегии со своим учебным взводом. Лишь тем и хороши были эти классные часы, что на них не нужно было отвечать домашнее задание. Хотя к ответу учеников все же призывали. Пришлось отвечать за свои прегрешения и Тэтэ. Шалость на уроке литературы стоила ему, как возвестила Тася на классном часе, недели каторжных работ в качестве единоличного дежурного по классу. Бездушное решение, за которое Тасе, безусловно, пришлось бы отвечать перед своей совестью, если бы она у нее имелась… Дежурные ведь не только рапортовали учителям об отсутствующих по болезни учениках, не только следили за опрятностью доски и наличием мела перед началом каждого урока: по окончании занятий они ретиво, дабы успеть к приходу учащихся во вторую смену, наводили порядок в кабинете, закрепленном за их классом, – мели пол, мыли доску и подоконники, поливали цветы в горшках ключевой водой из туалета. Обычно мальчишки, считая уборку делом нечистым, унизительным и бабским, по-хоккейному гоняли шваброй по паркету скомканную бумажку, пока девочки, громко возмущаясь и протестуя всем своим девичьим естеством против мужской наглости и лени, возвращали кабинету первозданную стерильность. Толику в его ситуации рассчитывать на соседку по парте Бряхину не приходилось. Непосильное ярмо дежурства по классу, в сравнении с коим рабский труд шахтеров и докеров в капстранах выглядел сносной работенкой, всю учебную неделю он должен был влачить один. Но и это было еще не все. Злопамятная Тася, припомнив Тэтэ его опоздание на политинформацию на прошлой неделе, обязала его проводить политинформации в течение целого месяца – четыре понедельника подряд! "Таисия Борисовна!..", – взмолился возмущенный неутихающим произволом классной Толик. – "Все, все, Топчин! Закрыли тему! Ты у нас любишь болтать всякую ерунду, вот и будешь болтать ту ерунду, которую нужно! То есть… я хотела сказать, будешь рассказывать классу о важных событиях в стране и мире". – "Почту за честь! Но, Таисия Борисовна, я все-таки хотел бы объясниться. Да, я опоздал на прошлую политинформацию, склоняю покаянную главу, но это было мое единственное опоздание!". – "В этом учебном году – единственное, Топчин. Пока единственное". – "Оно и останется единственным, клянусь своим подорванным здоровьем!". – "Я буду очень рада. Все! Закончили этот разговор, Топчин!". – "Конча…, извините, заканчиваю, Таисия Борисовна! Я только хотел еще сказать, что мое опоздание на политинформацию, каким бы гнусным и противозаконным оно ни было, все же не делает меня политически безграмотным членом общества. Потому что я знаю главное, что должен знать каждый советский школьник и вообще советский человек. Я знаю, почему коммунистическая доктрина в итоге всенепременно одолеет капиталистическую". – "И… почему же?..". – "А вы разве не знаете? Хм, странно… Ну, что ж, я готов вкратце изложить. Вы позволите?". Тэтэ прошагал к доске, повернулся к предвкушающему потеху классу, пасторски сложил перед собой ладони (этот жест он подсмотрел у артистов на творческих вечерах в Доме культуры) и, откашлявшись, заговорил: "Итак, чего хотят коммунисты? Чего хотят советские люди, строящие коммунизм? Чтобы не было богатых. Потому что под словом "богатство" мы подразумеваем не материальные ценности, а нечто иное, неизмеримо более ценное. Запад – наш антипод, следовательно, он хочет, чтобы не было бедных. Главная цель любого омерзительного в своей меркантильности буржуа – стать богатым, заполучить любыми средствами кучу денег, чтобы не работать, а целыми днями валяться на палубе яхты, пить виски и курить "Кэмел". В этом заключается их заветная, примитивная и бездуховная мечта. Допустим – я подчеркиваю, допустим – эта мечта осуществилась. Бедных не осталось, кругом – одни богачи. А что это значит? А это значит, что никто не работает. Зачем работать, если все и так богаты? Иссохшая рука бедности не тащит людей каждое утро на заводы и фабрики, на поля и плантации, на панель и на паперть. Потому что бедности нет, она побеждена, как чума. А если никто не работает, значит, в обществе нет товаров, одежды, еды – их просто некому производить. При этом, у каждого индивида есть собственная куча денег, но что с ней делать, он не знает – купить на эти деньги ничего нельзя, ибо, напоминаю, ничего нет, так как никто не работает и не хочет работать. И даже в качестве туалетной бумаги эти деньги использовать нельзя, ибо кушать нечего и, следовательно, нет повода ходить в туалет. Нонсенс! В результате, люди мрут от голода, вшивеют, дичают и дружно маршируют обратно в первобытнообщинный строй и – далее со всеми остановками, превращаясь сначала в обезьян, а потом – в беспозвоночных, согласно теории эволюции Дарвина. А перед нами, людьми, строящими коммунизм, такой проблемы – "Куда девать деньги" – не стоит. Мы стремимся к тому, чтобы денег вообще не было. В итоге, нас ждет коммунизм, а их – убогая жизнь в виде амеб и инфузорий в мировом океане!". Тэтэ торжествующе уставился на Тасю. Одноклассники, очарованные короткой, энергичной и блестящей речью, хихикали, прикрывая рты руками. Тася озадаченно молчала. Она понимала, что Топчин опять скоморошничает, говорит что-то не то, но что именно "не то" он говорит, она не понимала. Не могла понять, в чем подвох, и не могла поэтому осадить болтливого ерника. Не станешь же, в самом деле, ругать школьника только за то, что он заявляет о неизбежной победе коммунизма… "Несколько упрощенная теория, но вывод правильный, – выдавила, наконец, классная. – Садись, Топчин, спасибо. И угомонись уже: тебя сегодня слишком много. Так, у меня объявление: в следующую субботу, если погода будет хорошей, мы идем в поход!".
Глава 18
Ранняя осень и поздняя весна традиционно были временем школьных походов в лес. И только летние каникулы были чудеснее и желаннее этих походов. Безбрежные подмосковные леса, густые и пышные, соболиными мехами укутывали города и поселки, пряча и скрашивая изъяны неказистых, закопченных фабрично-заводским дымом городков и поселков. Толик с его чуткой поэтической натурой обожал осенние вылазки в лес в ту пору, когда древесные кроны превращаются в одну сплошную божью палитру, роняя наземь золотые и бронзовые капли, воздух становится прохладным и прозрачным, а небесное чело все чаще хмурится при мысли о неотвратимой и скорой зиме. В такую погоду особенно приятно греться в лесу у костра, слушая треск пылающих веток и трескотню болтушек-одноклассниц, а вечером возвращаться в родные благоустроенные квартиры, к ваннам с горячей водой и теплым кроватям. Что сравнится по красоте и тихому спокойствию с русским лесом, вновь переживающим тот дивный отрезок своей жизни, что называется золотой осенью? Тропические острова с бирюзовыми бухтами и мучнистым песком? Бесконечные скандинавские фьорды, в которых замерла не вода, а само время? Альпийские луга, напоенные ароматом трав и цветов? Снежные зубцы Гималаев в лучах заходящего солнца? Курчавые оливковые рощицы, которые тискает и щиплет нахальный каталонский ветерок? Нет. Все они восхитительны, но только златоосенний русский лес предстает перед очарованным странником как абсолют вселенской гармонии и покоя, только он являет собой тот божественный алтарь, на котором во исполнение предначертанных законов бытия природа приносится в жертву ради своего грядущего возрождения и расцвета. Деревья в осеннем лесу похожи на угасающие свечи, в ветвях беззвучными молниями мелькают белки, дятел пытается достучаться до соснового сердца, ему отвечает стук колес далекой электрички, голоса разносятся далеко окрест, упруго отталкиваясь от стволов, охапка прелых листьев в нескольких шагах от тебя вдруг вздыбливается, под ней копошится кто-то невидимый и таинственный, девчонки визжат…
И вот найдено подходящее место для стоянки. На земле расстилаются старые задубевшие кухонные клеенки, на них из рюкзаков вываливается вся захваченная из дома провизия, которую можно съесть немедля: мятые бутерброды с копченой колбасой, рыхлые картофелины, вареные яйца с синюшными пятнами на боках, серебристые слитки плавленых сырков, тускло сияющие консервные банки со шпротами и бычками в томатном соусе, куриные ноги и крылья, букетики зеленого лука и укропа, спичечные коробки с солью, печенье, драгоценные обломки халвы, яблоки. Осторожно, как боеприпасы, выкладываются бутылки лимонада "Буратино" и термосы с обжигающим сладким чаем. Венька и вовсе достает из безразмерного вещмешка нечто, похожее на завернутую в детские рубашонки бомбу, на поверку оказавшейся трехлитровой банкой березового сока. (И не лень же было толстяку переть на себе такую тяжесть!..). Кто-то ворчит, кляня раздавленный некстати помидор, окропивший зернистым соком внутренности рюкзака. Но на брюзгу никто не обращает внимания: проголодавшиеся на свежем воздухе юные туристы синхронно сметают продукты с клеенчатой скатерти-самобранки. Слышно только, как работают жернова челюстей, изредка прерываясь на реплики вроде "Редисочку подкинь мне! И соль!". Потом, чуть позже, путешественники будут варить на костре кулеш в закопченном цинковом ведре, жарить нанизанные на прутики сардельки и ломтики хлеба, печь картошку на углях под бренчанье гитары и песни из "Трех мушкетеров". Это все будет потом, сейчас же главное – утолить пришедший в лесу (или из лесу) волчий аппетит.
Кроме Таси в походы с классом всегда ходил Костя Княжич. Иногда он брал с собой жену, застенчивую розовощекую красавицу с литыми и тяжелыми, будто цепи, косами, и дочек-близняшек. Малышки тут же становились добычей девчонок, которые всю дорогу играли с ними, как с куклами, учили варить суп, возились, целовали, тискали, кружили, схватив близняшек за тонкие ручонки. Обязанностью пацанов были сбор хвороста и разведение костра. За хворостом пошли одной большой толпой. Мирно почивавший доселе лес наполнился криками и оглушительным хрустом сухих веток, как будто сквозь чащу ломилось стадо обезумевших лосей. Славик Ветлугин перочинным ножом увековечивал собственное имя на теле безропотного вяза. Высунув от усердия кончик языка, Славик уже заканчивал трудиться над выпяченным брюхом буквы В, когда услышал за спиной негодующий возглас Кости: "Ветлугин, что ты делаешь?! У тебя совесть есть?.. Или ты ее с собой в поход не взял?". "Константин Андреевич, он хотел написать "Слава КПСС!", – Толик попытался придти на помощь застигнутому на месте преступления однокласснику. "Не смешно, Топчин!.. Ну, вот, взял, изуродовал дерево… Зачем, Ветлугин?", – ребята никогда не видели географа таким рассерженным. "Константин Андреевич, но… это всего лишь дерево, – пожал плечами Славик. – Вон их тут сколько…". – "И каждое из них – великая ценность! Я не буду тебе напоминать прописные истины о том, что деревья – это кислород, которым мы дышим, это бумага книг, которые мы читаем, это стулья и столы, на которых мы сидим и за которыми работаем, это дрова, которыми мы отапливаем дома. Хотя это тоже варварство: топить печки надо углем, а бумагу и мебель делать из искусственных материалов… Однако не об этом сейчас речь, а о том, что людям почему-то недостаточно истреблять деревья ради своих насущных нужд – им нравится истреблять деревья еще и просто так, от скуки. Вот как тебе сейчас, Ветлугин. А ведь деревья необходимы не только людям: они дают пищу и кров зверям и птицам. Все это и малые дети знают, не то, что такой здоровый лоб, как ты, Ветлугин. Но деревья – это же, в первую очередь, живые существа! Понимаешь: живые! Более того, наверное, самые совершенные существа на Земле!". – "Да ну, живые… Скажете тоже, Константин Андреевич… Живое существо я бы не стал ножиком резать". – "Ты не знал, что деревья относятся к живой природе? Вам рассказывали об этом еще в младших классах на уроках природоведения. Ты где был в это время? В футбол играл, как обычно?". "Из живых деревьев я знаю только вот его", – Перс под общий хохот ткнул пальцем в Веньку. "Сам ты…", – беззлобно пробасил в ответ толстяк. "Константин Андреевич, деревья, спору нет, относятся к живой природе, тут маэстро Ветлугин, конечно, угодил в офсайд, – вступил в разговор Тэтэ. – Но "самые совершенные на Земле существа"… Это, согласитесь, преувеличение". – "Никакое не преувеличение. Деревья живут намного дольше людей и зверей: уже одно это говорит об их более совершенном устройстве. Наряд у деревьев, казалось бы, один и тот же, но меняют они его на протяжении года несколько раз – голые ветки, затем почки, зеленая листва, красно-желтая листва, опять голые ветки. Никому из зверей и птиц такое разнообразие недоступно. И никакие, как теперь принято говорить, модные шмотки не сравнятся по красоте с древесным нарядом. Чтобы в этом убедиться, достаточно оглянуться вокруг". – "Но у деревьев нет ни глаз, ни ушей, ни рук, ни ног. Ветки и корни не в счет – деревья ведь не могут ими пользоваться" (Толик любил в споре загонять оппонента в угол своей железной, как ему казалось, логикой. Сейчас его вновь охватил подзабытый азарт фехтовальщика, стремящегося нанести решающий укол упорно отбивающемуся противнику). "Нет ни глаз, ни ушей, но деревья видят и слышат больше, чем кто-либо – признания в любви, выстрелы, стоны, молитвы, плач, крики радости, предсмертные хрипы, – и не думал сдаваться Костя. – В этом смысле деревья – самые осведомленные свидетели на свете. Ведь от деревьев не прячутся – прячутся ПОД деревьями, ЗА деревьями… Все набрали хвороста?.. Тогда идем обратно к стоянке". – "Хорошо, Константин Андреевич, но деревья всю свою жизнь стоят на одном и том же месте и не могут сдвинуться ни на миллиметр, если только их не срубят – то есть, если не убьют. Стоят, как вкопанные, в жару и в холод и не видят ничего дальше собственного носа. Или собственного леса. Это же чертовски скучно! Лично я так не могу и не хочу. Я хочу мир посмотреть! Наша страна, понятно, самая лучшая, но есть же и другие красоты на свете". – "А вот Пушкин, например, всю свою жизнь не выезжал за пределы России". – "Но я-то не Пушкин!". – "Я это заметил, Толя". – "А представляете, Константин Евгеньевич, сколько бы Пушкин еще всего написал, если бы поколесил по нашему шарику? Наверняка, написал бы еще больше и еще гениальнее!". – "Нельзя написать "еще гениальнее" или "менее гениально". Гениальность не подвластна ранжирам, рейтингам, градациям. Это удел посредственности. Что касается деревьев, то да, они навечно привязаны к своей земле, они не могут без нее – и это прекрасно. Может быть, в этом и заключается высшее счастье – быть на своей земле, на том месте, куда тебя поставила судьба, и честно выполнять свой долг до конца, не желая иной доли". – "Ну-у, какое же это счастье – проторчать всю жизнь на одном месте?.. Это ужасный ужас, а не счастье! Человек, как известно, – творец своей судьбы. А советским людям открыты все дороги". – "Конечно, ты прав, Топчин. (Что-то еле заметное, похожее на отголосок внутренней боли промелькнуло на лице Кости). Но советские люди, в то же время, как никто другой, знают, что такое долг, который нужно исполнить во что бы то ни стало и не оставлять свой пост, как бы сильно ни хотелось его оставить". – "Какой же это долг – просто стоять на одном месте?". – "А часовые у Мавзолея Ленина?". Толик рассмеялся и покачал головой: "Уели, Константин Андреевич, уели… В смысле, часовые у Мавзолея, а не у ели, а вот вы меня уели. Вы часом не друид? Так деревья любите…". "Не друид, не термит, не ирод и не аспид, – отшутился Костя. – И даже не андроид". "Ага, андроид – вот он!", – Перс продолжал доставать Веньку. "А для тебя, Анатолий, стало быть, счастье – это постоянно находиться в движении и что-то менять?", – спросил Костя. "По крайней мере, это интересно. Но на самом деле у меня есть рецепт, который всех людей сделает счастливыми, – глаза у Тэтэ хитро заблестели. – Очень простой рецепт. Надо каждое утро переводить стрелки часов на час назад – как при переходе на зимнее время. А потом в течение дня переводить обратно на час вперед – как на летнее время. В результате продолжительность дня остается неизменной, но при этом абсолютно все счастливы: утром можно поспать на час дольше, а рабочий день заканчивается на час раньше! Классно придумано, правда?". "Да, оригинально, ничего не скажешь! – теперь уже географ расхохотался, а вместе с ним – и все пацаны. – Сам придумал?". – "Ага! Может, отослать этот рацпредложение в Совет министров?". – "Тогда уж сразу в ООН. Нет, Анатолий, время нельзя изменять по своему желанию, оно, к счастью, неподвластно человеческим прихотям и капризам. Время всегда одно и то же, и во все времена есть подлецы и герои. Меняться может только их численное соотношение".




