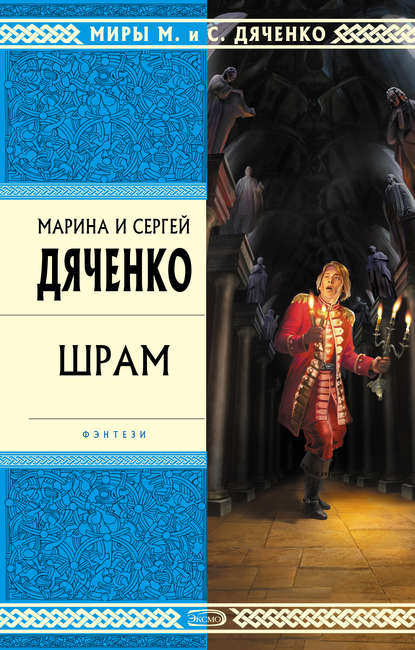Полная версия
Преемник
Мы с трудом одолели половину пути. Муха смеялся, просил оторвать ему голову, тыкал неверным пальцем в фонарные столбы:
– Чего… лезет на живот. На живот мне лезет, ме-ирзавец…
Я сочиняла слова, которые скажу ему завтра, и эти мысли немного меня поддерживали. Глаза мои не отрывались от разбитой мостовой, я старалась не угодить в особенно глубокую лужу – а потому случилось так, что пьяный Муха первым увидел лежащего человека:
– Во… Тут уже все спят…
Стиснув зубы, я волокла его дальше; этот второй пьяница лежал навзничь, раскинув руки, будто собираясь взлететь. Запрокинутое лицо казалось покрытым слоем муки. Мельком взглянув на него, я внезапно помрачнела – лежащий напомнил мне Луара Солля. Во всяком случае такой же молодой – чуть старше Мухи.
Что за неудачный вечер, подумала я. Завтра отберу у Мухи половину выигранных денежек – я их заработала, пес раздери. И в другой раз за все золото мира не стану таскать на себе маленьких негодяев…
Человек под забором попытался пошевелиться и застонал. В первый раз напился, подумала я с отвращением. Убейте, не пойму, что за удовольствие платить за вино, чтобы за свои же денежки потом мучиться… Вот Мухе покамест хорошо. Весело Мухе, посмотрим, что ты завтра скажешь, щенок эдакий…
Мы миновали лежащего. До нашего пристанища оставалось совсем немного, когда я вдруг остановилась и чуть не выпустила икнувшего Муху. Дождь не унимался, вокруг тусклого фонаря пестрели, как мошки, частые летящие капли.
– Погоди, – я прислонила Муху к стене. Он тут же сполз на мостовую – в грязь, не пригасив тем не менее лучезарной пьяной улыбки.
Я оставила его в покое и бегом вернулась к лежащему юноше.
Он не пытался подняться, зато рядом сидел на корточках оборвыш лет десяти и сосредоточенно шарил в поисках кошелька. «Стража!» – рявкнула я страшным голосом, воришка растворился в мокрой темноте, а я с запозданием подумала о множестве взрослых его собратьев, которые ходят неподалеку.
Парень лежал, неудобно повернув голову. В тусклом свете фонаря я долго всматривалась в его лицо; даже на изрядном расстоянии мой нос морщился от густого винного перегара.
Скорее маленький сбежавший карманник окажется сиятельным князем, нежели наследник семейства Соллей обнаружится в грязной луже посреди города. Скорее Флобастер купит мне ферму, нежели я потрачу на этого пьяницу еще секунду драгоценного времени. Скорее Гезина напишет философский трактат…
Скрипнув зубами, я крепко взяла лежащего под мышки – светлое небо, что за день сегодня! – и подтащила ближе к свету. Ноги его безвольно проехались по илистой луже – мне померещилось, что я нашла и тяну огромную снулую рыбину.
Парень не сопротивлялся. Только когда желтое пятно света упало ему на лицо, он сморщился, будто от невыносимо яркого солнца.
Я стояла над ним, опустив руки. Ребра мои вздымались и опадали, как весла каторжной галеры.
Ну что мне теперь делать?! Бежать к господину Эгерту? «Скорее, скорее, господин Солль, а то одна я никак не утащу вашего сыночка, который как свалился под забором, так и лежит…» А может, напрямую к бургомистру? К начальнику стражи, пусть направит сюда патруль, пусть патруль донесет господина Луара до отчего дома…
Меня передернуло. На свете существуют не только мелкие карманники и крупные грабители. На свете существуют огромные стражники, которые ни о чем не желают разговаривать, и вряд ли их подкупишь жалкими медяками – Мухиным выигрышем…
Светлое небо, да ведь еще Муха!! Лежит под своей стеной и лучезарно улыбается… Будьте неладны. Будьте неладны оба.
Луар пошевелился и поднял опухшие веки. Небо, у этого парня были ясные серые глаза – теперь они смотрели слепо, мутно, страдальчески. От этого взгляда я чуть поостыла – как ни странно, только сейчас мне пришло в голову задуматься: а что же такое случилось в семействе Соллей, что после внезапной и странной отлучки отца сын оказался в столь невозможном, жалком состоянии?!
– И что мне теперь делать? – спросила я устало. Луар не ответил глаза его закатились.
Бариан не спал – маялся зубом. В теплом платке, намотанном вокруг лица, он совсем уж не походил на героя-любовника – скорее на измученную сельскую молодуху.
– У-ум… – простонал он, хватая за шиворот моего спутника, которого правильнее было бы называть ношей. – Над-ался, негодяй, вот бы…
Глаза его полезли из орбит, потому что пьяница у меня на руках оказался в полтора раза выше и тяжелее привычного Мухи.
У меня не было сил ничего ему растолковывать. Я промокла до нитки, вымазалась в грязи, а язык мой покрылся мозолями от непрерывных проклятий. Муха лежал в десяти шагах позади – не в силах тащить обоих парней одновременно, я волокла их эстафетой, по очереди.
Разбуженный нашей возней, явился Флобастер. Веселый Муха водворен был в повозку – отсыпаться; и Бариан, и Флобастер удрученно качали головой, разглядывая землистое лицо юного Солля. После деловитого обмена опытом – а у обоих был обширный опыт неудачного пития – Флобастер потащил полумертвого Луара на задний двор, «чтобы все лишнее вон». Бариан, постанывая и держась за щеку, сообщил мне, что до утра делать все равно нечего – приведем парня в чувство, а там пусть сам решает, что матушке-то сказать…
Я промолчала. Относительно матушки и особенно батюшки непутевого Луара у меня сидела в голове здоровенная заноза.
После изуверской Флобастеровой операции Луар немного ожил, хотя на ногах все равно не держался; его уложили на место Бариана, который все равно не спал и собирался завтра идти к цирюльнику – рвать зуб…
Я провела ночь без сна и в одиночестве – Гезина, делившая со мной повозку, так и не вернулась после ужина с новым другом.
* * *Тяжелее всего казалось то, что она не могла вспомнить. Защищаясь от безумия, рассудок ее сделал все, чтобы уничтожить память о тех днях – иначе она не могла бы жить и не могла бы дать жизнь проклятому сыну…
Сидя перед горящей свечой, она с утра до вечера сматывала нитки бесконечные клубки шерсти, чудом сохранившиеся на дне старого сундука. Она сматывала их с клубка на клубок, как сумасшедшая паучиха; она глядела в пламя свечи и пыталась вспомнить.
Лучше всего помнилась жаровня. Странное чувство отстраненности это не она, страшное происходит не с ней, она лишь наблюдатель… Она, кажется, так и не смогла поверить до конца во весь этот ужас – даже когда жгли тело раскаленными щипцами, когда…
Провал в памяти. Спасительный провал.
Спрашивали ее о чем-нибудь? Скорее всего, нет. Ни о чем не спрашивали, просто ждали признания… Признания в какой-то немыслимой вине, и она всякий раз признавалась – но палачи не унимались, будто желали чего-то еще. Провал в памяти…
Клубок вывалился из онемевших пальцев и мягко, беззвучно побежал по ковру.
* * *Муха проспал до полудня, и потому некому было таращиться на Луара и спрашивать, щелкая языком, а что такое приключилось и откуда здесь маленький Солль?
Флобастер держался блестяще – со стороны можно было подумать, что наша труппа то и дело дает приют пьяным отпрыскам благородных родов. Бариан поскакал к цирюльнику, Фантин был нелюбопытен, а Гезине я вполне ясно объяснила, что, если она посмеет задать хоть один вопрос, я своими руками повырву все до единого белокурые волосы. Она надулась – но, в конце концов, после романтического свидания ей было не до свар.
Луар сидел в повозке Флобастера – бледный до синевы, исхудавший, похожий на больную дворнягу; Флобастер чуть не силой влил в него полстакана вина. От всякой пищи юный Солль, конечно же, отказался; Флобастер понимающе кивал и укутывал его пледом – но Флобастер не дурак. Он, как и я, прекрасно понимал, что парень мучится не одним только похмельем.
Наконец, пришлось спросить-таки: а что, господа Солли не будут волноваться? Не кинутся разыскивать невесть куда пропавшего сына?
Реакция Луара на этот невинный, вскользь оброненный вопрос подтвердила наши самые худшие опасения. Парня перекосило, как от боли; он отвернулся к стене и пробормотал что-то совершенно невнятное.
Мы с Флобастером переглянулись. Он тут же спохватился – ведь через несколько часов спектакль – и поспешил давать распоряжения. Мы с Луаром остались одни.
Луар сидел ко мне боком, неловко подобрав ноги, скрючившись и глядя в одну точку. Ему было невыносимо тяжело и стыдно, может быть, мне стоило оставить его в покое и уйти – но я почему-то не уходила.
Неправдой будет сказать, что внутри меня не жило обыкновенное подлое любопытство. Да, я любопытствовала, как праздный зевака, – но удерживало и мучило меня совсем другое.
Я была виновата перед ним. Снова виновата; это чувство, успевшее притупиться за несколько прошедших дней, теперь вернулось с новой силой, чтобы терзать меня своей неопределенностью: виновата – но в чем?!
Луар молчал. На лице его темнели различимые при дневном свете синяки, а ногти грязных рук были сгрызены до мяса. Я напрягла память – не было у него такой привычки. Никогда, даже в рассеянности, воспитанный юноша не станет грызть ногти…
Не могу сказать, чтобы в жизни я кого-то так уж жалела – но в этот момент что-то внутри меня больно сжалось. Слишком уж внезапную катастрофу пережил этот благополучный мальчик, счастливый папенькин сынок… Мне захотелось напоить его горячим. Вымыть. Укутать. Сказать, наконец, какую-то ободряющую глупость…
Наверное, что-то такое отразилось у меня на лице – потому что, искоса взглянув на меня, он всхлипнул. Кто-кто, а я прекрасно знаю – обиженный хранит гордость, пока кругом равнодушные. Стоит просочиться хоть капельке сочувствия, понимания, жалости – и сдержать слезы становится почти невозможно…
Луар судорожно вздохнул, снова глянул на меня – и я поняла, что его сейчас прорвет. На минуту мне даже сделалось страшно – все-таки есть вещи, которых лучше не знать…
Но он уже не мог остановиться. Слова текли из него пополам со слезами.
Выслушивать чужие исповеди мне приходилось и раньше; лицо у меня такое, что ли – но чуть не все приютские девчонки рано или поздно являлись, чтобы поплакать у меня на груди. Однако их печальные судьбы были бесхитростны и все похожи одна на другую – история же, рассказанная Луаром, заставила волосы шевелиться у меня на голове.
Я готова была не поверить. Кое-как напрягшись, можно вообразить себе господина Эгерта Солля, с перекошенным лицом и без единого слова уезжающего в ночь, – чему-то подобному и я была свидетелем… Но госпожа Тория, избивающая собственного сына?! Госпожа Тория, проклинающая обожаемого Луара как «выродка» и «ублюдка», выгоняющая его из дому ударами подсвечника по лицу?..
Он замолчал. С некоторым ужасом я осознала вдруг, что после всего сказанного этот парень перестал быть мне случайным знакомым. Никогда не следует подбирать бродячих щенят, чтобы покормить, приласкать, а потом выгнать с чистой совестью: был на улице и будет на улице, разве что-то изменилось?..
Небо, у него что же, действительно больше никого нет? Ни бабушки, ни дедушки, ни тетки, в конце концов? Что за злые шутки судьбы – вчера я была для него сродни прислуге, а сегодня он плачет передо мной, мучается, стыдится, но плачет?
Я села с ним рядом. Обняла его крепко – как когда-то в приюте, утешая очередную дурищу; он мелко дрожал, он был грязный и жалкий – но я почувствовала, как его плечи чуть расслабляются под моими руками.
Не помню, что я ему говорила. Утешения обязаны быть бессмысленными – тогда они особенно эффективны.
Он затих и всхлипывал все реже. Я шептала что-то вроде «все будет хорошо», гладила его влажные волосы, дышала в ухо, а сама все думала: вот напасть. Вот новая забота; теперь он либо помирится с родственниками и возненавидит меня за эти свои слезы – либо не помирится, и тогда вовсе худо, хоть бери его в труппу героем-любовником…
А своих слез он все равно мне не простит.
Небо, я моложе его где-то на год – но старше лет на сто…
Я осторожно отстранила его; он безропотно улегся на Флобастеров сундук. Подмостив ему под голову какое-то тряпье, я пробормотала последнее утешение и, удостоверившись в полусонном его забытьи, выбралась наружу. Флобастер сидел неподалеку на узком чурбачке – сторожил, значит. Оберегал наш интимный разговор от случайно забредших ушей.
Коротко и без подробностей я посвятила его в курс дела. Он долго покачивался с пятки на носок, с носка на пятку, свистел, вытянув губы трубочкой, и чесал в затылке.
– Стало быть, она его и наследства лишила? – поинтересовался он наконец.
Я пожала плечами. Похоже, что наследство беспокоило маленького неопытного Солля в самую последнюю очередь.
– Как бы справиться у нотариуса, – бормотал тем временем Флобастер. – Писца подкупить, что ли… Вызывала дама Солль нотариуса или нет?
Я тихо разозлилась. Вот ведь куда головы работают у бывалых людей; я-то, выходит, мотылек вроде Луара, о наследстве и не подумала, мне несчастной семьи жалко…
– А полковник-то куда отправился? – озабоченно поинтересовался Флобастер.
Я пожала плечами. Единственным подходящим местом, упоминавшимся при мне Соллями, был город Каваррен.
– Ну добро, – подвел итог Флобастер. – Пусть поживет денек-другой, ладно, потеснимся… А потом пусть в стражу нанимается, что ли… А сейчас давай-давай, скоро публика соберется, а Муха, щенок, с перепою…
Я устало смотрела в его удаляющуюся спину.
* * *Перед рассветом Тории захотелось умереть.
Подобное желание навещало ее не однажды – но всякий раз невнятно, смутно, истерично; теперь мысль о смерти явилась ясно, строго и без прикрас – величественная, даже почтенная мысль. Тория села на скомканной за ночь постели и широко, успокоенно улыбнулась.
В дальнем отделении стола хранился ящичек со снадобьями; пузатый флакон из темного стекла покоился на вате среди бездомных раскатившихся пилюль – Тория давно забыла, от каких именно хворей прописывал их благодушный университетский доктор. Жидкость во флакончике хранила от зубной боли; баснословно дорогая и редкостная, она действительно оказалась чудодейственной – совсем недавно Тория спасала от жутких зубных страданий сладкоежку-горничную… Аптекарь, составивший снадобье, знал в травах толк; вручая Тории флакончик, он десять раз повторял свое предостережение: не более пяти капель! Если вам покажется, что вы ошиблись в счете – сосчитайте заново, пусть лучше пропадет толика лекарства, нежели он, аптекарь, окажется повинен в истории с ядом…
Тория бледно усмехнулась. Больше всего на свете аптекари боятся «истории с ядом»; будем же надеяться, что имя нашего добряка не всплывет в связи с безвременной кончиной госпожи Тории Солль…
Она выронила флакон; за темным стеклом тяжело качнулась волна густой вязкой жидкости. Небо, больше половины…
Темная вода на дне пруда. Глинистое дно; поднимая в воде струи серой глины, топают маленькие босые ноги. Теплая грязь продавливается между розовыми пальцами; только ноги, выше колен – солнечные блики на поверхности пруда да иногда – мокрый подол детского платьица…
На дне полно узловатых корней. Так легко наступить на острое, поранить, замутить и без того мутную воду твоей, девочка, кровью…
Она содрогнулась. Протянула руку, чтобы остановить – и тогда только опомнилась. Бред. Нет никакого пруда; то было летом, когда смеялся Эгерт…
Нету пруда. Есть Алана, о которой она даже не вспомнила все эти дни. Ее девочка. Ее дочь.
Она оделась – по привычке бесшумно, хоть и некого было будить. Взяла свечку и вышла в предрассветный полумрак спящего дома.
Нянька сопела в первой комнате от входа; неслышно ступая, Тория обогнула вздымающееся одеяло, отодвинула тяжелую занавеску и вошла в теплые запахи детской.
Кроватка стояла под сереющим окном; прикрыв свечу ладонью, Тория смотрела на утонувшую в подушке темноволосую голову – и рядом еще одну, фарфоровую, кукольную, с выпученными бессонными глазами.
Там, в ее комнате, остался наполовину полный флакон… Будь проклята ее слабость.
Тория длинно, со всхлипом вздохнула. Алана вздрогнула; еще не проснувшись, приподнялась на локте, приоткрыла рот, готовясь заплакать. Распахнула удивленные глаза:
– Мама?!
Закусив губу, Тория опустилась на кроватку. Схватила дочь в объятия, сжала, изо всех сил вдыхая ее запах, запах волос и сорочки, ладоней, кожи, локтей и подмышек, чувствуя губами щеточки ресниц и полоски бровей. Кукла грохнулась на пол; Алана сдавленно вскрикнула, и, на секунду отстранившись, Тория увидела перепуганные, полные слез глаза:
– Мамочка… А папа… А… Луар вернулся, да?
Нянька стояла в дверях. Подол ее рубашки колыхался над самым полом.
* * *Гезина повздорила с Флобастером – тот не без оснований счел, что ее новая дружба, переросшая в пылкую любовь, мешает работе. В самом деле, Гезина повадилась возвращаться перед самым спектаклем и после представления сразу же исчезать. Такое положение вещей не устраивало Флобастера, который нервничал и злился, утрачивая мельчайшую частичку власти; такое положение не устраивало и меня, потому что кому же охота делать чужую работу и возиться с костюмами за двоих?
Скандал вышел громкий – Гезина, видимо, изрядно осмелела в объятьях своего горожанина и потому не побоялась пригрозить, что, мол, вообще оставит труппу, выйдет замуж и плевала на нас на всех. Флобастер, от такой наглости на секунду потерявший дар речи, вдруг сделался тише сахарной ваты и елейным голосом предложил Гезине проваливать сию же секунду. Дивная блондинка ценила себя высоко и верила в столь же высокую оценку окружающих, поэтому легкость, с которой Флобастер согласился ее отпустить, повергла Гезину в шок. Грозные посулы сменились всхлипами, потом звонким ревом, потом истерикой; безжалостный Флобастер не допустил ни толики снисхождения – Гезина была самым жестоким образом водворена на подобающее место. Для пользы дела, разумеется.
Притихшая героиня старательно отыграла представление, помогла мне убрать костюмы – и уже вечером, пряча глаза, явилась к Флобастеру с нижайшей просьбой: только на ночь… Последний раз…
Флобастер выждал положенное время – о, мастер паузы, мучитель зрительских душ! – и снизошел-таки. Позволил.
До утра наша с Гезиной повозка перешла в мое исключительное пользование – поэтому случилось так, что поздней ночью мы оказались наедине с Луаром Соллем. Холщовый вход был старательно зашнурован от ледяного ветра подступающей зимы; на ящичке из-под грима оплывала свечка.
Всю первую половину нашего разговора, долгую и бесплодную, мрачный Луар пытался выведать, как сильно он успел унизиться накануне. Мило улыбаясь, я пыталась увести его от этого самокопательного расследования – куда там! С тупым упорством самоубийцы он возвращался к болезненному вопросу и в конце концов поинтересовался с нервным смешком: что, может быть, он и слезу пустил?!
Такое его предположение заставило меня сперва оторопеть, а потом и возмутиться: слезы? Господин Луар, видимо, до сих пор не пришел в себя, иначе откуда взяться столь странному вопросу? Не было никаких слез, да и не могло быть…
Он настороженно пытался понять, вру я или нет; наконец, поверив, устало вздохнул и расслабился.
Серо-голубые глаза его казались темными в тусклом свете единственного свечного язычка. Совершенно больные глаза – сухие. Исхудавшее лицо не то чтобы возмужало – подтянулось, что ли, сосредоточилось, напряглось, будто позарез нужно ответить важному собеседнику – да вот только вопрос позабылся… Руки с обгрызенными ногтями лежали на коленях; на тыльной стороне правой ладони краснел припухший полукруг – след истерически сжатых зубов. Еще не успев поймать мой взгляд, он тут же интуитивно убрал руку.
Он выслушал меня внимательно. Помолчал, глядя в пламя свечи. Облизнул сухие губы:
– Да… Я… думал, Но… смею ли я?
Я возмутилась уже по-настоящему. Что значит – смею?! Это родной отец, вы же с ним и словом не перемолвились, ничего не прояснено, и, если госпожа Солль, возможно, не совсем здорова – то тем более важно встретиться с господином Эгертом и…
В середине моей пылкой тирады он опустил голову. Устало покачал шапкой спутанных волос. Госпожа Тория… Он почему-то уверен, что она здорова. Тут нельзя говорить о… душевном расстройстве… Конечно, в это легче поверить, но…
Он снова покачал тяжелой головой. Снаружи рванул ветер, и пламя свечи заколебалось.
– Я даже не знаю, где он, – беспомощно сказал Луар.
Мне захотелось закатить глаза, но я сдержалась. Конечно, господин Эгерт в Каваррене, в родовом гнезде – где же еще?!
Он просветлел. Уголки губ его чуть приподнялись – в теперешнем его состоянии это должно было означать благодарную улыбку:
– Значит, вы считаете…
Поразительный мальчик. Выплакавшись у меня на груди (тс-с! слез-то и не было!) он все-таки продолжал величать меня на «вы».
Я энергично закивала. Луар обязан отправиться в Каваррен и поговорить с отцом начистоту. Чем скорее, тем легче будет обоим.
Луар колебался. Ему, оказывается, все дело представилось так, что своим внезапным диким отъездом отец отрезал самую мысль о возможной встрече – во всяком случае, до тех пор, пока сам он, Эгерт, не соблаговолит вернуться и объясниться. Пытаясь сдвинуть с места Луаровы представления о дозволенном и недозволенном, я покрылась потом, как ломовая лошадь.
Дело довершила нарисованная мной картина – вот господин Эгерт сидит в родовом замке (или что там у него в Каваррене), сидит, уронив голову на руки, тяжело страдает и желает видеть сына, но не решается первым сделать шаг навстречу, боится обиды и непонимания, мается одиночеством и робко надеется – вот скрипнет дверь, и на пороге встанет…
Щеки Луара покрылись румянцем – впервые за все эти дни. Он ожил на глазах, вслед за мной он поверил каждому моему слову, он мысленно пережил встречу с отцом и возвращение в семью – и, наблюдая за его метаморфозой, я с некоторой грустью подумала, что, быть может, сейчас искупила часть своей безымянной вины… А возможно, и усугубила ее – кто знает, чем обернется для мальчика эта внезапная надежда…
Мальчик же не имел ни времени, ни сил на столь сложные размышления. Враз успокоившись и просветлев, этот новый, обнадеженный Луар исходил благодарностью, и я с некоторым удивлением увидела его руку на своем колене:
– Танталь… Вы… Ты… Просто… Жизнь. Ты возвращаешь жизнь… Ты… просто прекрасная. Ты прекрасна. Вы прекрасны.
И, глядя в его сияющие глаза, я поняла, что он не кривит душей ни на волосок. В эту секунду перед ним сидело божество – усталое божество со следами плохо стертого грима на впалых щеках.
– Танталь… – он улыбнулся, впервые за много дней по-настоящему улыбнулся. – Можно… я…
Он подался вперед; где-то на половине этого движения решимость оставила его, но отступать было поздно, и тогда, удивляясь сам себе, он суетливо ткнулся губами мне в висок.
Он тут же пожалел о содеянном. Вероятно, детский поцелуй показался ему верхом распутства – он покраснел так, что в свете одинокого огонька лицо его сделалось коричневым.
Я прислонилась спиной к переборке. Кожа моя помнила царапающее прикосновение запекшихся губ; прямо передо мной сидел парень, невинный, как первая травка, мучительно стыдящийся своего благодарного порыва. Казалось бы, жизнь его полна куда более тяжких вопросов и проблем – но вот он ерзает, как еж на ежихе, из-за такой малости, как близко сидящая девушка…
Мне сделалось грустно и смешно. Почти не рассуждая, я поймала его руку и прижала к своей груди – крепко, будто клятву принося.
Он оцепенел; наверное, ему было бы легче, если б я сунула его руку прямиком в горящую печку. Ладонь была холодная, как рыбий плавник; мне сделалось жаль бедного мальчика.
– Да ничего в этом нет, – сказала я устало, выпуская его руку. – Так… Обычное дело. Все люди обедают, едят картошку и шпинат, но никому ведь не придет в голову краснеть и дрожать: сегодня я впервые покушаю… тведаю свеклы… интересно, какова она на вкус…
Он, кажется не понял. Я не выдержала и улыбнулась:
– Ну… Все очень просто, Луар. Гораздо проще, чем считают девственники. Хочешь попробовать?
Он смотрел на меня во все глаза. Не хватало еще, чтобы он принял меня за публичную девку.
– Хорошо, – сказала я, отводя взгляд. – Не слушай меня… Забудь, что я сказала. Тебе надо выспаться… Завтра в путь…
– Да, – отозвался он чуть слышно.
– Гезина вернется только утром… Так что спи спокойно.
– Да…
– Ну вот… Ночью будет совсем уж холодно, Флобастер, скупердяй, все обещает переехать на постоялый двор, чтобы в тепле… А я дам тебе хорошее одеяло. И вот еще, теплый плащ…
Склоняясь над сундуком, я прятала за деловым тоном внезапно возникшую неловкость, а Луар стоял за моей спиной и размеренно, глухо повторял свое «да». Потом замолчал.
Осторожно, боясь спугнуть неизвестно что, я выпрямилась и обернулась.
Он не сводил с меня глаз. Напряженных, вопросительных, даже испуганных – но уж никак не похотливых. Что-что, а похоть я чуяла за версту.