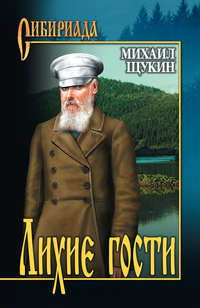Полная версия
Осиновый крест урядника Жигина
Вышел Семен из трактира, ничего не понимая, и хотел уже ехать домой, как подлетела к трактиру обычная крестьянская телега, в которую запряжена была ходкая молодая кобылка – вся в мыльной пене, которая летела с нее хлопьями. Соскочил с телеги парень, похожий на хорька, выдернул большой узел, перекинул его в коляску Семена, сам следом запрыгнул и скомандовал – поехали! Телега, на которой он к трактиру прибыл, покатила в другую сторону.
Все так быстро перед глазами мелькнуло, что Семен и понять ничего не понял, разобрал вожжи и повез своего пассажира туда, откуда доставил. Теперь парень не насвистывал, сидел неслышно и незаметно, и только глазами, злыми и настороженными, озирался по сторонам.
«Как есть хорек!» – подумал Семен, и кольнула его смутная догадка. Скоро она полностью подтвердилась. Когда на место приехали и стал парень вытаскивать из коляски узел, он возьми да и развяжись. Видно, в спешке завязывали, не затянули как следует, вот и распахнулся. Посыпалось на пыльную землю всякое барахлишко: подстаканники, ложечки серебряные, резные коробочки деревянные, в которых обычно кольца да серьги с брошками держат, шубка соболья, еще что-то, чего Семен не успел разглядеть – так быстро парень заново все собрал. «Это он в трактир зашел, через черный ход выскользнул, а там его и телега дожидалась, – догадался Семен, – и никто ничего не видел, а я стоял, как дурак, и ждал».
Парень вскинул узел на плечо и оскалился, показав мелкие зубы, предупредил:
– Не вздумай вякнуть! Пришьем!
Побежал не оглядываясь, и узел подпрыгивал на его спине, словно был живой.
Вечером в гости к Семену пришел Капитоныч. Поздоровался, пожаловался на больные ноги, на одышку, а затем, без всякого перехода, спросил:
– Догадался, кого сегодня по городу катал?
Юлить Семен не стал, ответил, как всегда, коротко, чтобы лишних слов не тратить:
– Сороку-воровку по полету видно.
– Вон ты как, мудрено – по полету! Ну-ну, кхе-кхе… Если догадался, Семушка, тогда слушай меня в оба уха. Никуда теперь от меня не денешься, при мне будешь, как сторож при амбаре. Правда, платить тебе буду поболе, чем сторожу. Завтра в трактир заглянешь, буфетчик денежку тебе выдаст. Сам-то я денег никогда с собой не ношу, потерять боюсь, потому и карманы пустые. Ладно, Семушка, пойду я, раз договорились.
– Как это – договорились? О чем?
– Да неужели непонятно?! – искренне удивился Капитоныч. – Ты возишь, когда тебя попросят, помалкиваешь, а тебе за это денежки дают.
– А если не соглашусь?
– Согласишься, Семушка, согласишься, денежки всегда пригодятся. Вдруг конь сдохнет или изба сгорит, жизнь есть жизнь, она завсегда любит разные коленца выкидывать.
С тем и ушел Капитоныч, оставив Семена в раздумьях.
Понимал он, что угроза, хоть и не впрямую высказанная, может исполниться. И конь от какой-нибудь отравы может сдохнуть, и изба загореться – все при желании провернуть возможно. И что тогда? Снова по углам скитаться и каждую копейку беречь, чтобы заново избой и конем обзавестись? Но это опасение было не самым главным. Главное, что вспыхнуло и разгорелось в душе желание – разбогатеть! Подсовывала судьба на блюдечке удобный случай – бери, пользуйся, не прозевай!
Но не само богатство в чистом виде нужно было Семену Холодову. Нужно оно было лишь для того, чтобы осуществить заветную мечту, простую и ясную, как солнечный полдень – увести Василису от Ильи Жигина, нынешнего елбанского урядника, и жить с ней. Давняя, сладкая, выстраданная мечта… Родилась она еще в те дни, когда стоял в ограде своего дома и слушал, как гремит, поет и пляшет в деревне чужая свадьба. И после, когда перебрался в город, она никогда его не отпускала и жила в нем, как живет в человеке нутряная и тяжелая болезнь, которая рано или поздно должна либо излечиться, либо замучить до смерти.
Помирать Семен не собирался.
Он хотел предстать перед Василисой богатым, удачливым, предстать и сказать ей: видишь, какое счастье и довольство для тебя выстроил, собирайся, пошли со мной.
И уверен был, что она не откажется.
Все эти годы он тайно следил, не попадая на глаза, за семейной парой Жигиных, специально в Елбань наведывался, чтобы глянуть издали, изнывал от нерастраченного чувства и баб в сладкие минуты называл Василисой.
О многом передумал Семен, когда ушел от него Капитоныч.
Утром поднялся и прямиком, не запрягая Карьку, отправился в трактир, где буфетчик молча выдал ему деньги. Извозным промыслом таких денег за месяц не заработаешь. Последние сомнения отпали, и стал Семен Холодов палочкой-выручалочкой для воровской шайки, которая находилась под жесткой и властной рукой седенького и благообразного старого трактирщика Наума Капитоновича Загайнова.
14Выехали из Ярска в сторону Парфеновских приисков на исходе ночи, когда на улице было еще темно, а в небе густо помигивали звезды. Миновали пустые городские улицы, затем Семен направил своего Карьку вниз по крутому спуску; выкатились на лед Бушуйки и пухлый снег полетел из-под копыт, словно поднятый ветром.
– Почему по речке? – спросил Столбов-Расторгуев. – Что, другой дороги нет?
– Есть дорога, мимо будочника[9], да там наверняка крючки[10] дожидаются. Желаешь поговорить с ними? Могу доставить, – Семен сердито сплюнул на сторону и подивился глупому вопросу.
Столбов-Расторгуев, видно, тоже сообразил, что ляпнул несуразное, поэтому замолчал и закрыл лицо мохнатым воротником шубы.
По льду Бушуйки выбрались из Ярска, а уж после, завернув длинный крюк, оказались на тракте, где и затерялись среди других подвод и саней, которые густо ползли с утра, извлекая полозьями из промерзлого снега веселый, протяжный скрип.
Солнце под этот скрип поднималось долго, тяжело, будто примерзло. Но поднялось, вспыхнуло, и заснеженная округа заиграла, заблестела и заискрилась, высекая из глаз слезу и заставляя прищуриваться. Пронизанные светом, реденько, медленно закружились снежинки.
Тихий, добрый начинался день, и была полная уверенность, что не принесет он плохих вестей или неожиданной беды.
С таким настроением и ехал Семен по тракту, не подгоняя и не подстегивая Карьку, который и сам прекрасно знал, что от него требуется, шел ровной рысцой, покрываясь на потных боках густым инеем.
На постоялом дворе перекусили, попили чаю, передохнули, тронулись дальше. И все это время Столбов-Расторгуев молчал, будто Семена с ним рядом не было, молчал и думал о чем-то своем. Одет он сейчас был в богатую шубу, на ногах – белые катанки, а на голове – большая бобровая шапка, издали похожая на воронье гнездо. Важным казался, степенным, не ниже, чем первой гильдии купец – на драной козе к такому не подъедешь. «Как он обличие-то меняет, вместе с одежкой, – удивлялся Семен, – будто другой человек. И осанка другая, и походка. Чудеса, да и только!»
Поздно вечером добрались до Елбани, устроились на постоялом дворе, и Семен, отказавшись от ужина, засобирался, торопливо натягивая полушубок.
– Ты куда? – вскинулся Столбов-Расторгуев.
– Знакомец здесь у меня, схожу, попроведаю, давно не виделись.
– А ты не хитришь, братец, может, обмануть меня надумал?
– Была бы польза, обманул, – спокойно отвечал ему Семен, запахивая полы полушубка. – А раз пользы нет, какая мне выгода обманывать? Денег-то до сих пор не дал, пообещал, а не дал.
– Потому и не дал, чтобы соблазна у тебя не возникло. Пока денег не получишь, будешь меня беречь, как невесту непорочную. Верно? Ладно, ступай, только помни, руки у меня длинные, если что – достану.
«Руки-то, даже длинные, и обломать можно, если постараться, – Семен заглянул под навес, проверил Карьку, скормил ему хлебную краюшку, посыпанную крупной солью, и направился вдоль по улице, продолжая беседовать сам с собою: – Не знаешь ты меня, господин Расторгуев, или Столбов, как там тебя зовут… Не знаешь! А я, если разозлить, из любой глотки свое вырву и не чихну! Сколько лет такого случая ждал! Не упущу!»
И шаги у него становились все тверже и быстрее.
Дорога, по которой шел, была ему знакома, проезжал здесь с Карькой, когда наведывался в Елбань, чтобы издали, тайком, увидеть Василису. Поэтому не сбился, не заплутал, быстро вышел прямо к дому урядника Жигина. Приблизился к самым воротам, остановился. Окна в доме были непроницаемо темны, снег не расчищен и наметенный сугроб поднялся уже до середины калитки. Семен стащил рукавицу, горячей ладонью провел по лицу – неужели верно, неужели Капитоныч правду сказал? От увиденного его даже в пот кинуло.
«До конца надо удостовериться, чтобы никакой оплошки… Не спеши, Семен, не спеши… Подождать требуется, узнать в точности». Прохаживался перед домом, оглядывался по сторонам, надеялся – должен ведь кто-то появиться, время не совсем позднее, в домах свет виден, значит, не спят еще. Зайти к кому-нибудь из соседей, чтобы расспросить, остерегался – мало ли какая неожиданность может случиться… Лучше подождать.
И правильно сделал, что не поторопился. На его удачу возвращался, видно, с речки, от проруби, парнишка, ведя в поводу неоседланного коня. Точно, на водопой водил. Семен осторожно, чтобы не напугать, окликнул его, спросил: не знает ли он, где сейчас урядник Жигин находится?
Парнишка оказался бойким, небоязливым и рассказал в подробностях, что Алешка у Жигиных помер, мать его Василиса пропала, как сквозь землю провалилась, а сам Жигин уехал по казенной надобности, не сказав куда, и только попросил соседей, чтобы они приглядели за коровой и за теленком. Соседи для удобства скотину на свой двор перегнали, и ограду у Жигиных теперь никто не чистит, поэтому и намело целые сугробы…
Семен уважительно пожал парнишке руку, как большому мужику, и отправился в обратный путь – на постоялый двор.
Вот и разрешились сомнения, которые мучили его со вчерашнего дня, вот и убедился, что Капитоныч сказал правду. Значит, захлопнулась ловушка и нет из нее выхода, кроме одного… Вспомнилось, как говорил старый трактирщик:
– Ты у меня, Семушка, весь в руках, с потрохами, и плясать теперь будешь, как я тебе прикажу!
– Это мы еще поглядим, кто у нас плясать будет и под чью дудку! – вслух грозился сейчас Семен, торопясь на постоялый двор, а тогда, при разговоре с Капитонычем, он промолчал. Вида, правда, не подал, сохраняя угрюмое спокойствие, а в душе дрогнул – очень уж неожиданными были слова, которые он услышал.
– Делишки наши так складываются, Семушка, что стал ты у нас наипервейшей фигурой, – вкрадчиво говорил Капитоныч и постукивал деревянным костылем в половицу. – Мы теперь без тебя, как без рук. Посодействуй, помоги нам, грешным…
Прибеднялся, как всегда, Капитоныч: не делишки, мелкие и сиюминутные, складывались в последнее время, а большие, пугающие дела завернулись круто и быстро. Не так давно наведались в трактир на окраине два молодых щеголеватых господина. Раз наведались, два наведались – тихие, смирные, вежливые, и непонятно было, каким ветром заносило их в затрапезное заведение. Таким господам прямой путь – на Почтамтскую улицу, в шикарный ресторан с официантами, а они в трактире сидят, чаек прихлебывают и даже внимания не обращают на грязный передник полового. На третий раз вызвали они на беседу хозяина, поговорили с ним недолго, и тот, постукивая костылем, повел их из общего зала в отдельную комнату, куда никому из посторонних доступа не было и где Капитоныч всегда вел секретные разговоры. Как они там договаривались и о чем, осталось неизвестным – не для того ведь уединялись, чтобы потом всем рассказывать. Но результат разговоров явился быстро – требуется неизвестным господам лихой извозчик, который хорошо знает город и сможет уйти от погони, если она случится.
Извозчиком таким, ясное дело, был Семен. Кого еще мог призвать Капитоныч? Деньги предложили немалые, и Семен согласился. А когда узнал накануне, что ему предстоит сделать, затосковал: банк грабить – это тебе не ворованное барахло с места на место перевозить. Но отступать было поздно – задаток взял и часть его уже потратил, а самое главное, хорошо знал Семен, что не простят ему отступного слова. Прибьют и так спрячут, что до второго пришествия и до восстания мертвых никто не отыщет.
Банк взяли чисто, если не считать погибшего Губатова, который остался лежать у входа с простреленной грудью. Но о нем никто не горевал, даже Столбов. Этот господин оказался очень уж проворным и осторожным, как пуганый и стреляный зверь. На полном ходу, как только влетели на окраину, сиганул из кошевки вместе с мешками, успев лишь Семену крикнуть:
– Сиди дома, жди!
Куда он дальше кинулся, разглядывать было некогда. Семен домчался до своей избы, Карьку – в конюшню, кошевку – под навес, а сам вывернул подгнившую половицу возле стены, которую давно хотел заменить, и принялся строгать и подгонять на ее место припасенную еще летом толстую сухую плаху. За работой хотел успокоиться и мысли привести в порядок, да и опасался крепко – не нагрянет ли следом полиция?
Но полиция не нагрянула.
А вечером, когда стемнело, пришел Столбов, выставил на стол бутылку водки и попросил Семена, чтобы тот выдал стаканы и хлеба. Вдвоем, не чокаясь и молча, будто на поминках, выпили они всю водку, до донышка, и легли спать.
Мешков при Столбове не было. Пришел он налегке, без всякого узелка, и даже водку принес в кармане полушубка, в который успел где-то одеться.
Дальше началось самое неожиданное.
С выплатой остальных денег господин Столбов, именуемый теперь Расторгуевым, не торопился. Отделывался обещаниями, говорил, что надо еще подождать, чтобы все вокруг успокоилось, а после объявил, что к оговоренной сумме он еще значительную добавку приложит, но для этого надо съездить на Парфеновские прииски, чтобы он смог там уладить свои дела.
Похоже, решил Семен, начинается сказка про белого бычка. И опасения своими поделился с Капитонычем, попеняв ему, что всунул тот своего извозчика в дело мутное и невыгодное. Но у старого трактирщика, оказывается, совсем иной, собственный, интерес имелся. Когда Семен об этом интересе услышал, поначалу даже опешил – не ожидал от старика такой прыти!
– А мы, Семушка, у него все денежки заберем, какие он награбил. Раз он слова своего не держит, возьмем да накажем. Только самую малость узнать надо – где он мешки свои хранит и кто ему еще помогает? Не могли же они вдвоем на такое дело решиться! А заодно покараулить, чтобы не улизнул. Я теперь, Семушка, почаще к тебе наведываться стану, ты мне все будешь рассказывать, а я тебя не обижу. Я тебя, Семушка, по-царски награжу. По-царски! Я тебе красавицу-Василису предоставлю, для утехи, для любви и ласки. Желаешь владеть Василисой? Же-ла-ешь! Чего тут спрашивать… Вот и будешь владеть.
Все-таки искусный мастер, старый трактирщик Наум Капитонович Загайнов, мало кто умеет так ловко ставить петли на людей. И в землю, кажется, смотришь, глаза не поднимаешь, и неосторожный шаг боишься сделать, а все равно – ступил в очередной раз, и ногу стальной проволокой захлестнуло. Так и с Семеном получилось, который расчувствовался на пьянке, устроенной после удачного дела, рассопливился и даже слезу пустил, рассказывая о своей тайной любви, о Василисе. Все за столом хмельны были изрядно, все говорили разом, перебивая друг друга, никто никого не слушал, и не вспомнили бы назавтра о пьяных откровениях Семена, если бы не Капитоныч – он-то вина не пил. Услышал и не забыл, пришло нужное время – и затянул стальную петлю, да так крепко, что не вырваться.
Согласился Семен, на все условия согласился, будто голову потерял, и глаза туманом затянуло – ничего и никого в том тумане не различал, кроме любви своей, Василисы. Сладко представлялась ему будущая жизнь: и денег – полная охапка, и Василиса рядом, а брошенный Жигин прозябает в своей Елбани, исходится на дерьмо от злости, но сделать ничего не может и остается ему лишь одно-единственное – утереться.
Сейчас, торопливым шагом покидая темную улицу, Семен окончательно удостоверился, что сказал ему Капитоныч чистую правду: выкрали Василису из дома, увезли неизвестно куда и держат в потайном месте. И пока они ее там держат, Семен никуда не убежит, будет ходить рядом, как миленький, помня о том, что на ноге у него затянута стальная петля.
«Ладно, потерплю, а после еще поглядим-понюхаем, кто кого перемудрит!» – с этой уверенностью он и вернулся на постоялый двор.
Столбов-Расторгуев встретил его насмешливым вопросом:
– Что так быстро? Даже чаем не напоил твой знакомый?
– Да он третий день, сказали, не просыхает. Какой там чай! Придется насухую спать ложиться.
– Это к лучшему, голова завтра светлее будет. Давай, братец, укладываться, вставать рано, выспаться нужно…
15Ничего лучшего нельзя придумать в зимний морозный вечер, как сидеть в старом уютном кресле, укрывшись мягким и теплым пледом, слушать, как в печке-голландке упруго гудит огонь, и перелистывать книгу, прищуриваясь от яркого света лампы, накрытой розовым абажуром. Чуть заметно шевелятся на полу слабые отсветы, и кажется, что это оставляет следы большое, ласковое существо, незримо проживающее в доме и распространяющее уют на все, что имеется в этих стенах, даже на самые малые вещицы и безделушки.
– Марфуша, радость моя, а не побалуешь ты меня чайком? – пожилая дама, сидевшая в кресле, закрыла книгу, нежно погладила ее длинными, узкими пальцами и продолжила совсем иным голосом: – Влюбленный счастлив – и огнем живым сияет взор его; влюбленный в горе слезами может переполнить море. Любовь – безумье мудрое: оно и горести и сладости полно! Как верно сказано! Божественные люди писали божественные слова!
Она откинула плед, порывисто, по-молодому поднялась из кресла. Высокого роста, седовласая, с большими и печальными глазами, под которыми сплелась мелкая сеточка морщин, дама не казалась старухой – наоборот, прямая спина, гордая осанка и царственный поворот головы изумительно молодили ее, будто скидывали десятки лет, ведя обратный отсчет прожитой жизни.
Походка у нее была плывущей и величавой, подол длинного, в пол, платья почти не колыхался.
Дама подошла к шкафу, еще раз погладила книгу длинными пальцами и поставила ее на полку, обернулась, скрестила на груди руки, вздохнула:
– Ничего не жаль, Марфуша, честное слово! Об одном лишь жалею, что не сыграть мне больше Джульетту, никогда не сыграть. А мудрость слов в полной мере дошла до меня только сейчас. С бо-о-льшим опозданием!
– И об этом тоже не жалейте, – звонким голосом отозвалась Марфа Шаньгина, ловко расставляя на столе чашки, блюдца, розетки с вареньем и раскладывая с веселым стуком серебряные ложечки, – садитесь лучше чай пить.
– Да, да, будем пить чай, и ты рассказывай мне про свои дела. Только подробно и обстоятельно, а не так, как обычно – с пятое на десятое скачешь…
– Хорошо, хорошо, Магдалина Венедиктовна, буду рассказывать подробно и обстоятельно, только вы, ради бога, садитесь и чай пейте. С булочкой! Совсем ничего не кушали, сейчас проверила – не тронуто! Зачем тогда я старалась?
– А ты не старайся. Ты, Марфуша, запомни, что артистке, да еще моего весьма приличного возраста, достаточно малого кусочка. И ей хватит, с избытком. Она ведь целыми днями в кресле сидит и ничегошеньки не делает. Можно даже совсем ее не кормить.
– Ой, Магдалина Венедиктовна, вы скажете, я даже не знаю… Не кормить! А чем питаться тогда? Святым духом?
– Великим духом искусства, радость моя! Как бы я сейчас сыграла Джульетту! Ты даже не представляешь!
– Да откуда я представить могу? В нашем ярском театре Шекспира не играют.
– Запомни, в этом городе нет театра! Есть ярмарочный балаган, имеющий наглость называться театром!
– Да вы не сердитесь, Магдалина Венедиктовна, лучше булочку кушайте и чай пейте, а я вам рассказывать буду…
– Верно, верно, раскипятилась, как самовар. Рассказывай, радость моя, рассказывай…
Марфа, оттопырив мизинчик, взяла чашку, чуть отхлебнула чаю и уже вздохнула, готовясь говорить, но Магдалина Венедиктовна сверкнула на нее сердитым взглядом и даже ладонью по столу стукнула, выражая свое возмущение:
– Марфуша! Я не вынесу! Возьму и отломлю твой мизинец! Или отрежу ножом! Так пальчики оттопыривают только падшие женщины, когда завлекают своих клиентов и желают показать, что они из благородных. Сколько раз еще повторять?!
– Ой, забылась я, Магдалина Венедиктовна, простите. Учите, учите меня, бестолковую…
– Ты не бестолковая, ты взбалмошная. Итак, я тебя слушаю.
Марфа глянула на чашку с чаем, сунула руки под столешницу, еще раз вздохнула и приступила к рассказу о событиях, произошедших за последнее время. Стараясь не торопиться, обстоятельно и с подробностями поведала она сначала о своем визите к генерал-губернатору, о том, что он сказал и о том, как смотрел на нее добрым взглядом, затем приступила к дальнейшему рассказу: бумаги, подписанные полицмейстером, ей доставил нарочный на дом, и она поначалу изрядно испугалась, когда увидела в дверях полицейского. Расписалась за полученные бумаги и сразу же поехала к нотариусу, который, очень удачно, оказался в своей конторе. Вместе с нотариусом отправились они к хозяевам дома, составили купчую, и в тот же день она передала им деньги. Хозяева попросили подождать до воскресенья, чтобы вывезти вещи, и получается, что уже на следующей неделе можно будет приступать к ремонту и к остальным хлопотам по устройству школы.
Слушала ее Магдалина Венедиктовна очень внимательно, пила чай, не притрагиваясь к булочке, и большие темные глаза поблескивали, словно время от времени в них вспыхивали огоньки. Она и за столом сидела прямо, не сгибая спины, гордо держала голову, и, глядя на нее, можно было подумать, что она не чай пьет, а заседает за судейским столом, и после того как выслушает, вынесет свой суровый вердикт.
Но нет.
Дослушав Марфу, улыбнулась, и весь ее строгий вид испарился – добрая теперь сидела, ласковая, будто родная мать, которая радуется за свою дочку. Она всегда такой была, бывшая актриса Магдалина Венедиктовна Громская, между сменами ее настроения – от гнева до искреннего умиления – не имелось порою даже малого зазора. Менялась мгновенно. И никогда нельзя было угадать, что последует через секунду. Вот и сейчас, продолжая улыбаться, отставила чашку с чаем, протянула руки и позвала:
– Иди ко мне, радость моя, дай я тебя поцелую! Так счастлива за твои успехи!
Они обнялись, расцеловались, и Магдалина Венедиктовна сморгнула нечаянно выскочившую слезу.
За окном прибывал мороз, и стекла окон все гуще покрывались диковинными узорами. Неяркий свет уличного фонаря пронизывал их, и казалось, что, искрясь, они двигаются, словно живые. Высокие напольные часы с длинным медным маятником громко, протяжно отбили очередной час, и Магдалина Венедиктовна, вздрогнув от неожиданности, пожаловалась:
– Никак не могу привыкнуть, эти часы бьют для меня всегда невпопад! Выдастся хорошая минута, спокойствие наступит, а они – дзынь, дзынь! Даже вздрагиваю иногда! Марфуша, продай их кому-нибудь, а мне купи ма-а-ленькие часики, чтобы они неслышные и без всякого звона – тик-так, тик-так…
– Так есть же часы такие, Магдалина Венедиктовна, вы же сами велели остановить их и спрятать. Они неслышные…
– Да? И куда ты их спрятала? Доставай!
Распахнув высокий двустворчатый шкаф, Марфа поставила маленький стульчик, встала на него и потянулась к верхней полке, но нечаянно задела какие-то бумаги, они упали и веером разлетелись по полу.
– Ой, безрукая, сейчас соберу! – она соскочила со стульчика, стала собирать бумаги и вдруг остановилась, разглядывая пожелтевшую, неровно обрезанную половину газетного листа, – Магдалина Венедиктовна, это же вы! А почему медведь рядом нарисован?!
– Медведь? Какой медведь? А-а-а… Погоди, прочитай, что там написано.
Марфа шагнула ближе к лампе и принялась читать:
– Второго января почтовый поезд номер три Николаевской железной дороги следовал в Москву при исключительных обстоятельствах, благодаря которым багаж в пути не выдавался ни на одной станции до Москвы, начиная от станции Кулицкой. Дело было в следующем. Ночью на станции Вышний Волочек неизвестный мужчина сдал в багаж большую бочку весом в три пуда десять фунтов, адресовав груз в Москву. Когда на станции Лихославль из багажного вагона начали выгружать багаж, то багажный кондуктор заметил, что багаж шевелится. Было ясно, что в бочке находится живое существо, и напуганному воображению кондуктора представилось, что в бочке заделан вор с целью в пути выбраться из бочки и обокрасть денежный сундук или же похитить ценный багаж. Кондуктор занял место в своем отделении при вагоне и начал чутко прислушиваться, что будет в вагоне делаться. Ждать пришлось недолго: скоро он ясно услыхал в вагоне тяжелые шаги, а затем треск железного денежного сундука. Наконец что-то упало тяжелое, массивное, с грохотом и стуком, но что именно, кондуктор не смог сообразить. В это время вагон подошел к станции Кулицкой. Багажный кондуктор поднял тревогу, собрал станционную жандармскую полицию, сторожей, поездную бригаду, и вся эта толпа устремилась к багажному вагону. Кондуктор открыл замок, отодвинул дверь – все ахнули и отшатнулись от вагона: в углу его стоял большой медведь, который при виде народа неистово заревел. Моментально дверь была заперта, и редкий багаж с поездом покатил в Москву. Здесь опять были созваны сторожа и жандармы, и было приступлено к ловле зверя. Сторожа придумали накинуть на него тяжелый и толстый брезент, и этим путем им удалось овладеть медведем, после чего его связали и перетащили в особое помещение, где он и оставлен впредь до распоряжения начальства или появления хозяина. При осмотре багажного вагона оказалось, что Миша, соскучившись сидеть в бочке, выдавил в ней дно и, выбравшись, начал гулять по вагону. Наткнувшись впотьмах на денежный ящик, он почти отломил у него крышку, потом на его дороге оказался большой пожарный бак с водой. Медведь напряг силу и свалил его. В заключение он переломал в вагоне все пожарные ведра. Разлившейся из бака водой подмочено было очень много багажа и совершенно залита вся железнодорожная корреспонденция. Рассказывают, что, когда медведя, обнаруженного в багажном вагоне, поместили в сарай, от него сильно пахло перегорелой водкой. Предполагают, что прежде, чем поместить зверя в бочку, его напоили до бесчувствия. Этим объясняется то обстоятельство, что зверь в первое время пути не подавал никаких признаков жизни.