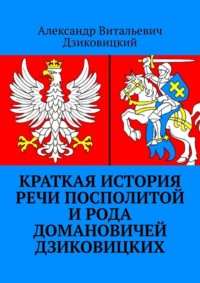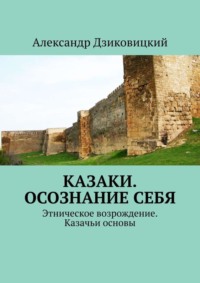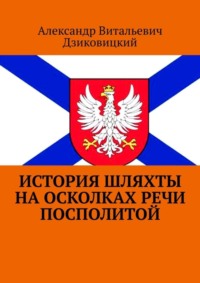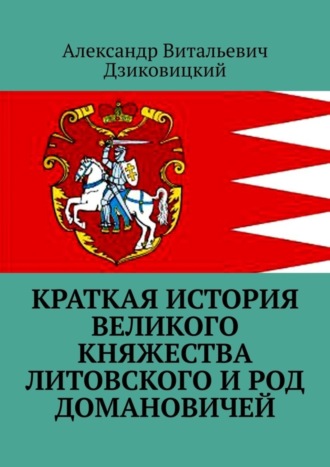
Полная версия
Краткая история Великого княжества Литовского и род Домановичей
Наиболее низкой плотностью городищ выделялась западно-полесская область. Но здесь, несмотря на небольшое число городищ, было немало неукреплённых поселений. В Полесье городища часто концентрировались в заболоченных местностях (так называемые «болотные городища»). Поэтому за пределами таких городов оказывались более возвышенные, слабо заболоченные места. Во второй половине IX века возникают первые уже настоящие города. На юг от Струменя появились города Хатомль, а затем Туров.
К X веку первоначальный Пинск (городище) сформировался как протогород. Имеющий в основании своего названия балтское (летувисское или росское) слово, городище, а затем и город Пинск означает в переводе – «напитанный». В протогородах, как и в средневековых городах Западной Европы, так же наблюдалась концентрация ремесла и торговли, только уровень их развития находился в зачаточном состоянии. Первоначальный Пинск, просуществовав около 300 лет, уступил место вторичному. Более поздний город развивался вокруг древнего городища путём расширения в сторону, не преграждённую естественными препятствиями. При этом древнее городище долгое время оставалось центром и более позднего поселения.
В IX веке возникают и первые государства – племенные княжества, во главе которых стояли вожди-князья. Каждый князь имел собственных воинов – дружину. За то, что князья руководили делами своих племенных союзов и охраняли мирное население от врагов, они собирали данину (дань) в виде пищи, одежды и оружия. Сбор данины назывался полюдьем. Та территория, на которой собиралась данина, и считалась княжеством.
На восточноевропейских землях сформировались в IX веке три крупных племенных государства – Куявия, основу которой составили земли полян (славяно-росов) с центром в Киеве, Арасания, образованная северянами (северцами, севрюками, то есть «более чистыми» сарматами) с центром в Чернигове и Славия, основой которой были земли в районе реки Волхов (наименее сарматизированное государство). Наиболее удобное место занимал город Киев, что и предопределило возвышение Киевской земли среди других восточноевропейских земель.
В процессе преобразования Куявии в более крупное государство – Киевскую Русь – завершился процесс растворения чисто росского населения в преобладающем славянском окружении. До 882 года Приднепровская Русь на западе включала в себя верховья реки Горыни, то есть её территория непосредственно граничила с Полесьем. В 882 году под властью киевского князя Олега были объединены ранее самостоятельные Русь Приднепровская и Русь Северная. При князе Олеге Киевская Русь, или, как её называли современники, «Русская земля», «Русь», стала превращаться в реальный центр силы на востоке Европы.
Вступивший после Олега на киевский престол князь Игорь (912—945 годы) продолжил политику расширения границ своего государства. В 914 году, в самом начале своего правления, Игорь жестоко расправился с древлянами, которые попытались было выйти из-под опеки киевских князей. После этого похода к Руси были присоединены и земли дреговичей. Летописи не сообщают подробных сведений об истории дреговичей, известно лишь, что у них было своё княжение. Не сохранилось и сведений о том, как произошло присоединение дреговичей к Руси.
В конце X века славянские племена расселились по всей территории будущей Белоруссии, и жили здесь вместе с древним балтским (роским) населением, постепенно смешиваясь с ним.
* * *
Ядром Туровского княжества, занимавшего бассейн среднего и нижнего течения реки Струмень, а также её притоков, стала низинная часть Полесья. Территория Пинщины являлась западной частью Туровского княжества, границы которого в основном соответствовали пределам расселения дреговичей, но на востоке не доходили до этого рубежа, так как область дреговичского города Брагина входила в состав уже Киевского княжества. Южная граница Туровского княжества начиналась почти у устьев Струменя и продолжалась далее узкой полосой по южному берегу до городов Дубно и Луцк. Западная граница доходила до Берестья (Брест) и Дрогичина. Наконец, область реки Березина, принадлежавшая полоцким князьям, была северной границей Туровского княжества и оставалась неизменной в течение последующих трёх столетий. С конца Х века Туровское или, как из-за важного значения Пинска оно ещё называлось, Турово-Пинское княжество, играло значительную роль во взаимоотношениях Киевской Руси с Польшей и литвинскими племенами, поскольку через его территорию проходил древний торговый путь из Киева в Прибалтику.
В Лещe (под Пинском) издавна существовали два очень высоких, до 5—6 метров, погребальных кургана. В 1871 году один из них был раскопан. В кургане было найдено погребение трупосожжением, а в погребальном инвентаре – арабская монета дирхем, относящаяся к Х веку, что свидетельствует о том, что Пинщина, хоть и бывшая тогда захолустьем, была связана с внешним миром торговыми отношениями.
Вторичный Пинск, уже как средневековый город, стал таковым вскоре после разрушения поселения-протогорода в начале ХІ века. Как и прежнее городище, город стоял на водных путях, связывавших Киев с Польшей и Волынь с более северными племенами. Пинск находился в 150 километрах к западу от главного города дреговичей Турова, но по реке – немного больше. За три дня водного пути из Пинска можно было добраться до Турова. Затем, минуя Туров, пиняне выходили на великий водный путь по Днепру «из варяг в греки», а по нему – в Киев, Причерноморье, Византию. Благодаря Струменю пинские купцы имели оживлённые торговые сношения с дальними землями.
* * *
Географическое понятие «Литва», давшее название будущему Великому княжеству, впервые упомянуто в анналах Кведлинбурга за 1009 год. Там записано, что сын саксонского графа епископ и монах Бруно из Кверфурта, направляясь в землю пруссов, погиб от руки язычника «в пограничной области Русции и Литвы». Предположительно это случилось между племенами ятвягов и тогдашней Русью. В «Повести временных лет» литовские племена упоминаются как северные народы, которые дают дань Руси. Сохранились и разрозненные известия о военных выступлениях русских князей против литовцев. В те времена местные племена не имели какой-нибудь политической организации. Название «Литва» на протяжении многих столетий относилось к нынешней Беларуси и было её историческим наименованием.
Но где была «Литва Миндовга», с которой начался процесс объединения балтско-литовских племён? Летописные данные и топонимика дают возможность ориентировочно определить территорию древней Литвы. На севере она граничила с Полоцким княжеством по реке Березине. По этой же реке шла северо-западная граница Литвы с Нальщанами. На востоке Литва граничила с Минским княжеством, западная граница которого не шла дальше реки Усы (приток Немана). На восточном левобережье верхнего Немана Литва соседствовала с другим балтским племенем – лотвой. Дальше граница Литвы переходила на реку Щару, большой южный изгиб которой и являлся природной границей Литвы на юго-востоке, юге и юго-западе. Примерно по верховью реки Мышанки и по нижнему течению реки Валовки шла западная граница Литвы, которая в более древние времена отделяла её от ятвягов. Таким образом, летописная Литва в древности находилась по соседству с болотистой Турово-Пинской землёй, населённой дреговичами. Огромное Выгоновское болото было природной границей между Пинской землёй и Литвой, лежащей на север от этого болота. Оно же было и причиной того, что дреговичская колонизация Литвы значительно замедлилась, поэтому последняя и смогла так долго просуществовать. Дреговичи севернее Выгоновского болота не жили даже и в относительно более позднее время.
Литва врезалась клином между Полоцкой, Турово-Пинской и Новогрудской (Новогородской) землями и наряду с ними являлась одной из исторических областей будущего Великого княжества. Именно в силу геополитического положения древней Литвы она в середине XIII века оказалась в фокусе политического соперничества соседних с ней земель, которые стремились завоевать её, что было первым звеном в расширении их власти на другие земли. В этом соперничестве одержал победу Новогрудок, который и стал центром создания нового государства – Великого княжества Литовского. Литовский историк XVI века М. Стрыйковский говорил про Литву над Неманом, «которая жила в пущах и издавна прислуживала Новогрудскому княжеству». А город Рута, где, как отмечено в летописи под 1252 годом, оборонялся Миндовг от своих противников, как раз и находился в Новогрудской земле.
* * *
Киевский князь Владимир Святой не смог подавить сепаратистские стремления окраин своего государства. Также и в Турово-Пинском княжестве, слабо связанном с Киевом, рано проявились желания независимости и оно постепенно начало обосабливаться от Киевской Руси. В частности, сын Владимира Святого туровский князь Святополк, женатый на дочери польского короля Болеслава Храброго, пригласил к себе епископа Рейнберна, присланного римским папой. В 1012 году Владимир приказал бросить Святополка с его женой вместе с епископом Рейнберном в склеп. Вскоре, правда, он распорядился выпустить пленников.
В 1015 году Владимир умер, и за киевский великокняжеский престол началась борьба между его сыновьями от разных жён – турово-пинским князем Святополком и новгородским князем Ярославом. Тесная связь с поляками князя Святополка лишила его поддержки местного населения. В 1018 году он был вынужден покинуть родину и вскоре умер где-то между «чехи и ляхи». После смерти Святополка территория болотистой Пинщины становится местом войн между полоцкими и киевскими князьями. Благодаря помощи, оказанной польским королём Болеславом Храбрым, княжество Полесское (состоявшее из Берестейского, Пинского и Туровского) досталось Изяславу Киевскому оказалась в зависимости от Киева.
Долгое правление великого киевского князя Ярослава было временем наибольшего могущества Русского государства. Семья Ярослава, прозванного Мудрым, имела родственные связи со многими европейскими королевскими фамилиями. Великий князь взял в жёны дочь шведского короля Олафа. Его сын Всеволод – дочь греческого императора Константина Мономаха. Брат Ярослава – Изяслав, – будучи князем новгородским и всех земель до западных границ Руси, включая Пинскую землю, женился на польской княжне. Добронега, сестра Ярослава, стала польской королевой; дочери – Анна, Елизавета и Анастасия – восседали на тронах Франции, Норвегии и Венгрии.
Ярослав Мудрый в 1040 и 1044 годах «разбил Литву на полях Слонимских и овладел ею до Немана», то есть захватил её левобережную часть.
В 1052 году князь Ярослав разделил территорию Руси между своими сыновьями. Каждый сын пользовался своей частью общего наследства рода Ярослава. При этом Туров перешёл к третьему сыну великого князя – Изяславу. В 1054 году Ярослав умер и Изяслав Ярославич занял киевский «стол», сохранив, однако, Туров за собой. Вплоть до конца этого века Туров в глазах правящего слоя страны рассматривался как последняя ступенька к великому княжению и это делало Туровскую землю одним из наиболее значительных княжеств на Руси.
Если Киевская Русь была страной городов, то находящееся фактически за её пределами Полесье – это была «область за городами», отсюда пошло у местных жителей и понятие «Загородья». Историческая область Полесского Загородья находилась за городами по отношению к Понеманью, поречью Струменя и Случи, к южной Волыни. В общих чертах – это юго-восточная граница Пинской волости с ХІ века, а затем – граница Пинского княжества.
В ХІ веке Западное Полесье было уже покрыто довольно плотной сетью городов. В долитовский период в той части Полесья, которая прилегает с юго-востока и юга к Загородью, стояли города Туров, Давид-Городок, Смядынь, Вручий (Овруч), Высоцк, Дубровица, Степань, Черторыйск, Камень (Камень-Каширский), Любомль, Вишега, Турийск. На территории же самого Загородья – Пинеск (Пинск), Городен (село Городная), Небль (Небель), Здитов (находился на территории села Старомлыны), Кобринь, Берестье (Брест), Каменец, Дорогичен-над-Бугом, Бельск.
* * *
Географическое и геополитическое положение Турова способствовало его более тесной связи с южными землями Руси и с их центром – Киевом, а через него и с одним из двух центров христианства – Византией. Поэтому большое влияние на культуру Туровской земли, как и на культуру иных земель Руси, со второго тысячелетия в течение двухсот лет оказывали Византия, южнославянские народы и народы Восточного Средиземноморья. Образованнейший человек своей эпохи византийский император и одновременно историк Константин Багрянородный описывает многочисленные флотилии торговых судов, прибывающих в Византию из далёкой северной Руси. В составе этих флотилий немало было однодеревок-моноксилов из земель Пинского Полесья. «Экспортный товар» Древней Руси был характерен и для Полесья – мёд, воск, меха, рыба, лён, пенька. Пинск начал быстро богатеть и расти, вскоре превратившись в главный и единственный торговый и политический центр болотистой и слабо заселённой Пинщины. Самые тесные связи, кроме Киева, у Туровской земли сложились с землями Черниговской, Волынской и Галицкой. Также, кроме одного из ответвлений пути «из варяг в греки», по Туровщине пролегал наиболее удобный путь, связывавший южнорусские земли с Польшей и другими странами Центральной и Западной Европы.
В Пинске велась своя местная летопись, но она, к сожалению, не сохранилась при последующих военных бедствиях, сопровождавшихся разрушениями города и пожарами. Поэтому сведения о древней истории Пинска черпаются из других хроник, которые оказываются крайне скупы на сообщения о «чужой» земле. Первые упоминания древнего Пинска в летописях соседних земель появляются в связи с бурными событиями, происходившими на Руси в конце XI века. К этому времени во внутренней жизни княжества сложилось весьма напряжённое положение, имевшее далеко идущие последствия. Основной причиной напряжения были часто возникавшие конфликты из-за престолонаследия и владения отдельными княжествами в размножившемся потомстве великих киевских князей Владимира Святославича и Ярослава Владимировича. Недоразумения часто приобретали острую форму и выливались в вооружённые столкновения, в постоянно бурлящую междоусобную борьбу.
В то время, как в Западной Европе развивались общество и культура, земли Киевской Руси испытывали упадок прежнего величия. После событий межкняжеской борьбы 1097 года Пинск надолго исчезает со страниц летописей.
* * *
В X веке европейские народы под влиянием христианства и христианских ценностей достигли значительного, по сравнению с прежним, культурного развития. Причём, если в Западной Европе наибольшее влияние имела культура, сохранённая христианскими монахами от времён Западной Римской империи, то на народы Восточной Европы сильнейшее влияние оказывал ближе к ним находившийся и продолжавший существовать осколок античного мира – сильная и богатая Византийская империя. А её столица Константинополь, которую славяне называли Царьград, была недостижимым примером для всех городов. Именно из Константинополя тогда начинались все наиболее значимые для Европы торговые пути, в том числе Великий Шёлковый путь и морской путь в Иерусалим. В это время и на западе, и на востоке Европы жили и трудились великие учёные, изобретатели, скульпторы, архитекторы, поэты, писатели, музыканты, актёры и художники, оглядывавшиеся на образцы культуры, доставшейся им от античности. Средневековые учёные относились к мудрецам античности, как непререкаемым авторитетам, и если сам Аристотель верил в то, что люди находятся под влиянием звёзд и планет, то и они верили в то же самое, создав целую науку – астрологию. Подобное благоденствие, однако, не продолжалось долго. И хотя Крестовые походы начались только в самом конце XI века, клубок событий, приведших к ним, начал раскручиваться задолго до этого, тогда, когда стало крепнуть и распространяться само христианство.
В Западной Европе земельные владения феодалов, как правило, наследовались старшими сыновьями. Младшим оставалась либо церковная карьера, либо участие в войнах, в которых они могли заслужить или добыть себе земли и богатство. Постоянно возраставшее численно европейское рыцарство было неисчерпаемым военным резервом королей, князей, герцогов и других владетелей. Все страны континента в XI веке сотрясали кровопролитные междоусобные войны. В Германии служилые латники превратились в бургграфов – рыцарей-разбойников. Во Франции королю отказывали в подчинении Бретань, Нормандия, Анжу, Мэн, Аквитания, Тулуза, Лангедок и Фландрия, не говоря о Бургундии и Лотарингии. В Англии шла постоянная война с кельтами, а англо-саксонское население убегало за пределы острова от королей-французов из династии Плантагенетов. То и дело возникавшие мелкие и крупные феодальные междоусобицы грозили со временем превратить Европу в сплошное поле битвы. Этому помешали начавшиеся в самом конце XI века Крестовые походы в Палестину для освобождения от мусульман Гроба Господня. Крестовые походы – эти военно-колонизационные операции – на многие десятилетия стали выходом для перенаселявшейся рыцарством Европы – благодаря походам она избавлялась от избыточной концентрации склонной к буйству, грабежам и сражениям части населения. Вместе с благородными господами из Европы также уходили многочисленные вооружённые искатели удачи. Криминальная ситуация в городах и на дорогах Европы значительно улучшалась.
Крестоносцами руководили не корыстные мотивы, как спустя века говорили о них многие историки, а идеалистические. Очевидцы событий в активно используют в своих описаниях сравнения и обороты, свойственные аскетической литературе: Христово воинство, Крестный путь, Небесный Иерусалим, брань духовная… О том же красноречиво свидетельствует ответ предводителя Первого Крестового похода Готфрида (Готфруа) Бульонского на предложение королевской короны в освобождённом от неверных Иерусалиме. Он сказал: «Я не могу носить королевский венец в городе, где носил терновый венец единственный подлинный Король». И правил он с титулом «Готфрид Бульонский, защитник Гроба Господня».
Но крестоносцы шли не только освобождать святыни Христи-анства, но и освобождать своих братьев – восточных христиан. И восточные христиане – армяне и грузины – также участвовали в первых крестоносных походах. Церковное ощущение христиан не делило их на «западных» и «восточных». Оно сохраняло представление о едином христианстве. И, как следст-вие этого, первый латинский епископ в Палестине был рукоположен в сан православным патриархом Иерусалима по просьбе крестоносных вождей!
Времени Крестовых походов вся Европа с её цивилизацией обязана зарождением того, чем она явилась затем. Европа того времени по сравнению с арабским миром выглядела варварским, отсталым континентом. Европейцы, познакомившиеся с клинками из дамасской стали, легко прорубавшими кольчуги, вынуждены были стимулировать науку как военную отрасль, либо заимствовать недостающие знания у противников. Развитие металлургии и механики привело к появлению новых видов оружия. У арабов были заимствованы порох и арбалет. Заимствование знаний по архитектуре, медицине, астрономии и многим другим наукам вырвало европейцев из тьмы невежества. Вместо сложных римских, в Европе появились удобные арабские цифры, а научные трактаты, которые написал мудрец Аль-Джебра, были переведены на европейские языки под названием «алгебра».
Польский философ начала XIX века К. Бродзиньский писал, что начало Крестовых походов и возникновение рыцарских орденов стали «переломными моментами в истории средних веков христианства, способствовавшими консолидации европейских народов, усвоению ими основ религии и развитию просвещения. […] Наконец объединённые общим делом […] европейские силы выступили под единым знаменем Святого Креста, чтобы, жертвуя собой, привести народы к внутреннему миру, какому-то порядку и сплочению. […] Необходим был энтузиазм рыцарей, чтобы с помощью просвещения выбраться из той ужасной тьмы, в которую была погружена несчастная и униженная Европа. […] Институты рыцарства были внутренним лекарством, Крестовые походы – жестокой, но практически неизбежной и спасительной операцией больного тела. Оба эти средства весьма сильно повлияли как на состояние общества, так и на просвещение и вкус».
Рыцарство, несмотря на его дикое буйство и крайности, объяснявшиеся духом времени и тогдашними нравами, выступило носителем нравственных основ. Тот же К. Бродзиньский говорил: «Сердца благороднейшей молодёжи, оскорблённые попранием законов гостеприимства, неверием и жестокостью, почувствовали потребность самоотверженно защищать угнетённую невинность, отражать несправедливые нападения, мечом и презрением мстить неверным, чтить святые законы гостеприимства даже с самим неприятелем и высоким понятием чести вдохновить всё, из чего впоследствии произошли учтивость, порядок, послушание законам и светские правила…».
Яркое и красочное искусство геральдики, зародившись ещё в скифской среде (тамги), высочайше развилось в «тёмные века», наступившие в Европе с гибелью Римской империи и когда сложилась система наследственной аристократии. В XI веке появляются первые примеры расписывания воинских щитов различными устрашающими и легендарными изображениями. Первые европейские гербы, изображённые на печатях, приложенных к документам, также относятся к XI веку. После Крестовых походов появились даже зачатки целой науки о гербах. Поначалу принятые лишь отдельными принцами, баронами и крупными сеньорами, гербы постепенно вошли в обиход всех групп, составлявших в совокупности западную аристократию. Но вся мелкопоместная и средняя знать даже в начале XIII века ещё остаётся в этом отношении обездоленной.
Для знатоков, каковыми были герольды, предъявленный герб содержал всю необходимую информацию. Герольды систематизировали знания о гербах, выработали общие принципы и правила их составления и распознавания и, в конечном счёте, создали науку «гербоведение» или «геральдику». Тогда же гербы вышли за пределы воинского сословия и были приняты у отдельных вовсе незнатных лиц и даже различных духовных особ: с 1180 года, а подчас и раньше, эти эмблемы усвоили себе дамы, к 1200 году – клирики, до 1220 года – высшие слои городского населения – патриции и буржуа, к 1230 году – ремесленники, к 1240 году – цехи и профессиональные корпорации, с конца XIII века – города, в конце XIII и начале XIV веков – гражданские и монашеские общины. В отдельных местностях (Нормандия, Фландрия, Южная Англия) даже некоторые крестьяне обзавелись собственными гербами. Короче говоря, в Западной Европе гербом мог владеть и пользоваться как отдельный человек, так и корпоративное сообщество людей, важно только, чтобы герб отвечал правилам геральдики и не нарушал чужие права.
Но иначе обстояло дело в Восточной Европе. В Польше, Литве и Венгрии право на герб имело только особо привилегированное сословие – знать. Мелкая и средняя шляхта долгое время не имела гербов.
* * *
В 983 году, после удачного похода на ятвягов, великий киевский князь Владимир совершал в Киеве требу языческим кумирам. Жреческого сословия не было в древней Руси. Старший в роде был в то же время и жрецом. Владимир, как князь-глава народа, лично приносил жертвы. Старцы и бояре предложили принести человеческую жертву; жребий пал на мальчика Ивана, сына варяга-христианина. Пришедшие к варягу объявили, что жребий пал на его сына: «Его изволиша бози себе». Но варяг ответил им: «Не суть то бози, но древосами делани суть», и отказался выдать сына. Немцы, пришедшие к Владимиру в 986 году, также говорили ему: «Бози ваши древо суть».
Согласно преданию, в 988 году киевский князь Владимир решил отказаться от язычества. К моменту выбора новой веры не было недостатка евреев в Киеве, и нашлись из них учёные мужи, предлагавшие князю принять иудейскую веру. Но выбор произошёл иначе, чем в Хазарии за 250 лет до того. Выслушав иудеев, князь Владимир спросил, где их отечество.
– В Иерусалиме, – ответствовали проповедники, – но Бог во гневе своём расточил нас по землям чуждым.
– И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других? – сказал Владимир. – Мы не хотим, подобно вам, лишиться своего отечества.
К тому же христианство уже давно проникало на Русь «явочным порядком». По здравом размышлении великий князь решил принять из Византии христианскую веру для всего своего государства и приказал низвергнуть древних языческих богов: одних изрубили, других сожгли. Перун был предан поруганию и брошен в Почайну или Днепр.
После принятия христианства в Киев были приглашены представители грамотного византийского духовенства и началось ведение русских летописей (хроник) на славяно-росском письме, переделанном просветителем Кириллом из древнего росского, родственного или даже идентичного скифо-сарматскому.
В Киевской Руси первоначально, в конце Х века, подлежало насильственной христианизации только славянское население, а более высокостатусные иноплемённые жители (потомки сарматов) имели право оставаться в язычестве. Вот почему острова росского населения ещё долгое время существовали на северо-западных территориях государства, то есть там, где находилась Пинщина. Не исключено, что население это, окружённое славянами, в значительной степени ассимилировалось ими, и было не столько этнически росским, сколько вероисповедно языческим.