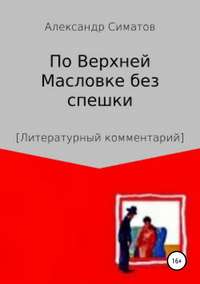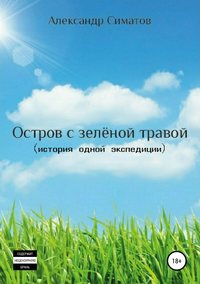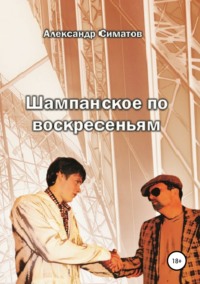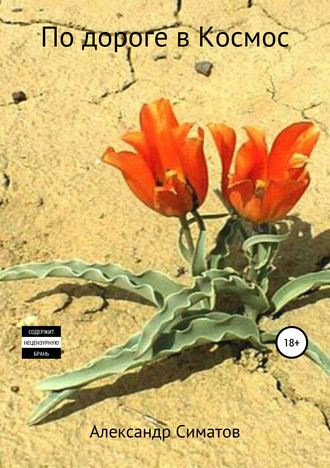 полная версия
полная версияПо дороге в Космос
Мать его, Татьяна Николаевна, в девичестве Крюкова, была из крестьян, имела четыре класса образования и обладала врожденным чувством меры, этой внутренней основой интеллигентности. Она умела читать и писать, писала как слышала, буквы у нее выходили одна к одной, аккуратные и понятные. Была она набожной и неприхотливой. И выносливой как ломовая лошадь. Как, впрочем, и все русское крестьянство, бывшее одной большой, нещадно битой хозяевами ломовой лошадью, испокон веков тащившей русский воз по родному бездорожью, но окончательно надорвавшейся под большевистские лозунги от побоев и бескормицы и более уже не встававшей – сколько ни манили овсом, сколько ни стегали.
Отец умер, мать осталась одна. Владимир Петрович старался всегда навещать ее, когда бывал в отпуске. Коротенькая улочка, на которой стоял родительский дом, в темное время суток едва освещалась тремя жестяными фонарями на деревянных столбах. Улочка не заслужила асфальта, была вечно разбита колесами телег и грузовиков и встречала приезжих грязными лужами. Но зато, в качестве компенсации нищеты, носила она имя великого сатирика Салтыкова-Щедрина.
Всякий раз по приезде Владимир Петрович с грустью наблюдал, как год от года стареет мать, как ветшает отчий дом, как медленно погибают яблони, как жизнь потихоньку уходит из старого двора и сада вместе с неповторимыми запахами детства и юности. Только бестолковые куры оставались вне времени и бродили повсюду, зыркая бусинками глаз, и замирали вдруг с приподнятой лапой посреди двора, да самодовольный петух, как и прежде, тряс бородой и бросал голову из стороны в сторону, следя за порядком.
Владимир Петрович таскал в дом воду из уличной колонки и думал о том, каково матери носить ведра с водой. Вода была студеной и очень вкусной. Ведра стояли заведенным порядком в полутемных сенцах на лавке. На крышке одного из них, на своем законном месте, всегда покоилась жестяная кружка. Он с удовольствием пил из нее не спеша, маленькими глотками. Над лавкой тянулись полки с кухонной утварью. Он вспоминал, как мальчишкой по утрам в голодные годы шарил по ним в надежде наткнуться на забытый сухарь или кусок хлеба. Ничего, конечно, не находил, но на следующее утро опять искал что-нибудь съестное.
Приехав в отпуск и появившись в дверях дома или открыв калитку сада, он ставил чемоданы на крашеный пол или на садовую дорожку и протягивал к матери руки. Она, всегда чем-нибудь занятая, увидев сына, охала, скоро вытирала руки о фартук, спешила к нему, обнимала и скупо целовала, сдерживая эмоции. Только светящиеся радостью глаза выдавали ее чувства.
Он спрашивал ее всегда одно и то же:
– Здравствуй, мама. Ну как ты? Как поживаешь?
– Спасибо сынок, хорошо живу, – искренне отвечала мать. – А что щас не жить-то? Чай в магазине хлеба-то, – какого хошь!
И от этого – сугубо русского – сермяжного понимания того, что такое хорошая жизнь, Владимиру Петровичу становилось не по себе. Перед ним вдруг проносилась череда воспоминаний. Сначала о пике советских достижений – Байконуре, из которого он только что приехал, с его ракетами и космонавтами, с его правительственными кортежами и иностранными делегациями, с его торжественными рапортами и звездами героев. С его демонстрацией успехов и сокрытием катастрофических неудач. С его бесконечными попытками догнать и перегнать неведомого заокеанского соперника.
Потом в воспоминаниях Владимира Петровича возникали казахские вылепленные из верблюжьего кизяка мазанки и худые дети, бегающие вокруг них в пыли. И перелеты в далекие аулы для оказания экстренной помощи тяжелобольным детям (кроме соседнего Байконура, некому было им помочь), где он наблюдал картины ужасающей нищеты. Он вспоминал, как забирал к себе в инфекционное отделение казахских малышей, задыхающихся от жуткого дифтерийного жабо или сжавшихся в комок и запрокидывающих назад голову от невыносимой менингитной боли. В госпитале он боролся за их жизнь непомерными дозами пенициллина, потому что другого пути не было. А когда возвращал детей живыми и здоровыми, пытался объяснить их плохо понимающим по-русски родителям самые простые правила ухода за детьми и просил не доводить дело до критического состояния, немедленно сообщать. Родители смотрели на него как на идола, а на его походный немецкий саквояж – как на волшебную шкатулку, в которой есть таблетки от всех болезней. Их благодарности не было предела. Он каждый раз ужасно мучился, не зная, как отказаться от бешбармака, которым его хотели угостить эти осчастливленные им люди. И только опытные вертолетчики, хорошо знающие местные обычаи, выручали его, самым натуральным образом клянясь хозяевам, что поступил срочный вызов и надо немедленно улетать. Но от пиалы с кобыльим кумысом отказаться уже не было никакой возможности, и он выпивал его – вопреки своей привычке пить не спеша и с чувством – залпом, до дна и не оставлял ни капли, как того требовали законы кочевников.
После он вспоминал вдруг тещино село с развороченными черными дорогами, ее покосившуюся избу. Вспоминал, как помогал обивать избу новой дранкой. И как теща, подоткнув подол юбки за пояс, в загоне из сколоченных досок месила ногами глину вперемешку с конским навозом, а он подливал ей туда воду из ведра. И как они обмазывали избу этой липкой смесью. И как потом, когда смесь высыхала, большими мочальными кистями-квачами белили избу известью. И как по осени, если выпадал отпуск, помогал убирать на огороде картошку – источник тещиного благополучия, завязая сапогами в набухшей от дождей жирной земле.
Затем, казалось без всякой связи, вспоминал тридцать два рубля материной пенсии.
Эти воспоминания приводили его к очевидности жуткого контраста жизни, к ощущению ее тотальной лжи. Его охватывало смятение, и в сознание закрадывался страшный вопрос: «А зачем моей нищей матери нужен был Юрий Гагарин?» В такие минуты он обнимал мать, только чтобы она не видела его глаз, и говорил что-нибудь банальное, соглашаясь с нею. И стоял так, вдыхая запахи старушечьей стиранной-перестиранной одежки и только укрепляясь в правоте вопроса.
Может быть, если бы не тридцать два рубля, а, например, триста тридцать два рубля, то Татьяна Николаевна гордилась бы своей страной? Вряд ли. Владимир Петрович, коммунист со стажем, конечно же, гордился бы, если бы у матери была пенсия триста тридцать два рубля. А Татьяна Николаевна вряд ли. Внучка и дочь богатых кулаков, на всю жизнь запомнившая, как сельские голодранцы и пьяницы, вдруг наделенные неслыханной властью над людьми, выдергивали из-под нее и братьев последние рогожи, отца оставили в одних штанах да рубахе, а любимого деда, лепившего с ней на Пасху маленькие куличи, забрали навсегда, – не испытывала она к своей стране ничего. Но, может быть, при такой-то пенсии улыбка изредка посещала бы ее скорбное, измученное жизнью лицо? Кто же это теперь знает.
На Земле как в Космосе (вместо эпилога)
За время службы на Байконуре космонавтом Владимир Петрович, разумеется, не стал, но пожить отшельником, как в корабле на околоземной орбите, и походить в скафандре, подобно космонавту, ему довелось.
Кажется, в самом начале 1970-х поступило в инфекционное отделение госпиталя несколько больных, небезосновательно подозреваемых в заражении чумой. В связи с этим событием, грозящим смертельной эпидемией, было принято решение в срочном порядке оборудовать бокс и изолировать в нем больных. Неудивительно, что эту работу и последующее наблюдение за больными организовал Владимир Петрович. По необходимости он был готов начать соответствующее состоянию больных лечение.
Больных с подозрением на чуму разместили в палате бокса, а Владимиру Петровичу и медсестре для проживания оборудовали соответственно ординаторскую и перевязочную. И началась их изолированная от всех жизнь. Выходили они с медсестрой из своих комнат в защитных прорезиненных костюмах, похожих на скафандры, с капюшонами, защитными очками и ватно-марлевыми масками и в таком виде направлялись в больничную палату. Костюмы плохо пропускали воздух, работать в них было крайне тяжело. После общения с больными тщательно дезинфицировали скафандры в специальном помещении и только затем, мокрые с ног до головы, возвращались к себе в комнаты и освобождались от резиновых панцирей. И так бессменно день за днем, подвергаясь смертельной опасности. Пищу и прочее им проносили через тамбур-фильтр и подавали в маленькое окошко. И забирали у них материал для проведения анализов. Владимир Петрович каждый день докладывал начальнику госпиталя о самочувствии больных и протекании окончательно не установленной болезни.
В общем, караулил Владимир Петрович эту заразу, караулил, но заболевание, к счастью, так и не подтвердилось. Видно, испугалась чума Владимира Петровича, была наслышана о его высочайшем профессионализме и исключительной добросовестности и решила не связываться со специалистом по особо опасным инфекциям.
Владимира Петровича давно уже нет на белом свете, но две безобразные старухи с косами – Чума да Холера – по-прежнему обходят Байконур стороной в память об этом человеке.
2014
Примечания
1
Бледная спирохета – возбудитель сифилиса.
2
Дератизация – истребление мелких грызунов, являющихся источниками и переносчиками инфекционных заболеваний.
3
В этот день произошла крупнейшая в мире катастрофа: такого количества жертв не было за всю историю испытаний ракетной техники. Документальные съемки – http://www.youtube.com/watch?v=81FgnAQHhPs
(все пуски всегда фиксировались на пленку, таково было правило, цвет добавлен позже).
4
1-й главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения, Главный маршал артиллерии Неделин Митрофан Иванович.
5
Янгель Михаил Кузьмич – академик, выдающийся советский конструктор ракетно-космических комплексов, главный конструктор межконтинентальных баллистических ракет для Ракетных войск стратегического назначения.