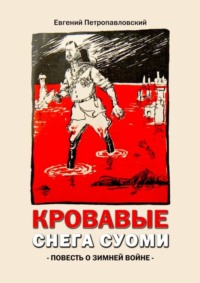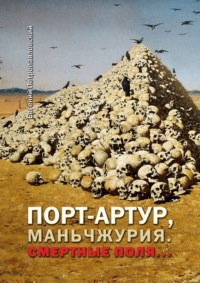Полная версия
Похождения полковника Скрыбочкина
Сколь бы тягостным и неправильным ни представлялось настоящее, Тормоз считал своей священной обязанностью прожить его без остатка, дабы добраться до справедливого будущего, в котором ему должно воздаться за всё долготерпение сразу, по максимальному тарифу – так, чтоб уже никогда мало не показалось.
Но нельзя же до бесконечности находиться неизвестно где. Тем более что Тормоз опасался чрезмерно утомиться метаниями на холостом ходу. Потому он после короткого колебания решил переменить направление своих действий – и проник на Лубянку, вскарабкавшись по стене в кабинет генерал-лейтенанта Залубясова. Где прожил ещё двое суток: пил кофе, смотрел телевизор и вырывал страницы из обнаруженных на столе порнографических журналов. Когда его арестовали, то снова не стали слушать, а от души повозили лицевой частью по полу. «Хватает и без тебя общественных проверяльщиков да разногадостных комиссий, – заключили напоследок. – Подумаешь, генера-а-ал! Езжай в Екатеринодар – своих проверять. Не то в „Матросской тишине“ места для тебя не пожалеем!»
В дурдоме было, пожалуй, не лучше, чем в «Матросской тишине». Но Тормоз хотел орден и ради этого не жалел стараний. Он отправился к британскому посольству. И когда размахнулся, чтобы перебросить досье через ограду, посольская охрана, боявшаяся бомбы, принялась отстреливаться от невообразимого незнакомца со сдвинутыми к переносице глазами и не вмещавшимся в рот языком.
Тогда Тормоз, от рождения страдавший нечленораздельностью, позвонил с уличного таксофона на Лубянку:
– Фсех фроверил. Флохо работаете.
Номер засекли и бросились на поимку неизвестного хулигана. Но Тормоз нырнул в проходные дворы и, невзирая на выстрелы, отсиделся до темноты в контейнере для пищевых отходов.
Хоть и удалось Тормозу упастись от поимки с непредсказуемыми последствиями, однако его настроение оказалось крепко испоганенным. Нет, в принципе, ему нравилось, когда окружающие сердились; это развлекало его, добавляя в жидкую обыденность бодрящую дозу перца. Но не до такой же степени!
Сейчас у него в голове нехорошо шумело, как это обычно случалось в минуты возбуждения и неблагоприятных соприкосновений с широким человеческим обществом. А в сердце у Тормоза, подобно подброшенному в чужое гнездо кукушонку, шевелилось и обустраивалось малоприятное чувство: будто он никогда не станет по-настоящему нужен ни единой живой душе на всём белом свете. Ответно рождавшийся в нём протест пока не представлялось возможным выразить ни в ярких звуках, ни в заметных движениях, ни тем более в поступках самозабвенно-героического или ещё какого-нибудь кардинального порядка.
Что оставалось делать, куда двигаться дальше? Между раздумьями Тормоз решил немного поправить своё материальное положение. Для чего долго гонялся за прохожими москвичами по Тверской улице с кирпичом в руке. На все предложения купить упомянутый стройматериал прохожие граждане, конечно, отдавали бешеному «генералу» деньги, но от самой вещи наотрез отказывались. Это было удобно, и кирпич снова шёл в незамедлительный оборот.
Когда денег показалось достаточно, Тормоз покинул Тверскую и некоторое время продолжал двигаться, не разбирая пути, а затем остановился посреди негостеприимной Москвы на незнакомой улице. Задрав голову, он посмотрел вверх. И понял, что небоскрёбы, слегка накренившись макушками, наблюдают за ним жёлтыми глазами окон, с недоброжелательным любопытством ожидая его переутомления и погибели или окончательного сумасшествия на почве нервной жизни. Тормозу стало страшно, и он подумал: «Пора домой».
Сразу после этой его мысли на столицу стал опускаться туман, слоистый и прогорклый. Тормоз знал: знаки природы всегда говорят правду, отвергая или одобряя человеческие поступки, только далеко не каждый раз умел разгадать их удовлетворительным образом. Он надеялся, что сейчас туман выведет его правильным курсом, потому решительно направился вперёд сквозь слабопроглядную мутность окружающей среды – и не ошибся: ноги сами собой дошагали до железнодорожных путей. Которые, как известно из народных прибауток, способны довести даже до Киева, не говоря уж о гораздо более простой, исконно русской местности Северного Кавказа, с рекой Кубанью и широкими полями выгоревшей стерни по всем её берегам… Правда, до самой Кубани Тормоз не добрался. Ему удалось доехать товарным поездом до Ростова-на-Дону, оттуда – автобусом – до станицы Петербургской (он не выбирал, так само собой сложилось).
В этом месте Тормоз сошёл на твёрдую почву и наконец избавился от кирпича, зашвырнув стройматериал в первое попавшееся окно. После чего явился к начальнику местной типографии Корецкому на предмет опубликования секретного досье. Тормоз устал претендовать на орден и теперь хотел только голых денег. За которые всё равно можно купить на барахолке любую награду у оголодавших ветеранов. Начальник типографии подписал с ним договор на издание компромата отдельной брошюрой и выплатил аванс.
Через несколько минут незнакомца в генеральской форме уже можно было увидеть подле продовольственного ларька на автостанции дерущимся с местными старухами в очереди за шоколадными конфетами с ликёром.
***
Корецкий состоял в подпольной ячейке ПББ (партии большевиков-бомбистов), потому ни минуты не сомневался: секретное досье – чистейшей воды провокация. Он позвонил жене, дабы та перепрятала партийную кассу, и двинулся в Екатеринодар – сдаваться.
Входя в Управление безопасности, он был слишком взволнован, чтобы заметить двигавшегося рядом давешнего «генерала» – с кульком конфет в руках, – правда, совершенно босого: сапоги у него в дороге отобрали хулиганы.
Никогда в жизни Тормоз не видел родного отца. И теперь мучился загадкой: отчего этот зреловозрастной начальник типографии так испугался его при подписании договора, но теперь повсюду преследует своего мимоходного клиента?
«Может, он – мой батюшка? – с дрожью в мыслях думал Тормоз. – Надо только убедиться как следует, а то – зачем же убивать постороннего…»
Корецкий записался на приём к полковнику Скрыбочкину, и это оказался недобрый час. Потому как начальник безопасности ходил сегодня с огромной шишкой промеж глаз, что не прибавляло настроения ни ему лично, ни, тем более, всем окружающим.
Причина шишки случилась полчаса назад, когда Скрыбочкин, заглянув в кабинет капитана Куражоблова, застал его за пристрастным допросом Ирины Грыжи – девахи непропорционального вида, которой вменялось вредительское уничтожение тридцати четырёх тонн копчёной колбасы на городском мясокомбинате плюс транспортный террор. Дело заключалось в найденном на автовокзале чемодане – его было приняли за обычное взрывное устройство, но вахтёрша Ирина Грыжа по жадности заглянула внутрь багажа и обнаружила там только что вылупившихся из яиц детёнышей крокодилов. Раз хозяин контрабандных животных не нашёлся, Грыжа поселила их у себя дома, в ванне, радуясь свалившемуся богатству… Однако вскоре её надежды на лёгкий доход лопнули: в зоопарке покупать крокодилов отказались, разъяснив, что теперь и работникам кормиться нечем, а скотина уж и подавно подохнет, которая несъедобная… Так жили земноводные у вахтёрши в квартире, пока не подросли – и в одну ночь, выбравшись из ванной, стали обкусывать Грыжиному сожителю всё, что свешивалось с постели. Сожитель с воплями скрылся, а обозлённая деваха спустила земноводных в озеро Карасун, дабы всех уничтожить.
Тут и началась диверсия, потому как городская канализация и стоки нефтепродуктов оказались живительными для крокодилов. Которые теперь росли и стремительно размножались, иногда прямо на проезжей части, а то ещё хватали за колёса трамваи и троллейбусы – и пытались стащить их в тёмные воды Карасуна. Ещё большей подлостью со стороны кладовщиков мясокомбината оказалось списывать разворованную колбасу за счёт животных, злую волю коих отныне Куражоблов инкриминировал гражданке Грыже, которая третьи сутки не могла от него откупиться… Сегодня ради истерики она запустила капитану в голову массивной железной пепельницей, но вместо него попала в дверь, открыв которую, Скрыбочкин подставил под удар свою переносицу…
Полковник был уже почти без сознания от злости, когда увидел появившегося с протянутым досье Корецкого. Без лишней словесности Скрыбочкин выхватил у того из рук папку с компрометирующими бумагами и зашвырнул её в ящик стола. А затем, повалив начальника типографии на пол, принялся разбивать об его голову свои пыльные туфли.
Через несколько минут посетитель уже выдавал имена членов своей подпольной ячейки… Хотя поначалу Скрыбочкин даже не подразумевал требовать ничего подобного; но это его немного успокоило.
В результате Корецкий получил короткий отдых в одиночной камере.
***
За окном густела темнота, делая наружный мир до такой степени похожим на беспробудную болотную хлябь, что выходить в него не хотелось. Тем более что дома никто, кроме жены и тёщи, полковника не ждал.
Впрочем, служебный кабинет Скрыбочкина тоже вряд ли кто-нибудь назвал бы привлекательным и тем более уютным, ибо тот был под стать своему хозяину: пыльный, заваленный порожними бутылками из-под спиртного, затянутый по углам паутиной (уборщица заходить сюда боялась, а полковник не настаивал, поскольку не утруждался загружать голову пустяками). Так или иначе, другого места для ежедневного времяпрепровождения и мыслительных процессов у него не имелось. Оттого и сегодня он намеревался задержаться здесь допоздна, коротая одинокий досуг чтением мужских журналов, разгадыванием сканвордов и метанием дротиков в дверцы одёжного шкафа.
Вспомнив о полученном от Корецкого досье, Скрыбочкин вынул его из ящика стола, полистал, пробегая по страницам рассеянным взглядом – и укрыл в прежнем сейфе. Затем побродил по кабинету, спел несколько бодрых песен военного времени и на ходу утолил жажду стаканом «Рябины на коньяке». Уселся в своё крутящееся кресло, откинулся на мягкую спинку и, забросив ноги на стол, принялся переваривать в уме разнолико переплетённые события очередного рабочего дня – как ему казалось, благополучно завершившегося.
Однако тут снова явился неугомонный Парахин, по обыкновению скучавший по ночам. И они – для будущего фильма – занялись кастингом среди заключённых, содержавшихся во внутренней тюрьме Управления. Правда, Скрыбочкин не переставал беспокоиться, отчего через каждые пять минут отлучался к себе в кабинет проверить, на месте ли секретные документы.
Как ни странно, тревога полковника оказалась небезосновательной: через полчаса досье таки пропало.
Его изъял Тормоз. Которого Скрыбочкин, вновь с угрозами рыскавший среди поднятых по тревоге подчинённых, встретил в коридоре.
– Ишь, вырядился во всё генеральское, – опознал полковник известного в городе сумасшедшего. – Украл, наверно, кителёк-то?
– Гы-ы-ы, – подобострастно выставил зубы Тормоз, торопливо выворачивая свои пустые карманы.
– На кой мне сдались твои карманные унутренности, когда ты хформу одёжи нарушаешь, – Скрыбочкин снял с его головы генеральскую папаху, водрузив вместо неё свою прожжённую окурками фуражку. – Бери мой убор, штоб не нарушалась субординация. Или не знаешь поговорку: без атамана дуван не дуванят? И вообще – нечего выставляться. Живи осторожнее. Это тебе не поле перейтить, не здря же в руссконародной пословице про то говорится. А ты ходишь и выставляешься во все стороны улыбкою, точно объелся пчелиным салом на три года вперёд! Нехорошо это, друже, не по рангу тебе… Так што давай беги отсюдова, лихобед злосчастный, покамест я тебя в дурдом сызнова не запрятал!
Сопровождённый дружелюбным пинком, Тормоз выбрался на улицу. Он хохотал в ночном мраке и прыгал вокруг редких автомобилей, и подмахивал ногами, выкрикивая лозунги демократической направленности. Он был доволен. Потому что сумел куском проволоки открыть одиночную камеру, где сидел подозреваемый им в отцовстве Корецкий, и вернуть тому, несмотря на протесты, папку с компроматом.
…Корецкий не успел выскочить наружу: таинственный генерал со страшным лицом бросил папку к его ногам и быстро запер дверь, успев сказать лишь загадочно-зловещее:
– Батя… нечесна, бляха.
Начальник типографии прибитым зверем метался среди голых стен, не находя места, чтобы спрятать проклятое досье. Тут камеру вновь отворили, и на пороге появился зелёный от обиды на жизнь полковник Скрыбочкин, а с ним – гражданин с депутатским значком на крапчатом от винных капель лацкане. Упомянутый гражданин взглянул на застывшего Корецкого и отрицательно пошевелил головой:
– Нет, это не Лев Толстой. Рожа дюже мудаковатая. На такого классика глянувши, любой скажет: шо напишет писака, не слижет и собака.
– Досье, – вместо оценки прошептал Скрыбочкин перехваченным от удивления горлом.
– Шо? – не расслышал депутат.
– Обратно похитил досье, – пояснил полковник сквозь тяжёлое дыхание и вытянул указательный палец в сторону Корецкого. – Нет, ты только погляди, какой махровый шпион… Упрямственный прохиндей, дальше некуда. Видать, дюже жирная рыба по любой мерке.
И, подскочив к арестанту, сорвался на крик:
– Видать, хорошо тебя обучали воровскому делу! Да жаль, главному не доучили! Тому, што ежли украдёшь чужое, то после обязательно утеряешь своё собственное! А ну, признавайся, покамест я даю тебе безболезненную возможность: на кого работаешь, падлюка иноземный?
– Н-ни на кого н-не раб-ботаю, – пролепетал Корецкий деревянными губами. – С-свой я, русский.
– Брешешь, – оборвал Скрыбочкин. – Только зря стараешься. Передо мною расточаться на брехню ещё бесполезней, чем размахивать газетою над светлячком, надеючись разжечь костёр!
И, артистически закатив глаза, понизил голос:
– Даю полторы минуты на размышление. Ежли не признаешься, какой вражьей разведке запродался, беды не оберёшься. И не дай боже тебе удостовериться на собственной шкуре, до какой степени у нас тут слово и дело мало расходятся промежду собою. И в том, што такой терпеливый челувек, как я, обязательно умеет добиться от подследственного контингенту всего, чего требуется.
***
Тормоз за четверть часа проел на базаре последние деньги и пошёл безмаршрутно гулять по городу. Он шагал с упрятанными в карманы кулаками и старался незаметно для окружающих задушить в них остаточную пустоту прожитого дня. Процесс тянулся медленно и неопределённо: пустота продолжалась, мучительно умирая, но окончательно гибнуть не желала. Параллельным взглядом Тормоз шарил по сторонам, мысленно заглядывая в карманы ко всем встречным-поперечным. И ему казалось обидным содержимое этих бесчисленных разноразмерных карманов, которое отобрать в свою пользу не представлялось возможным не только единым махом, но даже и за тысячу лет грядущей жизни.
В свете вышеупомянутой несправедливости Тормозу снова захотелось денег. Нет, оно, конечно, жить можно и без средств. Например, уйти из города и, поселившись среди живой природы, питаться разными травами, стеблями и кореньями, а для разнообразия рациона вынимать из гнёзд яйца соек, дроздов и других птиц, чтобы пить их сырыми или про запас варить вкрутую над неторопливыми кострами из подножного хвороста и сухих корчаг. Однако подобная жизнь от него никуда не уйдёт, она всегда рядом, если возникнет желание удалиться от людей. А пока нужны были денежные средства.
С такими мыслями Тормоз, украв в магазине скрипку, уселся на тротуаре играть собственноручные абстрактные фантазии, чтобы ему подавали милостыню. В результате получался нестерпимый шум, оттого жильцы окрестных домов скорее откупались от невразумительного орденоносца и гнали его прочь. Тормоз переходил на новое место и вновь принимался терзать ни в чём не повинный музыкальный инструмент. Это продолжалось до тех пор, пока он не наполнил мелкобумажными деньгами полковничью фуражку. Затем примостился на скамейке и, отгоняя смычком наглых комаров, постепенно уснул.
Ему снилась смерть, и он благословенно хохотал, сбивая с толку двух устроившихся под кустом непотребных тёток. А по его щекам торили извилисто-блестящие дорожки слёзы счастливого полузабытья. Посреди которого Тормоз содержал себя в готовности услышать секретный сигнал высшего разума, дабы незамедлительно встать и идти без оглядки по всем дорогам мира, сбивая в кровь ноги, – до тех пор, пока не настанет счастье для каждого человека на планете. Или пока он сам не умрёт от усталости и разрыва сердца, ибо в любых краях земли людям одинаково нравится наблюдать за чужой смертью, восхищаясь ею с безопасного расстояния, – вот и пусть наблюдают и восхищаются, какой он, Тормоз, был и есть, живой и мёртвый, даже без геройской звезды на груди, а всё равно с чужими орденами и при генеральских погонах, а хотя бы и совершенно голый, какая разница, если каждому наконец станет понятно, насколько светлая личность заканчивается перед ними; а потом, наверное, в его честь воздвигнут памятники в каждом городе, и это правильно, это хорошо, люди должны знать и помнить, какой он был выдающийся и в собственном роде неповторимо замечательный…
***
В описываемое время Корецкий в своей одиночной камере мучился мыслями. Он знал, что не выдержит дальнейшего физического давления, потому перекладывал в уме лихорадочные варианты, выбирая спецслужбу, работником которой безопаснее назваться. Впрочем, вариантов оказалось немного, ибо он не знал иностранных языков, кроме смутно всплывавших в памяти немецко-фашистских команд, знакомых по телефильмам о войне.
Думать о спасении мешали доносившиеся из-за стены крики:
– Ой! За шо вы меня бьёте? Я ни в чём не виноватый! Ой-ой! Не бейте ногами, гады сволочные! Мне ничего не известно!
– Не надобно кормить меня баснями про свою невиноватость! – раздавалось в ответ. – Перестань отвиливаться от вопросов и говори по существу!
– А я затрудняюсь по существу! Я не могу по существу! У меня мозг повреждённый! Потому голова болит от ваших побоев и память теряется среди синяков!
– Ничего, я тебе память-то освежу! Нам с тобою, друже, некуда поторапливаться, так што будем тута роздвлекаться хучь до завтрева!
– Не убивайте! Я всё скажу, только не бейте по голове! И по почкам! Не надо по почкам! Ой-ё-ёй, бо-о-ольно! За шо издеваетесь?! Изверги тиранские! Живодёры проклятущие! Хватит истязательствовать! Всё, шо надобно! Скажу-у-у!
– Скажешь, конешно! Я из тебя счас все жилы вытягну! И зубы повыкрошу один за одним, как зерновьё из кукурузного початка! Ещё пожалеешь, што на белый свет народился! Вот тебе, вот тебе, диверсионная рожа!
Следовали глухие звуки ударов, а за ними – новые крики.
Корецкий вздрагивал и, вжавшись в угол, пуще прежнего торопился вспомнить какие-нибудь немецкие слова.
Рядом, через стену, сидели за столом Парахин и Скрыбочкин. Перед ними стояла приближавшаяся к завершению третья бутылка «Перцовки». Парахин, опустошив стакан, заговорщически подмигивал – и, запрокинув лицо, орал в полное горло:
– Звери! Достатошно надо мной истязательством заниматься, я про всё согласный признаться! Под любой бумагою подпишуся!
Скрыбочкин, в свою очередь, допивал из железной кружки и выпучивался криком:
– Дак говори же всю правду, гадина масонский, не выкручуйся! Не до формальностёв мне, штобы ты тут под бумагами подписувался, когда незримый бой идёт по всему миру между добром и злом! Или думаешь, мне доставляет удовольствие кулаки чесать, тебя мордуючи? Так себе роздвлечение – прямо скажу, не аховское! Знайдутся дела и поувлекательнее! Давай-давай, выкладуй всё по правде! Как на духу! Быстро, покамест у меня терпение не скончилось! А то мне вже на ужин идтить пора! Я ж от нетерпения могу тебе и глаза повыковырювать: левый – вилкою, а правый – ложкою! Запросто! Али руку сломаю и потом погляжу, как ты станешь вертеть вола перед лицом закона! Што, язык проглотил? Быстро говори, падлюка, всю требуемую информацию!
И, размахнувшись, бил железным кулаком в стену.
Такое представление в однобоком режиме продолжалось минут двадцать. Наконец Скрыбочкин, заглянув в иссякшую посуду, выдохнул:
– Хватит пока, устал я горлом надрываться. Пойдём, друже, поглядим, какая там от наших стараний атмосфера получается…
После этих слов полковник извлёк из кармана бутылку «Балтики» номер девять и, сковырнув зубами крышку, поднялся на неуверенные ноги.
Когда они отперли камеру Корецкого, тот закрыл голову руками:
– Скажу, всё скажу! Я уже не могу выносить этого в здравом рассудке! Признаюсь в чём хотите, только не бейте!
– Ну?! Быстро! – Скрыбочкин свободной рукой выхватил из кобуры пистолет. – На кого работаешь?
– На немцев! – взвился начальник типографии, всем существом желая жить без повреждений.
– Вот и хорошо, – Скрыбочкин почесал затылок пистолетным стволом и, отхлебнув пива из бутылки, обернулся к Парахину:
– Ладно, пусть этим фрухтом теперь капитан Куражоблов займётся. А мы счас порешаем твой вопрос.
…Следующие два часа они бродили по камерам… Никого, похожего на Льва Толстого, отыскать не удалось.
Однако удача в этом вопросе выглянула с неожиданной стороны.
Когда Парахин со Скрыбочкиным двигались мимо отхожего места, они не знали, что Агнессу Шкуркину, утомлённую многосуточным бдением, сморил сон прямо под выцарапанной на стене традиционной надписью: «Просьба окурки в унитазы не бросать. А то они намокают и плохо раскуриваются». Зато этот факт подглядел в щель между дверью и полом задержанный ею Адольф Штраух. Для которого безумие и разум слепились воедино, готовые взорвать его мозг одновременно с мочевым пузырём, и он был готов на всё, лишь бы спастись от тяжело надвигавшейся гибельной перспективы.
Обмирая от ужаса, Штраух в молниеносном темпе отправил давно наболевшую надобность своего организма и вылетел в коридор на беззвучных ногах.
Навстречу ему возникли из-за поворота Скрыбочкин и Парахин.
– Стой! – мгновенно отреагировав на нового человека, скомандовал полковник.
И, ощупав агента прищуренным глазом, раздумчиво накренил лицо в сторону депутата:
– Поглянь, какой персонаж. Даже бороду клеить не надобно – чистый Лев (у Штрауха за время вынужденного затворничества поседели волосы и, кроме того, успели отрасти белые усы и борода).
– Ежли он ишшо с нунчаками обращаться сумеет, тогда другое дело, – Парахин близоруко сплюнул мимо пола.
– Умею, – готовно закивал Штраух, которому смертельно не хотелось возвращаться в безжалостные лапы Агнессы Шкуркиной. – Нас в разведшколе обучали.
– Тогда будешь Львом Толстым, – сказал Скрыбочкин (Штраух пошевелил губами, запоминая свой новый псевдоним). – А што касаемо твоих способностей, то счас мы их натурально проверим.
…Взяв в спортзале упомянутое приспособление для восточных противоборств, они вошли в камеру, где сидел начальник типографии. Скрыбочкин поставил Корецкому на голову пустую консервную банку из-под контрафактной тушёнки и вручил нунчаки Штрауху:
– Показуй своё умение. Ежли с трёх попыток сковырнёшь жестянку с этого врага народа – отпущу трудиться в пропаганду. Не то пеняй на собственную криворукость и не жалуйся, што тебя матерь на белый свет произвела неправильным способом.
Штраух сшиб мишень с первого раза. Потом дважды повторил удар на бис. После чего Скрыбочкин отобрал у него оружие, похвалив:
– Справно у тебя выходит. А ну, счас я тоже спробую.
После этих слов он отхлебнул пива и, взявшись за один из двух металлических стержней, принялся со свистом раскручивать на цепи второй…
Полковник, в отличие от германского агента, не обучался в разведшколе и не имел специальной подготовки. Поэтому в конце концов нанёс невероятной силы удар себе по затылку. И, раскинув ноги, поплыл в горячо запульсировавшую жижу кровавистых огоньков, закружился, запорхал невесомым мотыльком внутри самого себя, быстро забывая окружающее пространство и расшепериваясь в пучине беспамятства.
Трое оставшихся в сознании подхватили его и понесли к ближайшему кабинету с мягкой мебелью, не замедлив вызывать «скорую помощь».
***
Под съёмки Парахину выделили без малого четыре миллиона рублей. Которые он и пропивал восьмые сутки, запершись в номере-люкс екатеринодарской гостиницы «Москва». Оператор, режиссёр и вся остальная массовка сбежали. Подле Парахина теперь оставался подневольно пьющим единственный Штраух, связанный по рукам и ногам четырьмя вафельными полотенцами с расплывчато-чёрными гостиничными штампами.
В редкие минуты возвратного сознания агент понимал, что его жизнь висит на волоске. Постепенно превращаясь в собственную тень, он завывал наподобие подстреленного серебряной пулей вурдалака, бился головой об пол и строил планы побега. Но вскоре вновь наступали сутемки и белая горячка.
Удобный случай нечаянно представился поздним вечером, когда Парахин, перестав слушаться своих ног, не сумел подняться из-под стола. Последним усилием он дотянулся ножом перерезать сковывавшие Штрауха казённые полотенца и послал его в ресторан за водкой. Которой тот покупать не стал, а – дерзким образом подсунув обратно под дверь полученные от депутата тысячерублёвые купюры – навострился прочь от этого неумолимого человека. Впрочем, не сказать чтобы поначалу его темп мог внушить сколько-нибудь достаточную надежду на освобождение. Просто агент БНД последним усилием задушил в себе сомнения и, едва выпустив деньги из рук, ступил в трепет и кромешье неопределённости, из коих не ведал, выберется ли живым.