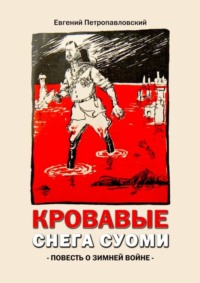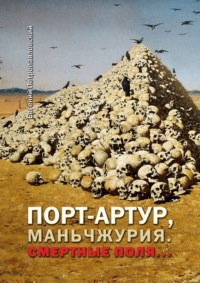Полная версия
Похождения полковника Скрыбочкина
Но кому писать-то? Отцу? Или президенту Соединённых Штатов Америки? Выбор в пользу второго оказался нетрудным, поскольку президента Тормоз видел много раз в новостях и представлял его гораздо отчётливее, чем сохранявшегося исключительно в воображении неубедительного родителя. Отыскав под шкафом выцветшую ученическую тетрадь, он вырвал из неё два листа, взял две шариковых ручки и устроился прямо на полу – излагать наболевшее желание всё бросить, позабыть прежнюю свою участь и кардинально перемениться душой и телом. Писал он сразу на двух листах: правой рукой – слева направо, а левой – справа налево. Впрочем, разницы в результате не было никакой: через несколько минут оба листа покрылись густыми каракулями одинаково непостижимого содержания. Тщету своих усилий Тормоз оценил не сразу. Он долго разглядывал упомянутые письмена, пытаясь распознать в них какой-нибудь смысл. Однако не сумел. Да и конверта всё равно не было. Порвать несостоявшиеся послания президенту, больше ничего не оставалось. Сделав это, он поднялся с пола.
До сих пор Тормоз шарахался, как от чумы и холеры вместе взятых, от любого завалящего зеркала – но сейчас его потянуло приблизиться к притаившемуся в коридоре трюмо: он долго вертел головой, разглядывая на трёх засиженных мухами льдистых поверхностях свои отражения с видом упорного путешественника-следопыта, отыскавшего наконец старинных друзей, которых окружающие считали давным-давно рассосавшимися в зыбучей воронке времени. Полузабытые друзья тоже разглядывали его из расположенных под углом друг к другу зеркал ветхого бабкиного трюмо. Они приветливо скалились, беззвучно шевеля губами, и Тормоз из этого ритмично повторявшегося шевеления вывел нескончаемую, словно пожирающая свой хвост змея, простую и единственно правильную фразу: «Всё-можно-всё-можно-всё-можно…»
Удовлетворённый таким результатом, он прошагал обратно в комнату. Поочерёдно присел на все три имевшиеся там мягких стула – впрочем, задержался на каждом не долее нескольких мгновений. Потом аккуратно перелистал телефонный справочник с сосредоточенным лицом следственного работника, пытающегося после долгой потери памяти опознать знакомые буквы… собрал вещи, которые счёл необходимыми, в большую хозяйственную сумку… переоделся в свою лучшую одежду: синие тренировочные брюки с надписью «Adidas», украденные в прошлом году с верёвки в офицерском общежитии, и пушистую жёлтую толстовку с коричневыми рогатыми жуками на плечах, подаренную Тормозу сердобольной пожилой продавщицей магазина секонд-хенд. В качестве обуви, правда, оставил себе прежние вьетнамки – не по причине удобства, а из-за отсутствия инакомыслимых вариантов.
Больше ему было нечего делать дома. Висевшая под потолком стоваттная лампочка без абажура освещала ненужное место, утратившее силу притяжения – если не навсегда, то как минимум на ближайшее время, требовавшее новых мест для обновлённых мыслей и правильных действий.
Тормоз считал себя готовым к дальнейшему. И, машинальным движением прихлопнув комара на стене, он вышел из комнаты в коридор. А оттуда – на лестничную площадку, торопливо закрыв за собой дверь, дабы не выпустить наружу запах гари и скрип старого паркета.
***
Тормоз не сомневался, что отныне у него всё будет по-другому. Намного проще и равноправнее, нежели вчера, позавчера и в остальные бесполезно миновавшие дни.
На улице ему в лицо переменчиво задышал бесприветный ветер, густой и тёмный от подхваченных где ни попадя чужих соображений. Он принялся было высасывать влагу из глаз Тормоза, точно стремясь уверенным темпом вогнать неустанного человека в куриную слепоту. Однако никакая стихия теперь не представлялась Тормозу достаточной для страха и неустройства, не говоря уже о более категорических последствиях. Оттого, с непокорной решимостью раздув ноздри, он склонил голову навстречу беспокойному воздуху и направился вперёд, поторапливая себя строгим голосом:
– Ыду! На-а-ада! Ыду-у-у!
Он опасался, как бы по дороге не умереть от жажды немедленных действий и в окончательно бездумном состоянии не позабыть, куда и зачем ему надо двигаться.
Однако вскоре и это – последнее – опасение пропало: Тормоз понял, что не позабудет о важном даже в отсутствующем образе. Тогда он сбавил темп и зашагал спокойнее, ощущая на лице тысячи несбывшихся поцелуев отца и матери, процеживая сквозь умственную ткань разрозненные мазки звуков и очертаний всего подряд, приветственно взмахивая рукой перед лицами встречных пенсионеров и автомобилей и понимая каждый луч спрятавшегося за домами солнца как путеводную нить своего настоящего путешествия с прозрачной и близкой целью.
***
Он целеустремлённо шагал по улице обеими ногами, обутыми в резиновые вьетнамки. И шутливо цыкал на собак и кошек. И, притопывая, хлопал себя по коленям. И, широко улыбаясь, говорил встречным девушкам:
– Гы-ы-ы! Оби-бятельна-а! Бу-у-и-им! Ы-ыпа-а-ац-ца-а!
Девушки в ответ ничего особенного не делали, но вели себя по-разному. Одни застывали на месте с разинутыми ртами и глядели на Тормоза как заворожённые, а другие, состроив скромные лица, наотрез отворачивались от него. И тем, и другим, и даже пожилым женщинам, на которых Тормоз не глядел, казалось, что перед ними бессмысленно шевелится человек, не сознающий себя. Но Тормоз сознавал. Оттого, стараясь не спотыкаться на сиюмоментных пустяках, продолжал струиться сквозь незаметное время, точно зверь, крадущийся в ночи сквозь хитроумно искажённые запахи и отражения самого себя в поисках неосторожной добычи.
Он пришёл к одиннадцатиэтажному дому, сверил его номер с тем, который был указан в телефонном справочнике – и, поднявшись на лифте, позвонил в нужную квартиру.
Звонок разбрызгал по лестничной клетке старческий дребезг – настолько противный, что, казалось, был способен поцарапать неподготовленные уши. Но Тормоз не слушал ничего, кроме собственных мыслей, а хозяева, похоже, давно обтерпелись – дверь ему без слов недовольства отворила молодая тонкошеяя женщина с бледными волосами и большими, широко расставленными глазницами, какие бывают у зажившихся на этом свете покойников:
– Вам кого? – удивилась она; и, отступив на шаг, позвала:
– Грыша! Это, должно, до тебя прыйшлы!
– Агы-гы-ы-ыу, – закивал Тормоз, энергично брызгая слюной. – Додибя брийшлы! Сиса дедаем бо-бо! Ха-ха! Бо-бо-бо! Ха-ха-ха-а-а! Бо-бо-бо-бо-бо-хы-хы-хы!
– Вы, молодой человек, не того мне тут, не нахальничайте, не надо придурюваться с порога… – встряхнув скудногабаритной грудью, попыталась по-хозяйски преградить ему путь женщина, опомнившаяся от неожиданного впечатления и теперь желавшая отчётливо продемонстрировать своё недовольство незваным кривоязыким незнакомцем. Она крупнозубо оскалилась и протестующе раздула щёки цвета варёной колбасы:
– А ну-к, не зашагивайте сюдыть с непомытыми ногами! Если очень надо, то дожидайте здесь. Сейчас он сам до вас выйдет!
– Пущай идёть с ногами бестревожно, ему теперя всё дозволено, – неслышным голосом прошелестела из-за спины Тормоза тень старой ведьмы, расплываясь на стене пятном близкого кошмара. И по коридору просквозил ветер предвкушения, поднятый крыльями мстительных загробных ангелов, доселе прятавшихся в скрытом воображении мира.
– Уз-зё м-мождна! – сквозь широкую улыбку повторил Тормоз, стараясь не забыть, что не он себя выдумал, оттого не ему и отвечать за свои поступки, если те кому-нибудь не понравятся.
Он решил более не тратить время и мысли на удовлетворение чужого любопытства, а просто убрал с лица улыбку и зажёг в глазах чёрное пламя оскорблённой невинности. После чего вынул из хозяйственной сумки большой кухонный нож с недавно тупой от рубки курятины режущей кромкой (перед выходом Тормоз не забыл тщательно наточить инструмент). И деловито полоснул супругу добровольного дружинника под кадыком. Несчастная, руководствуясь привычной женской логикой, хотела было нешуточным образом возмутиться и продемонстрировать максимальные возможности своего голоса. Однако вопреки намерению раздражённого ума ничего не успела. Только вытолкнула наружу быстрые струи крови из неудобного прореза и дряблотело рухнула на клетчатый коридорный половик. После чего сделала усталое лицо равнодушного ко всему человека и нерешительно – будто сомневалась в правомерности своего действия – закачала жилистыми ногами, расхристав полы короткого шёлкового халата с рисунком из крупноглазых зайчат и мохноухих медвежат.
– Гы-ы-а-а-а, – шевельнул горлом убийца. И, взяв её за волосы, в несколько продолговатых движений отделил ножом голову от бывшего женского тела.
Из двух отверстых концов переполовиненной шеи толчками хлюпала кровь; а сквозь тщившиеся превратиться в кристаллы глаза покойницы прорастал весь ужас прошедшего и будущего времени.
Тормоз поглядел на своё отражение в этих глазах, и ему стало понятно, что не каждый человек носит в себе только собственную смерть. Некоторые взращивают внутри шагающих за ними каждодневных теней также и разносрочные смерти других людей, подобно кукушкам, бескорыстно высиживающим в тесных гнёздах чужие яйца. К категории последних Тормоз причислил себя, и это придало ему гордости. А ещё он удивился мудрой природе, умеющей невероятно легко и справедливо устраивать всё к лучшему.
В это время в коридор выглянул Шмоналов. Который не то чтобы не умел приводить в активное движение своё мозговое вещество, а просто старался не злоупотреблять данным излишеством, поскольку не любил напрасного напряжения; оттого с возрастом, когда жизнь заставляла таки переступать через свои принципы, ему делать это становилось всё труднее.
– Шо там такое, а? – потревожил он душный воздух квартиры непрокашлянным после недавней сигареты горлом. – Ш-шо т-та-а-ако-о-о… – и осёкся, не веря подлому зрению.
– Ахфету зъив! – угрожающе двинулся на него Тормоз. – Мая-то… хохф-ф-ф… гогухфета була, бляха, дак ты ше зъив!
– Шо-шо? – пробормотал хозяин квартиры, попятившись. – Н-нед-доп-понял я, шо в-вам т-тута н-надоть г-граж-жданин?
Грозный вид кухонного ножа в слабоизвестных руках перевернул душу Шмоналова на сто восемьдесят градусов – и наверняка заставил бы его спасаться куда глаза глядят, однако места вокруг было мало ввиду ограниченности давно намозолившей глаза жилплощади. Несколько шагов добровольный дружинник отступал перед гостем, теряя тапочки и цокая ногтями по рыжему ламинату – пока не упёрся залубеневшими от ужаса ягодицами в старомодную финскую стенку.
– Побучи, фука! – на одном дыхании прошептал Тормоз. И, не медля более ни секунды, кривым движением замазанного лезвия распахнул живот своему обидчику. После чего бросил женскую голову в недалёкую сторону, взял освободившейся рукой торопливо выпучивавшийся наружу кишечник Шмоналова – и движениями фокусника, предполагающего извлечь из шляпы зайца или кролика, потянул его по комнате. Мимо стола, над креслом, вокруг телевизора…
– Господи-божечки, куда ж ты их, кишочки мои… – удивился хозяин квартиры. – Я тебе, незнакомый человек, никаких санкциев на медицинскую ревизию не давал, ты кем уполномоченный? Гля, вон, сколько кровяны на пол набрызгал – теперь делать уборку по-за твоими безобразностями!
Противясь изъятию, он схватился со своей стороны за похожую на змею красновато-перламутровую ленту, выползавшую из его чрева. И, не имея ответа на возникавшие без счёта безотлагательные вопросы, наконец закричал, не жалея горла – так, что хрустальная люстра над его головой закачалась, тонко позвякивая гранёными подвесками:
– Отдай, говорю, назад, ёпсель-дрюксель! Не имеешь права! Потом же ж ты сам спожалеешь! Да поздно будет! Нет, я спрашиваю, по какому праву?! Да я же ж тебя! Да мне же ж!.. О-о-ох-х-хо-о-оу-у-уй!..
Его голос быстро створаживался и чужел, однако Шмоналов был не в том расположении духа, когда задерживают внимание на столь косвенных явлениях. Ибо в затылок ему дышало неизъяснимое и страшное, а то, что разворачивалось перед глазами, казалось ещё страшнее.
Оба – хозяин квартиры и его насильственный гость – с напряжёнными раскрасневшимися лицами тянули кишечник в разные стороны и не прекращали наращивать усилия. Разумеется, это не могло продолжаться вечно. Скользкие кишки вырвались из рук Тормоза и ударили Шмоналова по обеим щекам сразу, с брызгами и отчётливым звуком обидного шлепка.
– А-а-ахль, – задышал кровью добровольный дружинник. – Хмы-ы-ыхбль…
Потом, сделав непреднамеренное лицо, взглянул на часы – и, встав на четвереньки, заторопился к двери, будто давно опаздывал на работу. Животная растерянность вытекала из него на пол, расползалась горячей лужей и тянулась следом за его ногами, быстро меняя оттенки – от лимонного к чёрному… Шмоналов не желал развивать драматический конфликт: собственная жизнь была ему пока дороже всего остального, и он не планировал тратить её столь неожиданно дешёвым способом в неурочное время, без каких-либо предварительных знаков судьбы и соответствующей моральной подготовки. Не переставая двигаться на четвереньках, добровольный дружинник попытался заплакать, чтобы пожалеть себя. Но это у него не получилось, и он только зря поперхнулся, выпустив изо рта гроздь не соответствовавших случаю весёлых розовых пузырей.
Тормоз догнал Шмоналова в коридоре. И привычными уже движениями отрезал всхрапывавшую и не скупившуюся на прочие звуки протеста голову.
Затем он вздохнул, громко улыбнулся и, опустившись на дно своей улыбки, почувствовал себя настолько спокойно и уютно, что захотелось там если не остаться, то хотя бы задержаться надолго. Однако сомневаться не приходилось, что задерживаться нельзя. Потому, оглядевшись по сторонам, Тормоз сходил в комнату – отереть занавеской кровь с лица и рук. В упомянутый момент из кухни донеслось протяжное гудение водопроводных труб, словно в этом единственно подвернувшемся направлении пытался скрыться здешний домовой, приняв нападение на свой счёт, да и застрял – а теперь отчаянно призывал на помощь. Как будто могли найтись желающие вытягивать его из ржавого нутра внутридомовых коммуникаций. А в заоконном пространстве произошло быстрое движение чёрных крыльев, и на подоконник опустилась крупная птица с незнакомой внешностью и умными глазами. Как большинство городских жителей, Тормоз хорошо представлял себе лишь воробьёв, голубей и ворон. С которыми чернопёрая гостья не имела достаточного сходства; оттого для приблизительной простоты Тормоз у себя в уме окрестил её офигабелью. Энергичными движениями головы и рук он поприветствовал незваную летунью, потому что она была ни в чём не виновата, а только хотела посмотреть – это нормальному человеку не обидно: смотреть можно куда угодно любыми глазами, раз уж зрение придумано для всех, кроме слепых попрошаек на базаре.
Время как бы задержалось на месте, пока человек и птица-офигабель, склоняя головы с боку на бок, делились любознательными взглядами. Потом уличная случайница оттолкнула подоконник и покрылила прочь по своим небесным неотложностям. А Тормоз помедлил немного, придумывая, чего бы ему ещё захотеть, дабы продолжать жить дальше… Тут его взгляд упал на стоявшую в стенке, на стеклянной полочке, объёмистую хрустальную вазу. Которая была доверху наполнена конфетами.
Тормоз хлопнул себя ладонями по коленям и, широко расставив щёки, залился сухим деревянным хохотом. Который продолжался целую минуту, а то и больше – до тех пор, пока не угасла до переносимой степени колючая пена предвкушения. Затем, прекратив звуки, схватил вазу, бросился в коридор, где лежали отрезанные головы, и принялся набивать их бестревожно-податливые рты «Гулливером», «Южной звездой» и «Белочкой». За короткое время наполнил их до отказа – так, что конфеты торчали между зубов и вываливались наружу. Завершив дело, медленно отёр пот со лба случайно подвернувшимся женским тапочком. И, взяв бывшего Шмоналова и его жену за волосы, пошёл на улицу.
***
В четырёх шагах от подъезда какой-то человек в захлюстанном спортивном костюме спал на газоне, мучительно присвистывая при каждом вздохе и любовно обнимая полупустую бутылку синего стекла с невнятной винной этикеткой. Пробка на бутылке отсутствовала, и та с едва уловимой, как бы издевательской медлительностью клонилась к земле. По мере обострения угла наклона содержимое бутылки капельно вытекало на заскорузлую землю. Тормоз приветливо подмигнул лежавшему ничком человеку, словно у того имелся замаскированный глаз на затылке; затем аккуратно поправил свободной ногой бутылку, чтобы поберечь будущее чужое удовольствие. И покинул газон, беззвучно шевеля губами с видом телевизионного диктора, не желающего в свободное от работы время растрачивать интересные слова бесплатным образом.
Вечер заканчивался, и небо теперь казалось совсем близким; не хватало лишь стремянки, чтобы взобраться наверх и почувствовать его тёплый мрак, где, наверное, нет ещё перенаселения и квартиры могут продаваться не только беженцам из горячих точек. Бледно-жёлтая, похожая на недозрелую алычу луна над его головой струила мягкий свет, а звёзды мерцали с непритворной ласковостью, не требуя ничего взамен. И Тормоз, пользуясь возможностью, усваивал энергию вселенной своим, в сущности, слабым и незащищённым телом. Он чувствовал себя прозрачно и невесомо. Ему казалось, что он готов оторваться от подножной тротуарной плитки – на один-два, а то, может быть, и на все десять сантиметров – и двигаться дальше по воздушной пустоте. Однако Тормоз не рискнул отрываться, чтобы не тратить усилий на непривычное. И отправился в приятную неизвестность грядущего обыкновенным пешеходным способом.
Он был весь как невозмутимая вода мелкодонного сельского пруда, на котором не случается не только заметных волнений, но даже едва приметная зыбь является большой редкостью. Машинально перебирая ногами, Тормоз шёл мимо жидкой человеческой мешанины. Мельком угадывал потайные знаки чужих судеб, просачивавшиеся сквозь вёрткие глаза прохожих, и не читал в них ничего отрицательного для себя лично, а просто возвышался над разношёрстной людской суетой, точно вековой мраморный утёс, ощущая своё отличие от нерушимого камня лишь в том, что имел возможность перемещаться на доступные расстояния. Его окружали чужие многоэтажные дома, похожие на могилы древних пещерных царей. Повсюду горели холоднокровным огнём окна и фонари. А деревья слегка раскачивались на неопределённом сквозняке, словно раскоряченные скелеты порождений стороннего разума, готовые в любой момент рухнуть на асфальт. И Тормоз, шагая своим путём, улыбался окнам, фонарям и раскоряченным скелетам, хотя не переставал держать зрение в растопыренном состоянии из привычки к безопасности и самосохранению.
…Пятнадцать минут спустя он уже ехал домой в троллейбусе, сидя на месте для инвалидов и положив обе головы себе на колени. Люди вокруг старались не приближаться вплотную, чтобы не испачкать одежду кровью. Но была обычная теснота, поэтому нет-нет да и прижимался кто-нибудь плащом или юбкой, неодобрительно ворча и пихаясь локтями по сторонам. Головы Шмоналова и его супруги, разумеется, не обращали ни на кого внимания: они спали окончательным сном и видели прозрачные грёзы, наполненные прекрасной беззвучной музыкой, среди которой хотелось снова умереть и больше никогда не рождаться. Тормоза подмывало постучать костяшками пальцев по лбу аннулированного добровольного дружинника, дабы услышать хотя бы искажённое эхо этой музыки. Но он сдерживался, понимая, что осуществить своё желание ему будет гораздо удобнее дома, вдали от чужих глаз и ушей.
Троллейбус лязгал дверцами на остановках; в него набивалось всё больше и больше народу, словно некто снаружи брал могучей рукой человечьи тела и запихивал их в салон, ожидая, когда потная масса достигнет критического размера и взорвётся кровавой звездой. Однако взрыва не получалось, и транспортное средство продолжало с похоронной скоростью благополучно двигаться по своему обыкновенному маршруту. Тормоз ощущал себя так, будто плыл в подводном царстве, внутри битком набитой консервной банки с ещё живыми рыбами, перемещаясь относительно себя самого, прежнего, – гораздо медленнее, нежели можно было предположить, не глядя по сторонам.
– Откуль конфеты, сынок? – поинтересовалась свисавшая сверху старушка где-то между Ленина и Мира.
– С поминок, – буркнул Тормоз, посмотрев на бабку. И, удивившись собственной внятности, строго отвернулся к окну.
Ему было спокойно и одинаково. Потому что трудный день благополучно завершился, а завтра настанет новый день, такой же, как все остальные дни, и в то же время другой, ведь сколько бы ни существовало на свете похожих вещей и понятий, рождённых от единоначального корня, они, тем не менее, обязательно должны разойтись в разные стороны, как земля и небо, и налиться собственными красками.
Улицы неторопливо двигались мимо. А Тормоз ехал, вздрагивая вместе с сиденьем для детей и инвалидов, и размышлял о необычайной существительности мира. Тихий и усталый человек нового века.
На службе трёх разведок
Считаясь неистребимым среди женщин, Скрыбочкин ещё не каждой позволял себя предъявить. Тем обиднее казалось их пренебрежение сегодня, в новогоднюю ночь. А всё из-за поганого куска мяса… Собаки, увеличиваясь в числе, бежали следом. В знак своей несъедобности Скрыбочкин лупил животных по мордам и удивлялся: «Надо же, как тут живут: за скотиной и людей почти не видать…»
Лиссабон ему не нравился. Особенно после того, как кто-то спустил через форточку протухшую свиную рульку, которая уничтожила Скрыбочкину причёску – и теперь его преследовал по запаху весь животный мир города.
Отовсюду из окон и дверей доносилась музыка: одна мелодия перебивала другую, другая – третью, и всё сливалось в невменяемую какофонию. Извращённые и перемешанные звуки лезли в уши Скрыбочкина против его воли подобно пучкам настырных червей-паразитов, желающих устроить между его органов внутриутробное общежитие для себя и своего предполагаемого потомства.
«Как жить дальше? Где проведать дальнейшее направление? Кто бы подсказал, да разве я кому здесь нужен? Нет, никому не нужен. Обидно, хоть землю грызи!» – так думал Скрыбочкин, блуждая по португальской столице с сомневающимся видом. Он уже сожалел, что решился на турпоездку в эту неприветливую местность, и опасался в скором времени исчерпать свой человеческий облик, обернувшись кем-нибудь скудоумным и нечленораздельным.
А может, в самом деле, сейчас лучше всего было бы изолироваться от самого себя, потерять память и стать похожим на добродушное животное, имеющее пределом мечтаний тёплую нору с посильным запасом разных удобоваримостей в продовольственной корзине? Впрочем, этот вопрос пересовывался в его уме по риторической окружности, ибо никакой ясности в обозримом будущем ему не светило; и Скрыбочкин продолжал одиночное движение в машинальном режиме, без особенной охоты оставаясь в образе лишнего человека.
– Трам-там-тарата-там! Умца-турубумца-барабумца! Тарарам-парарам! – штыряли ему в левое ухо звуки сразу нескольких электронных оркестров.
– Пиририм-бирибирим-тирибирим-пирибиририм! Тыц-пырыц-тырымбыц-пырымбыц! Шалаламбу-балаламбу-тарамбаламбу! – вдрючивалось ему без спросу в правое ухо струнное, духовое и ударно-трещоточное безобразие.
…Сотрудники израильского Моссада вели Скрыбочкина от самого аэропорта. Вчера ими была перехвачена шифровка из Москвы, предписывавшая русской резидентуре выкрасть перевозимую через Португалию стратегическую жидкость М-13 вместе с новыми узлами для военного спутника. Также в шифровке сообщалось, что для оперативного содействия в Лиссабон кружным путём пришлют суперагента ГРУ майора Гниду – убийцу-невидимку, в совершенстве владеющего искусством мимикрии.
Из всех пассажиров единственным попавшим в поле подозрения сотрудников Моссада оказался Скрыбочкин.
Входить в контакт с агентом не торопились, поскольку уже видели его в деле: когда португальцы захотели досмотреть чемодан гостя, тот устроил групповой акт насилия, после которого таможенники, вероятно, долго не сумеют описать его внешность… Никто не знал, что предшествовало данному событию. А вышло так, что Скрыбочкин следовал в «Боинге» из России и оказался приятно удивлён стюардессой, вышедшей раздавать бесплатное питание и выпивку. На время полёта он задержал щедрую девушку подле себя. А дюжину подносов вместе с одноразовой посудой укрыл простой нечаянностью рук в своём чемодане, поскольку везти обратно в Россию выгодно что угодно. На металлические подносы потом и загудел прибор у таможенников. Слава богу, рукопашный бой был знаком Скрыбочкину не понаслышке, и ему удалось покинуть здание аэропорта в безубыточном образе.
Оказавшись на твёрдой почве, он решил для начала побродить по незнакомой столице, подышать воздухом и посмотреть на местные достопримечательности. Однако ничего хорошего не увидел, а только получил по голове свиной рулькой, потратил зряшные силы на прилипчивых собак и наконец, почувствовав накопившуюся усталость, направился отдохнуть в первый подвернувшийся ресторан. Через час Скрыбочкин уже невразумительно зыбился перед приплясывавшей сценой со скудно одетыми тонкомослыми бабами, а его голова подле девятой бутылки мадеры приближалась к нулевой отметке стола, покрытого зелёной скатертью с жирными растительными узорами, среди которых вялыми насекомыми ползали незаметные стороннему глазу обрывки его воспоминаний, готовых в любую минуту разорвать свою связь с реальным прошлым и превратиться в фантастические сны усталого разума.