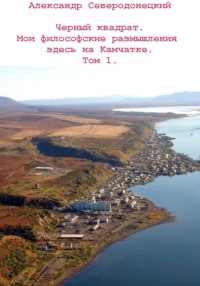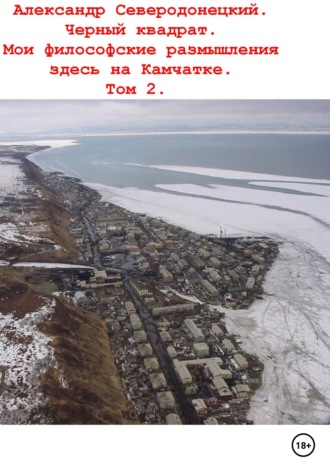
Полная версия
Черный квадрат. Мои философские размышления здесь на Камчатке. Том 2
Чего только не делали исследователи с тем полотном, о чём только не спорили, и наконец, его подвергли еще и рентгеновскому исследованию в 60-е годы ХХ столетия. И им, открылась поразительная вещь: действительно под верхним слоем краски обнаружился более ранний вариант картины (вероятно 1636 года), на котором золотой дождь все же присутствовал (!), и это было так удивительно, так как показывало нам, потомкам его сам мыслительный временной путь, которым шел вдумчивый художник, пишущи не один и не два года своё неповторимое полотно. Это открытие ученым ясно говорило и еще, показывало нам о его размышлении и о его том его личном, выборе в процессе самой работы над полотном. В окончательном варианте на его месте художник всё же изобразил золотое свечение, что вероятно то же самое. И то, и другое золото в смысловом корне своём слова. По мнению искусствоведа Сергея Андронова, Рембрандт запечатлел момент не самой их встречи, а прощания невероятно, разгоряченной Данаи с богом – Зевсом, когда божество уже, как бы за пределами той тоже позолоченной рамки картины и уже, как бы тихо покидает спальню царевны: стихия прошла, осталось только её сияние.
Это как и мой, и твой сон тот юнцовский, когда хочется еще и еще раз его по воле своей видеть, а он как-то и не приходит в нужную к тебе минутку. Твой сон – это одно, а действительность – она всегда чуточку обыденнее. Она в чем-то даже нас иногда разочаровывает, так как наяву всё, вероятно чуть приземлённое и даже немного прозаичнее.
А, что если и супрематичный «Черный квадрат» супрематиста Казимира Малевича. если не читать мои такие долгие о нём рассуждения, а взять нам всём и его подвергнуть мне тому всё видящему коротковолновому рентгеновскому излучению и даже, другому ультрафиолетовому излучению или, даже другим его видам, пусть и ультрафиолетовому, показывающему ту картину в иной волновой спектральной рампе. Что же мы тогда и там, увидим под толстыми слоями черной-пречерной краски и в её многочисленном своими трещинами кракелюре, образовавшемся это уж я ясно, понимаю от самого времени, от всей временной сухости, от самой нашей изменчивой истории, впитавшей такие вселенские события и, поглотившей не один миллион людей и не только в нашей стране, и не только моего свободолюбивого половского племени?
А никто и не думал этого делать.
А тогда может и поистине верна версия, что его, возмущенная увиденным жена там и тогда, закрасила его полностью нагих чуть пухленьких женщин в бане, с которыми тот и не раз наедине спал, и часто, изменял ей, как сегодня многие и несколько, похожие на прокурора Скуратова совсем не бедные и, облеченные не малой властью люди поступают, как ранее те несмышленые подросшие и своих штанишек комсомолята, которые сегодня, так легко и даже, так умело с помощью каких-то, нарисованных ими же таких же мифических, как и сам супрематичный «Черный квадрат» Казимира Малевича, ваучеров весь СССР на раз и буквально за 1991 год прихватизировали, которые затем всуе все электростанции даже с реками легко присвоили себе, как это сделал сам Боря Чубайс, а не, как бы по самой логике еще и, оставили всем нам, чтобы мы на те весомые для многих акции безбедно в старости своей и жили состригая с них свои доходные в старости купоны.
И теперь-то я яснее-ясного понимаю, что никто и никогда не будет, просвечивать её ту картину черную еще и рентгеном, тот из московской галереи выставочной Третьяковской супрематичный «Черный квадрат» Казимира Малевича, чтобы на раз разрушить всю его художественную его супрематичную тайну и даже нашу всю иллюзию через ту черноту, восприятия мира этого в его разных цветах, а не только черное и диаметрально противоположное ему белое, чтобы уничтожить сам его символ черноты и всей не познанности её той черноты его всеми нами, и весь его супрематичный Казимира Малевича символизм из того теперь невероятно далекого от нас и нашего нынешнего времени 1912 года, как некоего предвестника того Максима Горького сильной и вселенской бури и всех последующих в начале века того разных наших революций, переворачивающий не только наше всё внутреннее сознание, но и переворачивающий всю нашу Землю, как и это 21 апреля 2006 камчатское землетрясение невероятно сильное землетрясение, когда земля наша сама на раз вздыбилась и так сильно она задрожала от страха грозящих здесь нам в будущем перемен.
– И даже, я теперь не позволю этого им сделать! –громко говорю я им всем.
– А тогда, о чем же буду я говорить с Вами на этих белых и таких пребелых семистах или уже может быть восьмистах страницах, если не всех пятнадцати сотен их, так как мой счетчик показывает уже 1577 страничек в формате А-5 еще и с каким-то там полями на них, а также с колонтитулами и с другими редакторскими современными всеми наворотами?
Понятно, как и другие работы творца, она та рембрандтовская разгоряченная и, возлежащая на чуть примятой ею или самим Зевсом постели «Даная» от, ухода самого небожителя и её Бога Зевса не похожа на работы его многих предшественников и манера, в которой Рембрандт изобразил тело Данаи: это не та холодная, даже чуть может быть мраморная, античная её красота, а это поистине теплая и несколько даже домашняя женщина. Стоит взглянуть на её живот царевны, непропорционально большой, с подчеркнуто расслабленной мускулатурой.
При этом, Карл Нейман немецкий искусствовед, говорит по этому поводу: «Наготу часто изображали прекраснее, но никогда более естественной, истинной, потрясающей, то есть чувственной, чем в этом произведении Рембрандта».
И я не могу не согласиться с его тем восприятием, так как и у меня именно такие или аналогичные ощущения и такое же видение её пришедшей ко мне буквально из того далекого, отстоящего от меня ХV века.
И вновь, я о тех самых символах, которые нас всюду в нашей жизни нас преследуют и, которые мы видим, изображенными на этой прекрасной рембрандтовской картине «Даная». Вот они пред нашими глазами, и будь то я совсем в таких делах неопытный юнец, первый раз, видящий прекрасное обнаженное женское тело и даже, сглатывающий раз за разом свои слюнки вожделенного своего внутреннего как бы сексуального желания, или даже если я такой опытный ловелас, понимающий всё женственно-глубинное в её плавных не художником и придуманных абрисах и ясно, помнящий даже вчерашний вечер, проведенной с такой же, но не с ХV века, а живой и нынешней обжигающей моё восприятие женщиной, или даже будь я тот умудренный сединами похотливый старик, живущий своими теми сладостными воспоминаниями, я также не могу пройти мимо них:
– Как показала рентгеновская съемка, вначале лицо царевны было в какой-то мере похоже на облик его Саксии – супруги живописца, умершей в 1642 году, а в те времена жизнь человека была не как сегодня – коротка. А на завершающем варианте оно чем-то напоминает лицо Гертье Диркс – любовницы Рембрандта, с которой художник жил после смерти его первой жены, – говорит мне экскурсовод из Эрмитажа своим убаюкивающим чуть, слащавым голоском.
И, она же продолжает:
– На первом варианте «Данаи» рука царицы была опущена вниз, как будто бы царевна зовет к себе любовника, проникшего к ней в чертоги. В окончательном варианте мы видим руку, застывшую в прощальном движении, – так как Даная прощается со своим возлюбленным и прощается она с самим небожителем, и даже каким-то невидимым для нас божеством.
И вот, у его рембрандтовской «Данаи» все те же символы:
Золотое сияние – символизирует присутствие самого великого Зевса. В верхнем правом углу изображен в сиянии и золоте бога любви плачущим в знак того, что сама любовь бога Зевса к Данае была такая скоротечна. Напрасно царевна ждала и тосковала по любовнику – царь Олимпа к ней уж так и не вернулся. А вот белая, вернее белоснежная и нисколько не смятая постель – символизирует непорочность самой Данаи, так как буквально с эпохи Возрождения в греческой царевне видели прообраз самой девы Марии: Даная якобы тоже зачала мистическим образом без потери ею девственности. И вот именно, сегодня это никого и не удивит, при современном развитии экстракорпоральных и других репродуктивных технологий. Вон даже от гонщика в «Формуле -1» Бэкхама, одна из нестыдливых девиц возжелала и как от самого Зевса зачала таким же способом через свою слюну смешанную (да и не буду говорить и с чем, и так всем понятно?).
А уж, чтобы хирургически да взять и, восстановить саму давно порушенную ту девственную плеву любой, знающей даже московской с Тверской двухсотдолларовой гетере можно за её же деньги сделать это за несколько минут и она внове, как бы та божественная и с иконы Мария, и еще такая «непорочная» за те двести долларов и, как бы пред тобою единственным, да и первым, и она теперь невероятно «чиста», и еще такая она теперь «девственная».
Наличие жемчужного браслета на левой и правой её руке символизировало украшения богини самой любви – Венеры. А вот браслет с кораллами уже указывает, смотрящему на будущего сына Данаи – Персея, которого она родит от самого Зевса. Коралл тогда был символом победителя горгоны Медузы: по легенде он образовался из крови обезглавленного Персеем монстра. И еще: изумрудное кольцо на пальце её левой руки в ту пору еще один символ невинности, а также мистического обручения смертной земной женщины с самим небожителем и для многих, недоступным в образе человека божеством. И еще. Снятые туфли, расположившиеся небрежно у кровати, также символичны и они символизируют женскую покорность, и еще кому (?!), самому Богу Зевсу. И таким же символом являются орлиные головы на кроватях – он тогда считался спутником и символом самого Зевса.
А уж служанка, выглядывающая из-за занавеси, выполняла в истории с Данаей роль сводни, как сегодня многие и многие, и не только женского пола кто занят таким прибыльным бизнесом с нашими женщинами и, как бы когда-то падшими, и как бы кому-то еще нужными. Она показала Зевсу путь в спальню своей госпожи, за что и была казнена царем Акрисием. На голове у служанки не положенный ей по статусу женский чепец, а темный бархатистый берет. Это навеяло французского искусствоведа Поля Декарга на крамольную мысль, что это шутка самого художника и в образе служанки-сводни сам автор и сам художник, будучи таким же мыслителем, как и мы Рембрандт изобразил, вероятно, самого себя (так как на автопортретах он часто в таком же берете).
Ключи в руках самой служанки – это уже символическое и особое указание на её непосредственные обязанности в т. ч. и дворни, ведущей хозяйство, и одновременно, символ настоящего мужского начала (как замок – символ женского) – и, вероятно, еще один намек художника на сводничество. А уж кошелек – это символ божественной милости. И он нам говорит, что в него служанка собрала те монетки, которые рассыпались ранее по всей спальне Данаи, после нисхождения с небес самого Зевса.
Хотя в практике знаменитого и работоспособного художника были, и другие более реалистические картины: «Урок анатомии доктора Тюльпа» (1632), «Автопортрет с Саксией на коленях» (1635), который я запомнил буквально со своего детства, а уж с отрочества это точно, а уж в 1642 он закончил свой «Ночной дозор», тремя годами позже в 1645 он завершил непревзойденное по красоте и по всему его символизму полотно «Святое семейство», и на закате своего творчества с 1666 по 1669 год художник работал над картиной «Блудный сын», и понятно, что все эти его шедевры по их живописному непередаваемому колориту, по их выразительности, по его неповторимой технике и самой их грациозности «Святое семейство» не идут ни в какое сравнение с тем в чем-то мистическим и загадочном чут только супрематичном «Черным квадратом» Казимира Малевича пусть и супрематичным, так как это разновеликие и естественно каждому это с первого взгляда видно несравнимые сами по себе художественные величины и даже ценности. У этих двух художников из разных веков естественно разные художественные взгляды и предпочтения на само великое и вечное искусство, и даже на сам способ, отражения нашей или его действительности и даже их, существующих в народе мифов, так как только Рембрандтовскую «Данаю» можно рассматривать вечно, наслаждаясь прорисовкой буквально каждой черточки и не только потому, что там прекрасная и еще чуть, и в меру нагая женщина, которую всегда желает каждый мужчина, даже самый неопытный или, которой из них буквально грезит по ночам, будучи еще таким неопытным и естественно неискушенным в таких делах юношей, а потому, что там, на полотне автор отображает одновременно в чем-то и что-то мифическое и поистине сказочное, и, всё происходящее высоко на небесах и всё это окружающее нас земное, и еще такое неземное, над природное самое великое и Божественное совершенство из материи нашей, слепленное по воле самого нашего Иисуса Христа, то таинственно-божественное его творение – самого господа Бога нашего – Иисуса Христа, который понятно не те библейских шесть или семь дней, и наверное и это, уж точно, не шесть авторских лет сам творил (!), чтобы из под его кисти и по его воле, и еще по его божественному промыслу, родилась вот такая соблазнительная, и вот такая, обворожительная женская, в чем-то даже та по неземному блаженная красота. А уж я, знаю и уж я уверен в том, что самому Господу Богу нашему Иисусу Христу потребовалось, как минимум, семьдесят миллионов лет, чтобы создать вот такое совершенство на, которое мы с умилением и с таким восхищением смотрим сегодня, и еще долго безусловно будем смотреть, восхищаясь и умением самого художника Рембрандта самому увидеть и еще нам его показать, и еще, восхищаюсь я способностью высшего, что есть у нас создать его и вдохнуть в него или в неё саму трепетную жизнь. А уж кто и, что в её чуть бесстыжей наготе и увидит, это тот уже полёт его, разбушевавшейся фантазии и всей мысли его, желающей видеть красивое и поистине прекрасное, и, при том, в облике таком человеческом.
А мы с вами знаем, что в разном возрасте, в разные наши периоды нашего становления она та фантазия наша такая разная, как и всё наше восприятие всего мира и нашего всего Мироздания, позволяющего мне сейчас писать, позволяющего мне размышлять и даже мысли мои вложить на эту белую бумагу, как бы кодируя все их теми электронными единичками и еще ноликами, обозначающими в математике ничто. И вот, у художника Рембрандта Харменс ванн Рейна из тех информационных ноликов памяти его и буквально из ничего, а только из его мысли, получаются картины удивительной красоты, у конструктора Сикорского, Ильюшина. Микояна, Королева вертолеты и самолеты, а уж у меня и романы, повести и эти беглые в несколько страничек эссе.
А вот та его единичка и, это естественно, это понятно тебе читатель это Я еще и автор, а уж нолик это та окружающая меня космическая бесконечность, которая в кругу и даже в окружности легко сама и на себя замыкается, превращаясь в моём сознании в ту Космическую черно-пречёрную бесконечность всего, вибрирующего и так трепетно, волнующегося космического эфира, окружающего сегодня вероятно только меня и никого более.
Глава 49.
Как же мы все сегодня живем? И есть ли у них то геофизическое и еще особое современное психотронное оружие? А также, какова истинная роль генномодифицированных продуктов в нашей сегодняшней жизни?
28 февраля 2011 года наш главный герой и автор этой книги, который и путешествует в скором, и еще фирменном поезде №029, Углев Александр Яковлевич перед самим отлетом из московского аэропорта Домодедово в его теперь, реконструированном и, таком просторном накопителе для пассажиров зашел в киоск и буквально случайно купил лежащий на книжном развале наряду с другими глянцевыми журналами «За рулем», «Мото» «Computer Bild» и машинально взял почему-то рядом, лежащий в руки не такой уж и глянцевый, но зачастую интересный не только для него журнал «Наука и религия» №3 за 2011 год и также, машинально, как всё, что делал сегодня между его строк открыл его сразу же на 42 странице, где была напечатан статья Эдуарда Геворкяна «Птицы-2» не по Хичкоку», где автор вспоминает сюжет фильма «Птицы» по классическому триллеру Альфреда Хичкока, который был им снят еще в далеком теперь в 1963 году, когда Уголеву было всего-то только 13 лет и, когда его родные и любимые Савинцы засыпали в январе и в феврале черные снежно-пылевые бури, идущие из далеких от Савинец казахстанских степей и даже из того, ранее засекреченного, а ныне всем известного и понятного степного из Семипалатинска…
А ведь, затем он прочитал, всё сопоставил из давно, накопленного в его голове и оказалось, что это были те далекие от настоящего сегодня хрущевские, бериевские, курчатовские, сахаровские и еще те бериевско-харитоньевские испытания в открытом воздухе в тех бесконечно бескрайних не то поволжских, не то теперь казахстанских или может быть всех тех бескрайних семипалатинских степях новейшего, ранее невиданного на земле нашей атомного оружия. Это были испытания того оружия нашего теперешнего возмездия, оружия нашего мирного сдерживания всех других, это естественно сказано максимально вежливо, чтобы не назвать их вульгарно или еще и похабно и, столько тогда на его юную, ничем еще, не омраченную и ничем не покрытую голову, сколько на нашу харьковскую и всю нечерноземную благодатную землицу выпало миллионов тех радиоактивных Кюри или даже современных никем не мерянных ранее Беккерелей, или настоящих опасных для жизни моей еще и удивительных Греев, да и миллизильвертов он еще по младости лет своих, по той природной его естественности, и даже в чем-то вероятно девственной своей простоте, и той лично его непосредственности и ничего не знал, да и не мог он по младости лет всё то теоретическое знать, что соприкасалось с ним практически, вызывая опухоли и другие заболевания во всех родных и близких, кто не прожил, выделенных на Земле нашей лет самим Господом Богом нашим Иисусом Христом.
И, естественно по малолетству своему ничего тогда он не ведал, хоть и пытался спозаранку читать и многие, если не все физические книги, покупая их на последние рубли и той в 35 рэ стипендии его, и буквально всю доступную ему в то время даже научную химию беря на тех же книжных развалах на сумской в книжном магазине, а еще там в Харькове где работал и Курчатов в Померках на улице Карла Маркса, где был прекрасный академический магазин «Академкнига», конечно же, еще в школе он любил и прекрасно знал, и саму биологию.
А затем, последовали и 26 апреля 1996 года Чернобыльский черный пепел, легко и всего за ночь, засыпавший чуть не пол Украины и южной России с Беларусью, и еще, от взорвавшегося ранее как бы сам по себе химического хранилища радиоактивных отходов ПО «Маяк» в 1957 году, что под Челябинском и который, добавил к естественному радиоактивному фону подлежащих пород там на реке Теча столько этих их научных кюри и беккерелей, да и греев, и сколько он, и они те кюри, беккерели, и греи тихо, и незаметно, и без особого пафоса, унесли активных человеческих жизней, родных нам жизней, да наших этих жизней в много раз, снизив и само качество, и, забрав денежки мои и твои, на восстановление и еще на бетонный от времени, и тяжести, рассыпающийся под дождями чернобыльский саркофаг, на те льготные, а еще досрочные пенсии всем чернобыльцам, и мало еще на что там и куда там потраченных в их засекреченных указах и распоряжениях, да еще и в конторах разных и так засекреченных.
Не знал он тогда по своей вихристой юности и по всей незрелости своей, и даже не знал он о вероятностно-стохастическом влиянии самой радиации на наш человеческий организм, и о её таком же влиянии радиации в разных формах на организмы других земных млекопитающих и теплокровных, и всех пресмыкающихся, и даже гадов наших, как бы изначально холоднокровных и даже далеких от нас самих по своему эволюционному развитию, но не по устойчивости к той же радиации, так как они как никто из нас поближе к матушке землице нашей.
Глава 50.
Те юности моей черные, как и
супрематичный
«Черный квадрат» Малевича Казимира памятные мне пылевые бури 1961-1964 годов.
А мы с Вами дорогой читатель еще продолжаем ехать в том скором и фирменном поезде номер №029 Москва-Липецк и вместе, размышлять о жизни нашей и о всех превратностях её современных, и о таких новых, о таких нежданных для многих угроз.
Пассажир поезда ровно, стучащего о рельсы своими парами колес, а те стыки теперь на сварных рельсах не через 12 или как ранее не через 25 метров, а через те восемьсот метров, это то минимальное расстояние, которое поезд пробегает буквально за 0,4 минут или за 24 секунды и, ты берешь калькулятор и проверяешь, и легко считаешь при скорости 120 км в час, соотносишь с 800 метрами, переводишь в километры и в те короткие метры, чтобы все единицы привести воедино, а часы в минуты и ты получается 0,4 минуту, а затем 0,4 минуту умножаешь на её наполняемость той минуты 60-ю секундами и получаешь, что стук колес в твоём сердце отзывается каждые 24 секунды и он не дает тебе слегка от долгого перелета на самолете уставшему, а слегка еще и, возбужденному от предстоящей с родными встречи ни спать, ни отдыхать, ни тем более хорошо слышать собеседника и, ты только чуточку раздражаешься, ты начинаешь в том шуме и в том ритмичном перестуке считать эти 24 секунды: раз, два, три…
А ранее, когда мне было только десять лет в 1960 году поезда ходили со скоростью ну максимум шестьдесят километров в час, а сейчас вот под все сто двадцать километров в час они мчатся по новым и, обновленным стальным магистралям, а те, которые в Санкт-Петербург или в Нижний Новгород, те и под двести километров в час выжимают. И вот вывод: те, кто сегодня ездит поездом у них Время ускорилось в два, а то и в три раза даже с далеким ХVIII или ближайшим ко мне ХIХ веком, а вот я летаю самолетами под семьсот километров в час, то уж у меня оно, то моё Время ускорилось уже в десять или двенадцать раз. И это действительно так. Если Крашенинников Степан Петрович с 1735 по 1737 году шел три года до Камчатки, а конструктор наших сказочных ракет Королев Сергей из Магадана, вернее до самого того Магадана месяца три шел из места его отсидки в Сусумане, то уж сегодня те же восемь или девять тысяч километров мы на современных самолетах за восемь часов легко и нам их преодолеть и легко, как бы само-то их исследователей и мыслителей Время мне и обогнать, а то и повернуть как бы вспять.
– Нет! Не верно это! – знаю наверняка я.
– Правильно считать так: двадцать один, двадцать два, а у парашютистов пятьсот, пятьсот один, пятьсот два и, как же это долго и снова свист ветра в ушах моих и этот их стальных рельс перестук, а твои быстрые сосредоточенные мысли, и твои математические те расчеты на раз, прерывает все тот же пытливый твой сосед и абсолютно не знакомый пассажир, и он спрашивает другого:
– Почему вот так? Чем ты старше становишься, тем больше тебя одолевают воспоминания о далёком твоём прошлом, только слегка улыбаясь в свой ус пушистый, так как бы и зная заранее мой ответ на его вопрос.
И, он напомнил тебе:
– А помните, как в нашем детстве, – так как ты из тех ковыльных харьковских у берегов Северского Донца степей, он это уже знает и он из тех, и таких же ковылистых, только невероятно сухих степей, и ты уже это знаешь, – и, он же продолжает – Почему же они те черные, ворвались в их жизнь черные те зимние песчаные бури? И даже, тогда в начале шестидесятых годов, когда шло их становление и физические, и что важнее нравственное, и еще то особое духовное и одухотворенное, когда прочитанное, когда увиденное, когда познанное такой песней отзывается в душе твоей.
И, ты тогда сам себя спрашиваешь:
– Так песок-то обычно и на опыте своём ты знаешь это, бывает желтый, а те бури памятные такие были для тебя самого черные, такие памятные, как и этот его Малевича Казимира абсолютно «Черный квадрат», только от времени в каком-то непонятном тебе вековом и глубоком чуть той серой пылью, прошедших времен, припорошенном в его особом кракелюре…
– Да это украшение её какое-то?
– Да нет же?
– Кракелюр, а мы это знаем уж достоверно – это те небольшие и может быть даже неглубокие трещины в краске и даже в нескольких её слоях краски на полотне, которые Время и еще сухость самого воздуха им это места, где она хранится, делают именно это с самой картиной и, как то же самое вечное Время делает с нами, прорисовав на лице нашем те возрастные часто такие глубокие как борозды на моём савинском черноземе морщины и даже, незаметные другим морщиночки бабушки моей Надежды Изотовны Науменко, Якименко и Кайда одновременно, которые естественно мне самому намного краше всего в мире и, естественно, они для меня теперь ценнее своею особой глубиною, именно для меня и уж наверняка краше от того черного его Казимира Малевича супрематичного кракелюра его «Черного квадрата» еще нисколько, не познанного нами и даже неоцененного в должной мере его с невыверенными углами «Черного квадрата», потребовавшего именно вот такого моего долгого полностью философского, уж в этом уверен я, рассуждения и разговора моего, раскинувшегося с того 1912 года и с нынешнего 2016 года, оттуда от Савинец моих и даже сюда на мою Камчатку до Тиличики моих, как то крыло чайки парящих над всем бескрайним здешним Тихим океаном и даже доходя до его Килпалина Кирилла Тополевки, где он как тот монах схимник и как тот отшельник, переговаривается с нами только своими картинами, показывая нам всем как он на самом деле видит мир наш, и нисколько он не его, так как тот наш мир художника не воспринимали при его жизни здесь на олюторской землице. И это не только лично его горе, а это данность каждого хоть чуть-чуть талантливого и знаменитого художника, что ему чтобы стать хоть чуточку быть знаменитым, надо сначала ему умереть, а уж затем из небытия как бы внове воскреснуть и, даже, как бы вернуться к нам уж в ином том неземном измерении, когда само Время и его, и моё оно, выдает и делает истинную оценку трудов всех его и моих тоже. И я много раз на своём вездеходе ГАЗ-69989 с водителем Мартыновы Валерией Александровичем кружу вокруг его Тополевки, чтобы потщательнее осмотреть все те окрестности, чтобы заглянуть здесь в каждый скрытый уголочек, под каждым кустиком кедрача раскидистого и, даже, чтобы заглянуть мне в глубокую медвежью берлогу, той бурой медведицы камчатской Умки Большой в такую еще сухую, там на горе Ледяной, чтобы найти тот только его особый килпалинский клад, где он спрятал если не все им созданное за десятилетия напряженного труда, то уж наверняка спрятал там он часть своих лучших произведений и я понимаю, что пройдет время и мы их найдем, так как вот недавно я в Москве, приобрел земной радар, который способен заглянуть на десять, а то и на пятнадцать метров вглубь земли, чтобы только мне хоть когда-то удалось найти там его, припрятанный еще в 1984 году его творческий клад, так как он об этом писал Омрувье своему другу в письмах и, говорил с огорчением он не раз мне, зная, что мы, потрудившись все же найдем и мы обнародуем его непередаваемый талан и покажем его картины для потомков, на видение которых и были рассчитаны все его тогдашние творения…