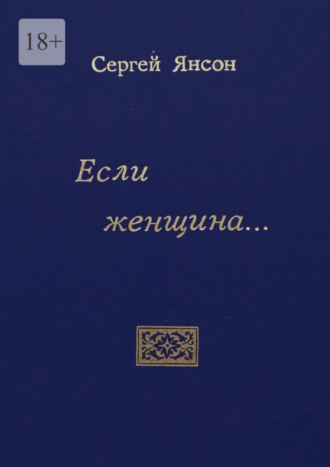
Полная версия
Если женщина…
Столы Сомова и Валентины Митрофановны стояли у окна друг против друга. Третий стол в глубине кабинета, если бы кто-нибудь заглянул на второй этаж в окно, занимал политико-просветительский отдел. Чем он отличался от соседнего, знал, наверное, лишь сам заведующий – Борис Семенович Боровский, но об этом никогда не говорил.
В прошлом Боровский служил в армии, был майором-артиллеристом, но по возрасту вышел в отставку и последние пятнадцать лет воевал на фронтах культпросвета. Деятельность эту Борис Семенович считал очень трудной и теперь на вопрос «как здоровье?» неизменно отвечал:
– Плохо!
В первый же день с утра он подошел к Сомову, положил на стол пачку конвертов, много марок и сказал:
– Вот, Витя, вам задача! Ничего, что на «ты»?
Нужно было наклеить марки на конверты, чем Сомов и занимался до обеда. Он облизывал марки и думал: «А денежки кап-кап-кап…» Валентина Митрофановна сосала конфетку и громко говорила:
– Вы – молодой работник! Вам – искать новые формы работы с молодежью! Молодежь – будущее, вы – ее представитель! Беритесь за дело с энтузиазмом. Если что, мы, старшие товарищи, поправим!
Фразы у Кусковой тоже получались какие-то прямоугольные.
После обеда Борис Семенович дал длинный список адресов, и новый инструктор переписывал их на конверты. За день раз десять попили чаю. Борис Семенович любил. Где-то ближе к вечеру на столе у Боровского зазвонил местный телефон. Борис Семенович улыбнулся и взял трубку.
– Наше вам приветствие, – сказал он мягко, – ничего, потихонечку… Справимся… Да, да… все очень хорошо.
Сомов понял: речь о нем.
– Витя, подойди, – проговорил Боровский, прикрыв трубку, и добавил, будто делал Сомову что-то очень приятное, – Альфред Лукич!
Сомов взялся за телефон.
– Минерал, разновидность гранатов, – сказал директор. – Первая – «у».
– Уваровит, – ответил Сомов.
Некоторое время в трубке было тихо: видимо, директор примерял слово и, видимо, все сошлось, потому что раздались короткие гудки. Сомов положил трубку и посмотрел в недоумении на Боровского.
– Директор у нас – очень хороший человек, – сказал тот.
– Ой! – воскликнула Кускова, и Сомов вздрогнул. – Вы, Борис Семенович, у нас тоже замечательный!
– Смерти жду, – спокойно сказал Боровский.
– Вам жить и жить!
– При коммунизме…
– Зачем же так! Вы – наш миленький! Виктор Павлович, чай!
Сомов уже привычно отправился за водой. В коридоре столкнулся с Леней, хотел было поделиться впечатлениями, но тот опередил:
– Я все понял! Сюжет в художественном произведении или даже фабула – это подпорки для бездарных! Для тех, кто не умеет писать. Знаешь, что самое трудное в искусстве?
– Нет, – честно признался Сомов.
– Написать, как два человека пьют чай! Просто сидят и пьют!
– Пусть пьют… Чего тут писать.
– Как ты не поймешь, это же оселок искусства. Ты только представь: сидят двое, пьют чай, говорят о жизни… А?
– В грозу?
– Просто! Даже без сахара!
Сомов вздохнул и сказал:
– Извини, мне воды надо…
– Вот! – обрадовался Леня. – Ты меня понял!
Он ушел с улыбкой. Когда Сомов вернулся с чайником в кабинет, Борис Семенович рассказывал:
– Вчера жена мне: надо невестку поздравить с днем рождения. А я думаю: не дотянуть мне до дня рождения… Свалюсь на работе, как конь на меже. Вот и сегодня опять печень чувствую.
Сомов включил чайник, потом собрал заполненные конверты и положил их перед Боровским.
– Ты, Витя, молодец, – сказал Борис Семенович, – будешь настоящим работником культуры.
А когда Кускову позвали в библиотеку, он достал из внутреннего кармана кожаное портмоне, оттуда – маленький, с ноготь ключик и открыл им большой коричневый шкаф в углу. Из шкафа Борис Семенович вынул сначала пачку брошюр с затейливым заголовком «Проверьте вашу гениальность» – ниже стояла пометка: «в помощь работникам культуры», – попросил Сомова запереть дверь и тут достал маленькую бутылочку коньяка и две рюмочки.
– Это нам премия за работу, – сказал Боровский и налил.
Сомов подошел к шкафу.
– Я всегда, когда плохо себя чувствую, – немножечко коньячку, – снова сказал Боровский. – Помогает неизменно.
Сомов осторожно двумя пальцами взял рюмочку и искренне сказал:
– За ваше здоровье!
Боровский быстро выпил, спрятал все в шкаф, открыл дверь и снова сел за свой стол. Сомов тоже вернулся на место и оставшееся время до конца рабочего дня чувствовал себя хорошо.
Дома после семейного обеда Сомов лежал на диване в своей комнате и оценивал прожитый день: «Коньяком угостили… Спал до половины девятого почти, работу выполнил хорошо… Интересно, а что еще должен делать инструктор?»
А еще вспомнился заходивший в кабинет руководитель кружка аккордеонистов Пекашин. Это был маленький худой человек с грустным лицом. Пекашин заходил раза три, здоровался и уходил, пока не застал Сомова одного.
– Мне хотелось с вами поговорить, – грустно сказал Пекашин.
Сомов посмотрел на аккордеониста, и ему самому стало грустно.
Пекашин же стал мягко расспрашивать о прежней работе, о домашних Сомова, об институте и постоянно извинялся:
– Это ничего, что я интересуюсь?
Сомов рассказал про себя почти все, что знал, и даже про то, что зарплата на прежней работе была выше. Рассказал и тут же пожалел, так как Пекашин здорово расстроился.
– Ай-яй-яй! – воскликнул он. – Это же вы в деньгах потеряли! Вы – бескорыстный человек!
– Ну почему же? – смущенно пробубнил Сомов.
– Да, да! Теперь таких редко встретишь! Ну как же вы так с деньгами-то? Беда-то какая!
Потом Пекашин рассказал о том, как болеет гриппом его двенадцатилетняя дочь, как страдает от этого и какие приходится испытывать лишения за музыкальный кусок хлеба. При этом острыми ногтями правой руки он постоянно настукивал, как показалось Сомову, грустные мелодии.
Добираться до работы Сомову было просто: три остановки на метро, потом на трамвае, но трамваем он решил не пользоваться и от метро ходил пешком. Как и большинство молодых людей, Сомов считал, что ходьба помогает от инфаркта. Сначала нужно было перейти довольно широкую улицу, потом свернуть налево, а дальше – по заснеженной дорожке через сад, который назывался Театральным. Название казалось странным, ведь театров не было не только в саду, но и в округе. Позже, когда приходилось возвращаться с работы ближе к полуночи, Сомов видел, как гуляли здесь веселые компании, важно прохаживались яркие девушки в цветных колготках и жались по кустам солидные мужчины с тяготившими их бутылками и единственным стаканом. Воображение неуправляемо дорисовывало некоторые подробности, и Сомов для себя определил название сада тем, что здесь случаются всякие истории, то есть похоже на театр.
По утрам же, в то время, когда Сомов спешил на работу, в саду царила идиллия. Выезжали на прогулку в красных и синих колясках малыши со своими симпатичными мамами, изредка попадались старушки и старики, бегали, пугая воробьев, энтузиасты активного образа жизни. И когда Сомов бодрый и здоровый шел утром через сад на работу, ему казалось, что если бы не было темного времени суток, не было бы и негативных явлений в нашей жизни.
Начинался рабочий день с задушевного:
– Витя, поставь-ка чайку!
Сомов с чайником шел за водой. Потом пили чай. Сомов смотрел в окно на заснеженный памятник Ленину, а Валентина Мирофановна говорила что-нибудь вроде:
– Борис Семенович! Конфетку? У меня леденец!
При этом она улыбалась так, что и без леденца становилось приторно. Борис Семенович махал рукой, мол, давайте сюда свои конфеты, все равно помирать, и жаловался:
– Не вздохнуть! Вот будто кляп проглотил, и все внутри закупорилось. А ноги холодеют, словно вброд Северную Двину переходим. Сижу сейчас с вами, а что будет через час, и не знаю.
Через некоторое время Боровский вставал и говорил:
– Вот, Витя, тебе задача…
Изложив задачу на день, Борис Семенович допивал чай и садился за телефон. Наступал черед Валентины Митрофановны. Она принимала деловой вид и втолковывала:
– Виктор Палыч! Вчера мы снова с вами недоработали! Забыли! Надо было заказать лекцию о международном положении!
Она всегда говорила «мы», но это означало, что забыл Сомов.
Постепенно Сомов, словно камень в озере – мхом, обрастал обязанностями. Он не только заваривал чай и подписывал конверты, но и обзванивал предприятия района, обеспечивая явку на школу профсоюзного актива, помогал директору разгадывать кроссворды и другие газетно-журнальные задачки, заказывал лекторов в обществе «Знание» для пенсионеров-активистов ведомственного клуба завода «Энергия», ездил курьером и думал, что если этому учат в институте культуры, то какая же нудная у студентов учеба.
Сомов искренне, как и большинство людей, считал, что в любом деле главное – усердие. В институте он с усердием заучивал формулы, томился теоремами, ломал голову над специальными дисциплинами и очень удивлялся, что ничего не получается. Так, наверное, многие начинающие сочинять стихи или прозу, рисовать или писать музыку уповают на готовность много трудиться. «Буду выдавать по тридцать страниц в день – стану Толстым», – думает молодой человек, начинающий писать. «Буду рисовать по десять картин в месяц – стану Левитаном», – думает молодой человек, начинающий в живописи. И невдомек молодым людям, что ни Толстой, ни Левитан по стольку в день или в месяц не работали, не выдавали. Случалось, что сочиняли и рисовали больше, но в редкие моменты вдохновения, когда судьба водит рукой художника. А вот о таланте не думает молодой человек. Есть – хорошо, нет – и так сойдет. Критики же это мнение поддерживают. Говорят об идее художественного произведения, о верности традициям или новаторству, о законах жанра или о знании материала, да ведь бог знает о чем еще можно сказать… И лишь иногда наиболее смелые отмечают: «Талант, бесспорный талант!» Но тут же поправляются: «Как говорил /фамилия кого-нибудь из великих/, талант – это на девяносто девять процентов труд» или «один процент таланта, девяносто девять пота». И представляет себе человек, уставляясь в скучную книгу или слушая нудную музыку, взопревшего от долгого сидения за столом писателя или композитора, со лба которого на белые и черные клавиши падает банная влага. «Да! – скажет человек, – тяжело дается искусство!»
У Володи Бакунина был талант инженера. В институте он все пять лет чего-то изобретал, учился легко, хотя над книжками и чертежами подолгу не потел. Так же, как все в группе, ходил после занятий в пивбар напротив детского садика, на институтские вечера, в каникулы ездил в южный лагерь на море, а работа на кафедре и учеба получались вроде как сами собой. Сомов пробовал копировать жизнь приятеля, все удавалось, кроме учебы. Он даже срисовал примерный график жизни приятеля по дням, и все равно… И кто смог объяснить, отчего так получается? Ведь те же руки у него, та же голова – шапка даже на два размера больше. Это Сомов проверял…
После института Володя тоже попал в конструкторское бюро. Там тоже рекомендовалось говорить знакомым о профиле работы:
– Изобретаем попутный ветер для нашего общего дела.
Все было так же в бюро у Бакунина, только вот гораздо интереснее.
А недавно Бакунин на корабле отправился по морям и океанам. Володя должен был проверять какие-то инженерные системы. Фотоаппарата он не взял, но сказал, что будет из тех городов, где побывает, присылать что-то вроде путевых заметок, и просил их сохранить.
– Потомки могут не понять, порвут, а ты сохрани для истории, – объяснил Бакунин.
Сомов, правда, не понял, кого приятель имел в виду – своих маленьких ребят-близнецов или действительно потомков, но хранить письма согласился. Первое письмо было из Швеции: «В Стокгольме погода нормальная, правда, идет дождь и небо затянуто серыми тучами. Я купил себе плащ. Цвет – серый с блеском. Много работаем, и некогда посмотреть даже достопримечательности. В общем, от Стокгольма я ожидал большего…» Заканчивалось письмо словами: «Обволакиваю, твой Бакунин.» Прочитав письмо, Сомов долго прикидывал, имеет ли письмо интерес для потомков. Решил в конце концов, что не имеет, и, улыбнувшись, спрятал его в ящик стола.
Когда приходил на работу заведующий отделом художественной самодеятельности Сергей Николаевич, было слышно даже через стену. Сергей Николаевич всегда включал магнитофон. Он объяснял это тем, что ему необходимо быть в курсе музыкальной жизни. Следуя логике худрука, можно было решить, что музыкальная жизнь заключена в одной кассете, которую он и крутил постоянно. Был Сергей Николаевич на три года старше Сомова, и музыка им в общем-то нравилась одинаковая, но Боровскому она мешала. Сергей Николаевич приходил на работу к двум. Кружки и студии его работали вечером. И как только из-за стены слышалась первая песня, Боровский клал руку себе на блестящую голову, словно мог компенсировать этим отсутствие волос и защитить голову от музыки, и говорил:
– Витя, вот тебе задача. У вас же с ним хорошие отношения. Попроси сделать потише.
– Борис Семенович! – восклицала Кускова. – Вас в нашем доме не понимают!
– А что ж меня понимать? Знают – скоро помру. С утра затылок ломит, будто осколочным засадили, а пока на работу шел, в колене стрелять начало.
Сомов же отправлялся к худруку. Сергей Николаевич обычно сидел с папиросой у открытой форточки.
– Потише сделать? – спрашивал он.
Сомов разводил руками и садился на стул у дверей под плакатом «Хлеб культуры – не водица, есть без толку не годится!» Ниже шло пояснение: «Художественная самодеятельность – хлеб культуры». Сомов не курил.
Сергей Николаевич убавлял громкость, и оба некоторое время слушали музыку. Потом худрук зевал и говорил что-нибудь вроде:
– Сегодня утром достал из холодильника банку сгущенки, поставил в кастрюлю с водой, сварил и съел… Варил два часа.
И оба начинали разговор, но не потому, что хотелось, а потому что знали: в беседе время проходит быстрее.
Наверно, у каждого непрактичного человека временами возникает желание пожить по-другому: что-то достать, о чем-то договориться, встретиться с нужным человеком. Часто в этом желании больше привлекает не выгода, а счастье необходимости в механизме людского обращения, счастье номенклатурного работника. Бывали такие минуты и у Сомова.
Через два дня работы он сам отправился знакомиться с сотрудниками бухгалтерии. «Все-таки там зарплату дают», – думал Сомов.
В бухгалтерии работали три женщины: главный бухгалтер, просто бухгалтер и кассир. Главный бухгалтер Эмма считала себя молодой и красивой женщиной. С мужчинами она разговаривала играя, женщин терпела и была проводником широких идей иностранной моды в узкий круг возможностей женщин – сотрудниц дома культуры. Ассистировали ей в работе бухгалтер Коровина, сорокадвухлетняя женщина на последнем месяце перед больничным по беременности, и пятидесятилетняя кассир Анна Дмитриевна.
Бухгалтерия была на том же втором этаже. Сомов прошел по мягкой ковровой дорожке в конец длинного коридора, открыл дверь, и первое, что услышал:
– Ой! Девочки! Кто к нам пришел!
Эмма ослепительно улыбалась. Сомов оглянулся – сзади никого не было. Он закрыл дверь и тихо поздоровался. Девочки ответили:
– Салют!
– Вот, – сказал Сомов, – пришел лично.
– Правильно, – сказала Эмма. – Витенькой зовут?
– Виктор Павлович…
– Чепуха! Витенька… Ты ж молодой парень! Счастливый!
Эмма почему-то вздохнула.
– Почему счастливый? – поинтересовался Сомов.
Эмма махнула рукой и ответила:
– Садись, гостем будешь.
Сомов присел на краешек стула и задумался: что теперь дальше делать?
– А ты мне вчера приснился, – сказала Эмма, улыбаясь.
Глаза у нее блестели, черты лица были маленькие, голова – в мелких кудряшках. Сомов почему-то подумал: «У обезьянок глаза блестят?» Тут же прикинул, что подобное сравнение может быть обидным для главного бухгалтера, пусть даже обезьянка симпатичная, и покраснел.
– Будто приходишь ты ко мне с ножом и хочешь зарезать! – продолжала Эмма.
Она засмеялась, и зубы у нее оказались маленькими и белыми, точно искусственные. Засмеялись и девочки!
– Смотри! Больше так мне не снись!
– Как же я мог вам присниться, когда вы меня не знаете? – спросил Сомов.
– Витенька! Кто в нашем доме культуры друг про друга чего-то не знает!
– Я не хотел, – пробубнил Сомов.
– Ой! Девочки! Очаровательно! У нас очаровательный инструктор!
Анна Дмитриевна, отложив на счетах одной ей ведомую сумму, вздохнула:
– Почему мне ничего такого не снится?
– Это потому, что вы не впечатлительная, – объяснила Коровина, – Вот Эмма Петровна у нас впечатлительная… Ей и снятся всякие сны.
«Всякие» Коровина произнесла с иронией.
– Я? – удивилась Эмма. – Нисколько! По мне хоть самый раскрасивый мужчина подойди – нисколько не впечатлюсь! Даже вот ни на копейку!
Коровина иронически улыбнулась, а Сомов подумал, что пора уходить.
– Витенька! Куда же ты! Я ж не про тебя!
Сомов сел в коридоре на диван под доской почета и отдышался. Ему тяжело далось общение с бухгалтерией. Захотелось вернуться к себе за стол, в кресло, поклеить конверты, но деловые люди так не поступают, и Сомов спустился вниз в библиотеку. «Там интересные книжки дают», – думал он.
Библиотека пахла лежалой бумагой, было тихо. В полумраке Сомов разглядел за маленьким столом девушку. Девушка, кажется, дремала.
– Добрый день, – тихо, чтобы не разбудить, сказал Сомов.
Девушка вздрогнула, вскочила.
– Ой! Здрасте!
Была она маленького роста, в длинном платье, почти к поясу спускалась коса.
– Сумрачно у вас тут, – сказал Сомов.
Девушка поспешно включила свет.
– Извините, – сказала она, – но когда посетителей нет, Альфред Лукич требует экономить свет… А как экономить, когда темно?
– Трудно…
Девушка вдруг зажглась:
– Засунули библиотеку почти в подвал! Как работу с читателем вести? Я заведующей жаловалась и директору говорила, а они ничего не делают!
Сомов посмотрел в огорченное личико девушки и решил, что ей не больше восемнадцати.
– А я у вас теперь работаю, – сказал он. – Инструктором в массовом отделе.
Сомов назвал себя.
– Ой! – воскликнула девушка, словно мышь увидела. – Альфред Лукич у нас давно работает. Опытный директор, и заведующая тоже…
Девушка потупилась, скривила ротик, словно двоечница, которую спрашивают, как она думает жить дальше, и добавила строго:
– Записываться хотите?
Она поспешно вытащила пустой формуляр.
– Я – осмотреться пока…
Девушка пожала плечами.
– У нас ничего необычного нет.
– А обычного?
– Стендаль, Бальзак, Моруа на руках… Для своих мы, правда, держим Кортасара, По, Сю, Кобо Абэ… – голос девушки окреп, – Маркеса! Фриша!
Она перевела дух, улыбнулась и с иронией, словно что-то неприличное, произнесла:
– Ну там классика… Гоголь… «Вечера на хуторе близ Диканьки»… Что еще?
– Как вас зовут?
– Нина.
– А по батюшке?
– Васильевна…
– А я – Павлович. Секретарша меня за сына царя приняла, Павла Первого.
– Кровавого?
Сомов пожал плечами.
– Нет, вроде… Павел каким-то другим был, но не кровавым – это точно.
– Неограниченная монархия, – вздохнула Нина.
Сомов оглядел полки с книгами и, увидев Достоевского, спросил:
– А Федор Михалыч у вас на руки выдается?
– Выдается. Только мало берут. Пишет сложно, наверно.
Сомов подошел к стеллажам, прикоснулся пальцами к десятому тому сочинений классика и, глянув на ладную фигурку библиотекарши, сказал:
– Иногда читаешь-читаешь… Ничего не понятно, но потом перечитываешь, и каждое слово – со многими значениями. У меня бабушка Достоевского любит, только она с нами не живет.
– А сколько бабушке?
– Семьдесят стукнуло.
Нина вздохнула и сказала:
– Пожилые все классику любят.
– Я тоже люблю…
– Вы? Вы же еще не старый? Молодым современность надо читать.
Тут Сомов почувствовал, что много потерял в глазах девушки.
– Ну почему же, – почти обиженно проговорил он. – Достоевский, Гоголь, Чехов – это же…
– Тогда уж лучше Толстой, – снова вздохнув, перебила Нина. Она занесла ручку над формуляром и спросила:
– Записываться будете?
Толстой стоял на полке под буквой «Л».
«А на вид такая хорошая», – подумал, выходя из библиотеки, Сомов. Он повертелся в коридоре первого этажа, соображая, как выйти к лестнице, пошел наугад – налево. Коридор вывел на красивую полустеклянную запертую на ключ дверь. Сквозь нее Сомов увидел, что дальше – фойе кинозала. Оттуда можно было попасть в кафе при доме культуры, куда, собственно, Сомов и шел знакомиться. «Все-таки там есть дают», – сказал он сам себе.
Сомов повернул обратно, поднялся на второй этаж и уже оттуда по другой лестнице спустился в фойе. Сеансы еще не начались, кино крутили вечером, но билетерши Гусевы были на месте. Сестрами они не были, но фамилию носили одну и очень походили друг на друга. Особенно когда надевали одинаковые служебные синие халаты.
Сомов вежливо поздоровался, и пожилые билетерши дробно затараторили, словно услышали команду «Огонь!»
– Валентина Митрофановна ваша из кафе уже ушла! А вчера фильм ходила смотреть: «Смерть на закате», а ваш Боровский не пошел, сказал, что спина болит. А в кафе ходят всякие посторонние и таскают туда-сюда огромные сумки! Альфред Лукич сказал, чтобы с вас спрашивать строже!
Сомов улыбнулся, посмотрел на руку, где должны были бы быть часы, и сказал:
– Извините, пора!
– А посторонних пускать не будем! – слышалось вслед. – Так вам и говорим!
Улыбку Сомов продержал до кафе. С ней и вошел. В красивом зале никого не было, за стойкой – тоже. Мерно гудел холодильник, и кафе без бармена показалось Сомову автомашиной без водителя. Сомов оглядел внутреннее великолепие общепитовской точки и почувствовал себя так, словно зашел без спросу в чужую квартиру. В нем жила психология безденежного студента: чем уютнее в кафе или в ресторане, чем лучше и приветливее обслуживают, чем вкуснее кормят, тем больше страха. Сомов, мягко ступая, подошел к бару и подумал, что надо бы купить новый свитер. Тот, что был на нем, показался неприличным.
На стойке стояло меню. Сомов пробежал правую крайнюю колонку с цифрами и, остановившись на семнадцати копейках, перевел взгляд на левую сторону меню. «Бутерброд с сыром», – прочитал он. Из маленькой дверцы в стене вышел молодой человек в белой рубашке с черной бабочкой у горла. Сомов поздоровался, но молодой человек профессионально проигнорировал его и стал что-то быстро считать на калькуляторе. Его короткие толстые пальчики ловко стукались о черные клавиши. «Он еще просто не знает, что я – свой, что здесь работаю», – успокоил себя Сомов. Молодой человек кончил считать на калькуляторе и некоторое время считал в уме, прикрыв выпуклые глаза. Потом он сам себе кивнул и уже ясным взором посмотрел на Сомова.
– Бутерброд, пожалуйста, – попросил инструктор.
– С икрой? Рыбкой? – спросил молодой человек так ласково, словно рыбка была из его домашнего аквариума.
– С сыром, – глухо сказал Сомов и выложил на блюдечко семнадцать копеек.
Молодой человек поставил перед ним блюдце с куском булки с сыром и снова скрылся в маленькой дверце. Сомов проводил его взглядом и поспешил из кафе, жуя бутерброд с чувством глубокого унижения…
Как-то Леня зашел с очень полным молодым человеком. Человек был коротко острижен, и большая его голова крепко сидела на толстой шее.
– Познакомься: Сергей-писатель, – сказал Леня так, как бы назвал фамилию, допустим: Мамин-Сибиряк или Соколов-Микитов.
Молодой человек сел и добавил:
– Из молодых.
Сомов окинул взглядом ладную фигуру писателя и подумал о том, что в литературу вливаются крепкие силы.
– Жена бумаги просила достать для меня. Нет? – спросил Леня.
Сомов честно ответил:
– Мало…
Леня огляделся, но кроме Сомова в кабинете из сотрудников никого не было.
– Схожу к Марии Викторовне, она не такая скряга, как ты.
Шутит Леня или нет, было непонятно. Поэт ушел, а Сергей-писатель откинулся в кресле, положил одну толстую ногу на другую и весомо произнес:
– Заструячил повесть. Сильная повесть получилась, с сюжетом, фабулой…
Сомов посмотрел на его крепкие толстые пальцы и представил, как молодой писатель пробует свою повесть на плотность.
– Описал там игру в карты у одного шулера.
– Скоро книжка? – спросил Сомов, пытаясь сделать приятное.
Сергей-писатель подумал, ответил:
– Отфутболили пока. Не поняли, видимо… А в другой редакции отослали к Достоевскому. Я взял роман, прочитал. Тьфу ты! – думаю, надо же! Тема-то отработана!
Он постучал себя по ноге, получилось звонко, и продолжал:


