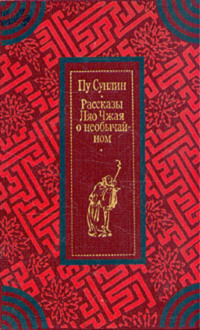Полная версия
Лисьи чары
– Я ведь твердил тебе, – отвечал даос с улыбкой, – что ты не можешь у нас работать. Видишь – сбылось. Завтра утром придется тебя отпустить. Иди себе домой.
– Учитель, – продолжал Ван, – я здесь трудился много дней. Чтобы мое пребывание не оставалось без награды, дай мне, пожалуйста, овладеть хоть каким-нибудь чудесным приемом.
Даос спросил, о каком именно приеме он просит.
– А вот, например, – отвечал Ван, – я вижу, что, куда бы ты ни пошел, на пути твоем никакая стена не преграда. Вот хоть этим волшебным даром овладеть – с меня было бы достаточно.
Даос с усмешкой согласился.
Он стал учить Вана заклинанию и велел наконец ему произнести эти слова самостоятельно. Когда Ван произнес, даос крикнул: «Входи!» Ван, упершись лицом в стену, не смел войти.
– Ну, пробуй же, входи!
Ван и в самом деле легко и свободно опять начал входить, но, дойдя до самой стены, решительно остановился.
– Нагни голову, разбегись и войди в стену, – приказывал даос. – Нечего топтаться на месте!
Ван отошел от стены на несколько шагов и с разбегу бросился в нее. Когда он добежал до стены, то вместо нее было пустое место, как будто там ничего и не было. Обернулся, смотрит – он и на самом деле уже за стеной.
Пришел в восторг, пошел благодарить старца.
– Смотри, – сказал ему тот, – дома храни эту тайну в полной чистоте. Иначе – не выйдет.
Вслед за этим даос дал ему на дорогу всего, что нужно, и отправил домой.
Ван пришел домой и стал хвастать, что знает святого подвижника и что теперь никакая стена, как ни будь она крепка, ему не препятствие. Жена не поверила. Ван решил показать, как он это делает. Отошел от стены на несколько шагов и с разбегу ринулся.
Голова его ударилась в крепкую стену, и он сразу же повалился на пол. Жена подняла его; смотрит, а на лбу вскочил желвак, величиной с большое яйцо. Засмеялась и стала дразнить.
Ван сконфузился, рассердился.
– Какой бессовестный этот даос, – ругался он.
Тем и кончилось.
Историк этих курьезов тут скажет так:Услыхав про такие дела, кто, право же, не захохочет! Меж тем мы слишком часто забываем, что людей, подобных Вану, еще очень немало.
И вот является какой-нибудь дурак, которому приятней жить в отраве и болях, но он боится камня, что лечит нас.
А за таким идут еще другие, что в рот возьмут хоть чирей и язву пососут, расхваливая мощь и славу своего патрона, стараясь угодить его мечтам. Да еще ему врут, что с этими приемами-де можно идти куда захочешь, по всей земле; никто тебя не остановит, да и препятствий никаких…
Действительно, сначала, когда испробует на ком-нибудь такое, кой-где и будет результат, хотя бы и ничтожный сам по себе.
А он сейчас же уж кричит, что в мире нашем Поднебесном, во всей великой широте его земли, везде, везде нам надо действовать вот так!
И до тех пор, пока он не дойдет до случая боднуть, нагнувшись, головой в упор о каменную стену и кувыркнуться прямо на пол, не остановится никак.
Душа чанцинского хэшана
Хэшан из уезда Чанцин отличался высокой религиозною нравственностью и чистотою жизни. Ему было уже за восемьдесят, а он был все еще бодр. В один прекрасный день он вдруг упал и не мог встать. Хэшаны сбежались со всего монастыря ему на помощь, а он уже, как говорят буддисты, погрузился в «круглое безмолвие».
Между тем сам хэшан не знал, что он умер и его душа выпорхнула и полетела к границе соседней губернии Хэнань. А там в это время знатный молодой человек с десятком конных слуг охотился с соколами на зайцев. Вдруг лошадь понесла, он упал и убился насмерть. И вот душа монаха как раз в это время встретилась с бездыханным телом, прильнула к нему и слилась с ним. Тело стало оживать.
Слуги обступили его кругом и участливо спрашивали, как он себя чувствует. Молодой человек открыл глаза и сказал:
– Как это я сюда попал?
Его подняли и принесли домой. Как только он вошел в ворота, его обступили накрашенные, насурьмленные черноглазые наложницы, наперерыв засматривали ему в глаза и расспрашивали.
– Да ведь я монах! – воскликнул он в крайнем изумлении. – Зачем я здесь?
Домашние, видя, что он заговаривается, брали его за ухо и старались внятно говорить, чтоб он понял, где он и кто он. Но хэшан не дал себе труда объяснить, чего хотел, закрыл глаза и не стал больше говорить.
Когда ему давали есть обмолоченную крупу, то он ел, а мясо и вино от себя отталкивал. Ночью он спал один, не принимая услуг ни от жены, ни от наложниц.
Через несколько дней ему вдруг вздумалось походить. Все сильно обрадовались. Вот он вышел, затем отдохнул, и сейчас же к нему явилась целая толпа слуг с денежными счетами и хозяйственными делами, друг перед другом прося его просчитать и проверить. Барич сказал, что он болен и устал, и всех их отпустил. Он только спросил их, не знают ли они дорогу в уезд Чанцин Шаньдунской губернии. Слуги отвечали, что знают.
– Мне скучно, мне здесь не по себе, – сказал им хозяин. – Я хочу туда съездить, посмотреть на те места. Сейчас же соберите меня в дорогу.
Слуги и домашние стали указывать ему на то, что человеку, только что выздоровевшему, не следовало бы пускаться в далекий путь, но он не слушал их и на следующий же день отправился. Доехав до Чанцина, он уже смотрел на эти места как на только что вчера покинутые, никого расспросами не беспокоил, как и куда ехать, а прямо направился к своей обители.
Братия, увидев, что приехал знатный посетитель, встретила его с низкопоклонством и чрезвычайною почтительностью.
– Куда ушел старик-хэшан? – спросил гость.
– Наш учитель, – отвечали ему хором, – давно уже преставился.
Гость спросил, где его могила. Его провели. Смотрит: перед ним одинокая могила в три фута вышиной, еще не вполне покрытая травой. Монахи недоумевали, что все это значит, а он уже велел запрягать и перед отъездом наставительно говорил им:
– Ваш учитель был хэшан сурового воздержания. Вам следовало бы благоговейно чтить и соблюдать даже следы его рук, как заветы отца, не допуская, чтобы они нарушались и пропадали.
Монахи вежливо поддакивали. Гость уехал. Когда он вернулся домой, то уселся как истукан и с какой-то омертвелой, словно холодная зола, душой не стал заниматься никакими домашними делами.
Так прошло несколько месяцев. Раз он вышел из ворот и побежал прямо к старой обители. Там он заявил своим ученикам, что он их учитель. Те, думая, что он все еще находится в заблуждении, переглядывались и пересмеивались. Тогда прибывший стал рассказывать, как вернулась к жизни его душа, что и как он делал всю свою жизнь. Все было совершенно точно, и братия поверила. Посадили его на прежний одр и стали служить ему, как служили раньше.
Затем из барского дома стали часто приезжать и слезно упрашивать его вернуться. Хэшан не обращал на них никакого внимания.
Прошел еще год. Жена его отправила в обитель слуг с разными подарками. Золото и шелк он возвратил, оставив себе лишь холщовый халат.
Один из его друзей, побывав в тех местах, посетил его и выказал ему знаки уважения. Перед ним сидел человек, сурово молчащий, весь проникнутый истиной и большою волей. Возраста он был, как говорит Конфуций, того, когда люди только что «устанавливаются»[29], а рассказывал о делах, случившихся более чем восемьдесят лет тому назад.
Послесловие рассказчикаЧеловек умирает – душа исчезает. Если же она не исчезает, промчавшись тысячи верст, это значит, что нравственная ее природа совершенно утвердилась.
В этом хэшане я удивляюсь не тому, что он дважды родился, а тому, что он, очутившись в месте, где царили красота и роскошь, сумел отрешиться от людей и убежать.
А то ведь если все это сверкнет в глаза и мускусные женские духи попадут человеку в сердце, то бывает, что он смерти ищет от них и не находит. Тем более странно видеть такую вещь в монахе!
Превращения святого Чэна
Студент Чжоу из уезда Вэньдэн был с самого детства товарищем студента Чэна, как говорится, «по кисти и туши»[30]. Оба решили быть друзьями «ступы и песта»[31]. Чэн был беден и чуть не целый год пользовался поддержкой Чжоу. Он был моложе Чжоу по годам и называл его жену своей старшей золовкой. При домашних церемониях, например при выходах в горницу по праздникам, они оба держали себя как члены одной семьи.
Жена Чжоу родила сына и после родов внезапно скончалась. Чжоу взял вторую жену из семьи Ван.
Чэн, как младший, никогда не просил своего старшего друга-брата представить его новой жене.
Однажды Ван, ее брат, пришел навестить сестру, и они все сидели в ее комнате и выпивали. Как раз в это время зашел Чэн. Прислуга прямо прошла туда доложить. Чжоу велел пригласить его, но Чэн не вошел, отказался от приглашения и пошел обратно. Чжоу велел перенести стол в гостиную, погнался за ним и вернул.
Только что они уселись, как пришли доложить, что слуга Чжоу, живший на его даче, был сурово наказан палками по приказу местного уездного начальника. Дело было в том, что незадолго перед этим работник в доме Хуана, служившего в Министерстве чинов, прогнал коров по полям Чжоу, за что и был слугою Чжоу изруган. Тогда работник побежал к хозяевам и пожаловался. Слугу Чжоу схватили и потащили к уездному начальнику, а тот велел дать ему палок.
Расспросив об этом происшествии подробно, Чжоу сильно рассердился.
– Как? – кричал он. – Этот свинопас Хуан и вдруг посмел… Да ведь его предки были слугами у моего покойного деда. Теперь он вдруг добился чиновного положения, и что ж? – значит, для него никто и не существует!
Гнев сдавил ему горло и грудь. Он вскочил и бросился к Хуану. Чэн схватил его за руку и стал удерживать.
– В этом мире насилия никогда не было черного и белого. Стоит ли тем более считаться с нынешними чиновниками, из которых половина – грубые разбойники… Кто из них, скажи, не грозит нам оружием?
Чжоу ничего не хотел слышать. Чэн старался всячески его унять, наконец сам расплакался, и тогда только Чжоу остановился, но гнев его отнюдь не прошел, и он всю ночь до утра проворочался в постели. Утром он заявил семье:
– Хуан меня оскорбил. Он мне враг. Пусть! Оставим его… Но начальник-то нам дан правителем от царя, а не от разных влиятельных господ. Если двое заспорили, то ведь надо же выслушать обе стороны! Можно ли дойти до того, чтобы, как пес, бросаться на человека, на которого тебя натравливают? Вот и я возьму да напишу прошение, чтобы он наказал Хуанова работника; посмотрим, как он тогда поступит!
Все в семье принялись его подзадоривать, и он наконец решился. Написал бумагу, отнес ее к начальнику, но тот разорвал ее и выбросил. Чжоу вспылил и оскорбил начальника словами. Тот возмутился, велел схватить Чжоу и связать.
Днем Чэн зашел повидать Чжоу и узнал от домашних, что тот поехал в город подать жалобу. Чэн бросился за ним бегом, чтобы отговорить его, но нашел Чжоу уже в тюрьме.
Потоптался, потоптался Чэн, но ничего придумать не мог.
Как раз в это время поймали троих пиратов. Начальник и Хуан подкупили их, приказав им показать на Чжоу как на сообщника. На основании их словесных заявлений пришел приказ снять с Чжоу костюм ученого и жестоко наказать палками. Чэн пришел в тюрьму, посмотрел на Чжоу с острой жалостью и посоветовал ему обратиться к государю.
– Тело мое привязано здесь целым рядом тюремных псов, – сказал Чжоу. – Я как птица в клетке. Хоть и есть у меня младший брат, но ведь у него хватит сил лишь на то, чтобы доставлять мне в тюрьму пищу.
– Я берусь за это, – смело сказал Чэн. – Это мой долг. Не помочь человеку в беде – зачем тогда иметь друга?
Сказал и ушел. Брат Чжоу хотел дать ему на дорогу денег, но Чэн, оказывается, давно уже отправился.
Добравшись до столицы, он увидел, что проникнуть с жалобой во дворец у него путей нет. Но как раз в это время прошли слухи о том, что на днях выезжает на охоту царский поезд. Чэн постарался заранее спрятаться на дровяном дворе.
Вот проходит мимо него царский поезд. Чэн выскакивает, падает ниц, корчится, стонет и громко кричит… Его выслушивают, и он получает нужное разрешение.
Императорский приказ сейчас же спешной почтой был отправлен в столицу и послан в надлежащее учреждение, которому предписывалось вникнуть в дело, разобрать и сделать донесение.
К этому времени прошло уже десять с лишком месяцев, и Чжоу был, несмотря на свою невинность, приговорен к казни. Когда палата получила императорский указ, чиновники сильно перепугались, и велено было произвести личные дознания. Хуан тоже перепугался и решил убить Чжоу. С этой целью он подкупил тюремного надзирателя, чтобы тот лишил Чжоу пищи.
Теперь, когда брат Чжоу приходил с едой, надзиратель резко запрещал ему свидание. Чэн опять побежал в палату и громко кричал о несправедливости. Наконец ему удалось добиться, чтобы было произведено дознание, но Чжоу уже умирал от голода и не мог вставать. Правитель палаты рассердился и велел забить надзирателя тюрьмы палками насмерть.
Хуан опять сильно испугался, сейчас же дал кому следует несколько тысяч ланов, чтобы только как-нибудь все устроить и выпутаться. Действительно, ему удалось этим путем кое-как замазать дело и устраниться от суда. Но уездный начальник за преступление и нарушение закона был присужден к изгнанию, а Чжоу отпущен домой.
Теперь он еще больше привязался к Чэну, а тот после всех этих судов и тюрьмы окончательно умер для мира и его дел. Он стал настойчиво звать Чжоу уйти с ним вместе от мира. Но Чжоу, весь утонув в любви к своей молодой жене, только смеялся над его чудачеством и не соглашался. Чэн не возражал, но в мыслях своих уже принял твердое решение.
И вот прошло несколько дней с тех пор, как они расстались после этого разговора, а Чэн не появлялся. Чжоу послал к нему на дом узнать, что с ним, но домашние Чэна решили, что он сидит у Чжоу, и, таким образом, ни там, ни здесь никто ничего о нем не знал.
Чжоу начал подозревать, что Чэн исполнил то, о чем говорил, и, зная о его странностях, послал своих людей разыскивать следы его местопребывания. И вот обшарили буквально все монастыри, как буддийские, так и даосские, все горы и долы в окружных местах, но Чэна не нашли.
Чжоу от времени до времени из жалости и любви к сыну Чэна давал ему золото и шелка…
Так прошло лет восемь-девять.
Вдруг как-то неожиданно Чэн сам появился в желтой шапке и шубе из перьев[32], с возвышенно устремленным выражением лица – настоящий даос! Чжоу ему сильно обрадовался, схватил за руки и сказал:
– Дорогой мой, куда ты исчез? Ты заставил меня обыскать чуть не весь мир!
– Одинокое облако и дикий журавль, – говорил ему на это Чэн, – останавливаются и гнездятся где придется. Нет у них определенного места. С тех пор как расстались с тобой, я, к счастью, все время был цел и здоров.
Чжоу велел подать вина, стал рассказывать, как и что тут было. Он хотел, чтобы Чэн хоть ради него оставил свой даосский наряд и сменил его на прежнее платье. Чэн улыбался и молчал.
– Глупый ты, – продолжал Чжоу. – Как можно так бросить жену и детей, словно они не люди, а рваные туфли?
– Неправда, – смеялся Чэн. – Это люди хотят меня бросить, а не я людей.
Чжоу спросил друга, где же он поселился, и услышал в ответ, что он пребывает в Верхнем Чистом храме, среди гор Лао.
Затем они улеглись спать, поставив свои кровати рядом. Чжоу приснилось, будто Чэн совершенно голый лежит на его груди и давит так, что Чжоу не может дышать. В крайнем изумлении Чжоу спрашивает, что он делает, но тот не отвечает, молчит… И вдруг Чжоу в сильном испуге проснулся и окликнул Чэна. Чэн не отозвался. Чжоу сел на лавку и начал искать, но место было пустое, и куда Чэн исчез, было неизвестно.
Слегка оправившись от испуга, через некоторое время Чжоу вдруг заметил, что лежит на кровати Чэна.
– Как странно, – дивился он. – Вчера я пьян не был. Как это вдруг получилась такая путаница?
Позвал домашних. Вошли, зажгли огонь. Смотрят – он совершеннейший Чэн!
У Чжоу всегда на лице было много волос. Пощупал рукой – жидко-жидко, всего несколько волосков. Схватил зеркало, посмотрелся и в испуге вскричал:
– Чэн вот здесь, а куда же девался я?
И понял Чжоу, понял на этот раз глубоко и ясно, что Чэн волшебным способом зовет его уйти от мира.
Затем ему захотелось пройти к жене, но его брат, видя его необыкновенную наружность, воспротивился и не пустил его. Чжоу не мог, конечно, ничем доказать, что это он сам.
Тогда он велел слуге оседлать лошадей и поехал искать Чэна. Через несколько дней он уже был в горах Лао. Лошадь Чжоу шла быстро, слуга не мог за ним поспевать. Тогда он остановился под каким-то деревом и стал отдыхать. Видит, мимо ходят монахи, «пернатые гости»[33], один из них пристально посмотрел на Чжоу. Тот воспользовался этим, чтобы спросить о Чэне. Даос улыбнулся и сказал:
– Я слышал о нем, знаю его по имени. Кажется, он живет в Верхнем Чистом храме.
Сказал и пошел дальше. Чжоу проводил его глазами и увидел, что на расстоянии полета стрелы даос опять заговорил с каким-то человеком и, также сказав несколько слов, ушел.
Теперь этот человек подходил к Чжоу, и он узнал в нем студента, своего земляка и товарища. Увидев Чжоу, тот сильно изумился:
– Сколько лет мы не видались! – восклицал он. – Как же это так? Люди говорят, что вы погрузились в изучение дао на святых горах, а оказывается, вы весело разгуливаете среди нас, смертных!
Чжоу рассказал свою чудесную историю. Студент в совершенном изумлении сказал:
– Да ведь тот, с которым я только что встретился… это кто же? Ведь я думал, что это были вы! Впрочем, он ушел недавно и, вероятно, не должен быть отсюда далеко.
– Как странно, – бормотал совершенно сбитый с толку Чжоу. – Своего собственного лица не узнать!
Подъехал наконец слуга, и они помчались, но никаких следов и признаков ушедшего не обнаружили. Куда ни глянь – всюду было просторно и пустынно, и трудно было решить, идти ли вперед или обратно. Чжоу, помня, что у него теперь нет дома и что деваться ему все равно некуда, твердо решил искать до конца.
Однако его крайне смущали крутизны окружающих гор, по которым уже невозможно было пробираться верхом. Тогда он отдал свою лошадь слуге и отпустил его домой, а сам пошел куда глаза глядят, то прямо, то сворачивая в сторону.
Где-то он заприметил мальчика, сидящего в одиночестве, и устремился к нему, чтобы спросить дорогу. Рассказал ему, куда идет и зачем. Мальчик сказал ему, что он ученик Чэна, взял у него его одежды, припасы и понес. Чжоу пошел за ним.
Идти пришлось очень далеко. Под звездами ели, в росе спали. Только через три дня пришли, но этот Верхний Чистый храм оказался не тем, который был всем известен под этим именем.
Стояла уже десятая луна, даже в середине, но горные цветы покрывали все дороги, так что было совершенно непохоже на начало зимы.
Мальчик пошел доложить о госте, и Чэн сейчас же вышел к нему. Тут только Чжоу узнал свою собственную наружность. Чэн взял его за руки, ввел к себе, поставил вина, и они стали за вином беседовать.
Чжоу увидел птиц с перьями причудливых, невиданных цветов, которые слушались человека и не боялись его. Их голоса напоминали флейту. По временам они садились на кресла и пели. Чжоу сильно дивился, видя их. Однако мирские заботы и чувства крепко владели его помыслами, и ему не хотелось здесь оставаться.
Чэн посадил его с собой на рогожный коврик, лежавший рядом с другими такими же на полу, и вот после второй стражи[34] все тысячи человеческих забот в Чжоу окончательно замолкли, и он вдруг, как ему показалось, на мгновение смежил очи и вздремнул, причем сейчас же почувствовал, что он поменялся с Чэном местами. Усомнившись в себе, он хватился за подбородок, а длинные-длинные пряди бороды были опять на прежнем месте.
С рассветом он опять размечтался о доме и захотел отсюда уйти. Чэн всячески старался его удержать, но через три дня сказал ему:
– Прошу тебя, сосни немного. Утром я тебя отправлю в путь.
Только что Чжоу закрыл глаза, как слышит, что Чэн кричит ему:
– Вещи собраны!
Чжоу встал и пошел за ним. Пошли они совершенно иной дорогой, не той, что прежде, и, как показалось Чжоу, через очень короткое время родное село было уже перед ним. Чэн сел у дороги и ждал, пока Чжоу уйдет домой. Он хотел, чтобы друг его шел один, но Чжоу тащил его силой идти вместе. Однако это ему не удалось, и Чжоу доплелся домой одиноко.
Дойдя до ворот своего дома, он постучал, но не мог достучаться. Тогда ему вздумалось перелезть через забор, и вдруг он почувствовал, как тело его стало легким-легким, словно лист на ветре. Он легко подпрыгнул и оказался по ту сторону забора. Со двора на двор он точно так же перепорхнул через несколько стен и наконец добрался до спальни. Свечи горели, жена еще не спала, а с кем-то тихонько разговаривала.
Чжоу лизнул оконную бумагу, промочил ее и, сделав отверстие, заглянул в комнату. Он увидел тогда, что его жена пьет вино из одной чарки со слугой, и вид у обоих самый непристойный.
Чжоу закипел гневом, словно его зажгли, и уже хотел накрыть их, но подумал с опаской, что одному ему трудно будет справиться. Тогда он тихонько открыл ворота, вышел из дома, побежал к Чэну, рассказал ему все, что видел, и просил прийти на помощь. Чэн с полной готовностью пошел за ним. Они прошли прямо к спальне.
Чжоу поднял камень и бросил им в дверь. Внутри страшно засуетились. Чжоу ударил еще крепче. Дверь закрыли еще плотнее. Тогда Чэн ткнул ее мечом, и она разом открылась. Чжоу вбежал в спальню. Слуга бросился в открытую дверь и побежал, но Чэн, стоя за дверью, ударил его мечом и отсек ему плечо с рукой. Чжоу схватил жену и стал требовать ответа. Выяснилось, что как раз в то время, когда муж был забран, она вступила в связь со слугой.
Чжоу взял у Чэна меч и отрубил ей голову, а кишки намотал на дерево, росшее во дворе. Затем вместе с Чэном вышел. Они разыскали дорогу и вернулись в храм…
И вдруг Чжоу проснулся, словно его встряхнули. Оказалось, что он лежит на кровати.
– Какой странный я видел сон, – сказал он в испуге Чэну, – какой причудливый и страшный! Он так напугал меня, что я весь дрожу.
– Ты свой сон считал действительностью, – отвечал с улыбкой Чэн, – ну а настоящую-то действительность придется все-таки считать твоим сном.
Чжоу выразил недоумение и спросил, как это понять. Тогда Чэн вынул меч и показал ему: струи крови так и остались на клинке. Чжоу трясся от страха чуть не до обморока и думал про себя, что Чэн морочит его своими чарами. Тогда тот, зная уже его мысли, стал торопить его собираться в путь и проводил до дому.
Вяло добрели они до ворот села.
– Помнишь, – спросил Чэн, – ту недавнюю ночь, когда я с мечом в руке ждал тебя здесь? Не на этом ли месте это было? Мне противно глядеть на подлость и грязь. Позволь я опять останусь тебя здесь ждать. Если ты после полудня не придешь, я уйду один.
Чжоу пришел домой. Дом оказался запертым и заброшенным, как будто здесь никто не жил. Чжоу зашел в дом к брату. Тот при виде Чжоу заплакал.
– Когда ты ушел, братец, – говорил он, роняя на землю слезы, – вор ночью убил твою жену, вырезал кишки и убежал… Мне так горько и обидно… А до сих пор власти так и не нашли злодея!
Чжоу, очнувшись словно от сна, рассказал брату все, как было, и предупредил его, чтобы злодея дальше не разыскивали. Брат долго стоял в полном изумлении.
Чжоу спросил теперь о своем сыне. Брат велел няньке принести его.
– Это существо, лежащее здесь в пеленках, – говорил Чжоу, – важно для продолжения рода наших предков. Ты хорошенько присматривай за ним, а я хочу распроститься с миром и людьми.
Поднялся и пошел в путь. Брат бросился за ним, со слезами умоляя остаться, но Чжоу шел смеясь и не обращая внимания. Вышел за околицу в поле, нашел Чэна и пошел вместе с ним. Затем уже издали повернул голову и крикнул брату:
– Терпение – вот высшая радость!
Брат хотел что-то сказать, но Чэн, расправив свой широкий рукав, поднял Чжоу, и оба стали незримыми.
Брат Чжоу печально постоял и затем весь в слезах вернулся домой.
Он оказался слишком простым, нерасторопным, непригодным к устройству дома и порядка в нем. Не умел и наживать добро, так что через несколько лет семья обнищала.
Сын Чжоу тем временем подрастал. Однако нанять ему учителя дядя уже не был в состоянии и учил его сам. Однажды рано утром, войдя в кабинет, он нашел на столе пакет с письмом, запечатанным весьма плотно.
На конверте была надпись: «Вскрыть Чжоу Второму». Посмотрел внимательно: почерк брата. Вскрыл – в пакете не оказалось ничего, кроме одного ногтя длиной в два с лишком пальца. Подивился, недоумевая, что это значит, и положил ноготь на камень для растирания туши, а сам вышел спросить у домашних, откуда взялся этот пакет. Никто не знал.