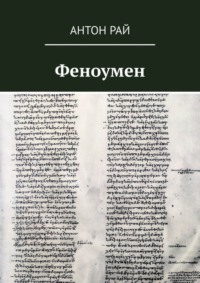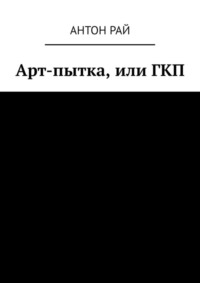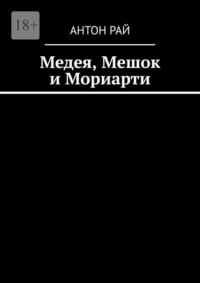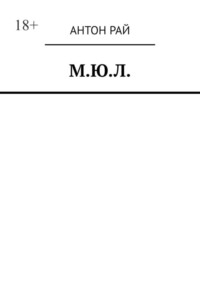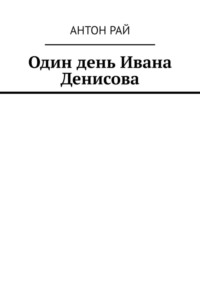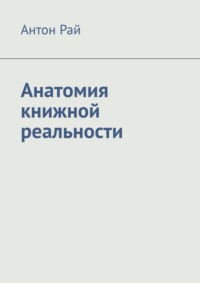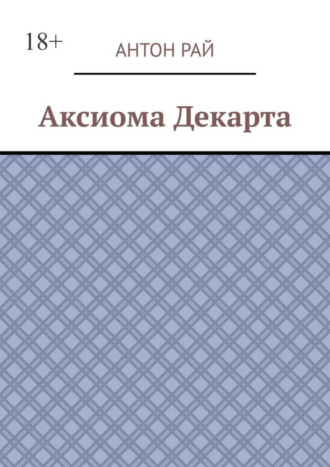
Полная версия
Аксиома Декарта
– Что ты имеешь в виду?
– Помнишь Абрагама? Вот перед кем открывалось блестящее будущее. В студенческие годы он во всем меня опережал. Ему доставались все награды и стипендии, на которые я метил. При нем я всегда играл вторую скрипку. Не уйди он из больницы, и он, а не я, занимал бы теперь это видное положение. Абрагам был гениальным хирургом. Никто не мог состязаться с ним. Когда его взяли в штат Святого Фомы, у меня не было никаких шансов остаться при больнице. Я бы сделался просто практикующим врачом без всякой надежды выбиться на дорогу. Но Абрагам ушел, и его место досталось мне. Это была первая удача.
– Да, ты, пожалуй, прав.
– Счастливый случай. Абрагам – чудак. Он совсем опустился, бедняга. Служит чем-то вроде санитарного врача в Александрии и зарабатывает гроши. Я слышал, что он живет с уродливой старой гречанкой, которая наплодила ему с полдюжины золотушных ребятишек. Да, ума и способностей еще недостаточно. Характер – вот самое важное. Абрагам был бесхарактерный человек. … Конечно, с моей стороны было бы лицемерием делать вид, будто я жалею, что Абрагам так поступил. Я-то ведь на этом немало выиграл. – Он с удовольствием затянулся дорогой сигарой. – Но не будь у меня тут личной заинтересованности, я бы пожалел, что даром пропал такой талант. Черт знает что, и надо же так исковеркать себе жизнь!
Я усомнился в том, что Абрагам исковеркал себе жизнь. Разве делать то, к чему у тебя лежит душа, жить так, как ты хочешь жить, и не знать внутреннего разлада – значит исковеркать себе жизнь? И такое ли уж это счастье быть видным хирургом, зарабатывать десять тысяч фунтов в год и иметь красавицу жену? Мне думается, все определяется тем, чего ищешь в жизни, и еще тем, что ты спрашиваешь с себя и с других. Но я опять придержал язык, ибо кто я, чтобы спорить с баронетом?» (Сомерсет Моэм. «Луна и грош»)
Ну а мы поспорим или в чем-то даже согласимся с баронетом. И в первую очередь мы должны четко ответить на вопрос: «Чья все-таки жизнь осмысленнее: Абрагама или Алека?». Ответ однозначный: Абрагама. Почему я настаиваю на однозначности? Из-за момента пробуждения. У Абрагама этот момент был, у Кармайкла – нет. Конечно, всех подробностей жизни Абрагама (как и Кармайкла) мы не знаем, поэтому не можем утверждать категорично, что именно побудило его сделать такой выбор. В тексте говорится лишь, что, оказавшись в Александрии, он вдруг почувствовал себя дома – «Ему казалось, что здесь его родина». Но в рамках разумных допущений можно предположить, что он не видел смысла во всей своей блестящей деятельности хирурга, хотя тем самым он и раскрывал свои способности; он предпочел раскрытию способностей – простое существование. Европейская цивилизация выступает здесь как символ существования, подчиненного профессиональному долгу, тогда как Александрия – символ существования как такового, существования более спонтанного. Проблема в том, что именно тут Абрагам и пережил настоящее пробуждение – не тогда, когда он певращался в гениального хирурга, но как раз, когда отказался от своих гениальных способностей и блестящих карьерных перспектив. Можно сказать, что, дойдя до вопроса – зачем он делает то, что делает? — он вдруг понял, что внятного ответа нет и заново ответил на первый вопрос, переосмыслив всю свою жизнь. Что я хочу делать? – ничего, я не хочу выстраивать свою жизнь через дело, я хочу просто – жить! (хочу быть живым существом, а не – врачом, пусть и занимаясь врачебной практикой) – так можно описать случай Абрагама.
Получается, что пробудился Абрагам, а способности раскрывает Алек. Как так? Но если бы мы действительно видели, как Алек Кармайкл раскрывает свои врачебные способности, то и разговор был бы другим. Может быть, это и так, но судить (пусть и додумывая) мы можем лишь по тому материалу, что нам дается автором книги, а Моэм рисует образ человека, уверенно движущегося вверх по карьерной лестнице, и всё более преуспевающего, но не более того. То есть способности для Алека, как и для Абрагама, являются лишь средством; но если Абрагама его способности кормят, то Алека – перекармливают. Но подлинно Врачом не является ни тот, ни другой. А если так, то, конечно, Абрагам куда честнее. Куда честнее и интереснее жить, чем делать карьеру. Можно возразить, что карьерный рост подразумевает и развитие способностей (разве Алек Кармайкл достиг бы высокого положения, если бы не был способным врачом?), но ведь суть дела всегда во внутренней мотивации. Что довлеет? Что является причиной, а что – следствием? Раскрытие способностей или то, что ему сопутствует? Преуспеяние в выкуривании дорогих сигар или все-таки в чем-то другом?
В общем, вместо предполагаемого противопоставления: «дело жизни – жизнь», мы получаем другое противопоставление: «карьера – жизнь». Один человек делает карьеру, другой отказывается. Абрагам поставил крест на карьере, чтобы жить, но «карьера» и есть нечто настолько сомнительное, что только обесценивает всякое дело и обедняет содержание жизни. Лучшее, что и можно сделать с «карьерой» – это поставить на ней крест. Делать карьеру бессмысленно (предоставим это дело самодовольным Алекам Кармайклам); всякий думающий человек, задающийся вопросом о смысле, понимает, что карьерный рост не совпадает с ростом личностным. Далее, однако, велико искушение всякое «дело» свести к «карьере», а всякий успех в деле – к карьерному росту. Тот, кто думает таким образом, скорее всего и проникается глубоким скептицизмом по отношению ко всем мыслимым делам.
Повторюсь, мне такой подход чужд, потому что карьера карьерой, а талант – талантом. Ведь при всем своем ограниченном самодовольстве в одном Алек Кармайкл прав – Абрагам угробил свой талант. Сознанию трудно с этим примириться, поскольку сознание всегда настаивает на том, что талант должен быть реализован. «Я должен открыть и реализовать скрытые во мне способности» – так можно сформулировать категорический императив сознания (его еще можно назвать категорическим творческим императивом). Чарльз Стрикленд – главное действующее лицо другого романа Моэма («Луна и грош»), подобно Абрагаму сбежал от европейской цивилизации, но им-то как раз руководствовало стремление выразить свой талант художника, и он просто искал наиболее подходящую для этого среду. А это совсем другое дело; совсем другое, то есть сознательное пробуждение:
«– И живопись вам дается?
– Еще не вполне. Но я научусь. Для этого я и приехал сюда. В Лондоне нет того, что мне нужно. Посмотрим, что будет здесь.
– Неужели вы надеетесь чего-нибудь добиться, начав в этом возрасте? Люди начинают писать лет в восемнадцать.
– Я теперь научусь быстрее, чем научился бы в восемнадцать лет.
– С чего вы взяли, что у вас есть талант?
Он ответил не сразу. Взгляд его был устремлен на снующую мимо нас толпу, но вряд ли он видел ее. То, что он ответил, собственно, не было ответом.
– Я должен писать.
– Но ведь это более чем рискованная затея! … Конечно, может случиться чудо, и вы станете великим художником, но вы же должны понять, что тут один шанс против миллиона. Ведь это трагедия, если в конце концов вы убедитесь, что совершили ложный шаг.
– Я должен писать, – повторил он.
– Ну, а что, если вы навсегда останетесь третьесортным художником, стоит ли всем для этого жертвовать? Не во всяком деле важно быть первым. Можно жить припеваючи, даже если ты и посредственность. Но посредственным художником быть нельзя.
– Вы просто олух, – сказал он.
– Не знаю, почему так уж глупы очевидные истины.
– Говорят вам, я должен писать. Я ничего не могу с собой поделать. Когда человек упал в реку, неважно, хорошо он плавает или плохо. Он должен выбраться из воды, иначе он потонет». (Сомерсет Моэм. «Луна и грош»).
У Стрикленда на всё один ответ: Я должен писать, и всё тут (частный случай общего положения: «Я должен открыть и реализовать скрытые во мне способности»). И напрасно его собеседник считает, что это не ответ. Это не просто ответ, но абсолютно сознательный ответ. Или всю жизнь проспать, или проснуться. С точки зрения сознания подход как Абрагама (предпочтение существования раскрытию способностей), так и Кармайкла (карьерный рост и следующие из него блага) ущербны, верен лишь подход Стрикленда. Но лично для себя Абрагам прав, как и Стрикленд, а вот Кармайкл в любом случае заблуждается, не понимая ни жизни, ни ее смысла. Зато на стенах его столовой висят прекрасные картины, скажете вы. Что ж, позавидуем ему, если есть в чем, но больше позавидуем Абрагаму и попросту поумираем от зависти к Стрикленду!
Случай врача Абрагама отличается и от случая с пловцом, и от случая теннисиста. Пловец понял, что именно его дело (плавание) не приобщает его к высшему смыслу, просто в силу ограничений, сопутствующих спорту как роду деятельности. Врач попросту отрицает всякое дело как нечто, дарующее смысл, предпочитая обычное существование. Теннисист вовсе ничего не знает о проблеме выбора. Для этого он слишком крепко спит.
2.9. Случай Фанни Прайс, или Художник без таланта
«– Плевать мне на то, что они обо мне думают. Я всё равно буду учиться. Я знаю, у меня есть талант. Чувствую, что я художник. Лучше умру, чем брошу живопись. Да я и не первая, над кем смеялись в школе, а потом оказалось, что это и был настоящий гений. Искусство – единственное, что мне дорого, и я с радостью отдам ему жизнь. Всё дело в упорстве и умении работать». (Фанни Прайс)
Да, здорово, хотя и очень тяжело, быть Чарльзом Стриклендом, но совсем не здорово и еще тяжелее быть Фанни Прайс. Кто такая Фанни Прайс? Герой еще одного романа Сомерсета Моэма – «Бремя страстей человеческих». Фанни – художник без таланта, который, тем не менее, кладет всю свою жизнь на алтарь искусства. Безрезультатно. Тяжкий труд, лишения32, непонимание окружающих – через это приходилось и приходится проходить всем одаренным людям; но ведь и тем, кто не одарен, тоже приходится проходить через это. Итог подвижнической жизни Чарльза Стрикленда – художественное бессмертие; итог подвижнической жизни Фанни Прайс – петля и полное забвение33.
Здесь сознание оказывается в весьма непростой ситуации, ведь Фанни Прайс следует категорическому творческому императиву сознания: она должна любой ценой («Лучше умру, чем брошу живопись») раскрыть свои способности. Но если этих способностей попросту нет? А как это понять? Человек – слишком большой мастер самообольщения на свой счет. Когда один из преподавателей живописи говорит Фанни, что той следовало бы стать портнихой…
«– Посмотрите, руки тут разной длины. Колено уродливо. Говорю вам: пятилетний ребенок – и тот нарисовал бы лучше. Видите, она ведь не стоит на ногах. А ступня?
Вторя словам, уголь гневно проводил черту за чертой, и через миг рисунок, которому Фанни Прайс отдала столько часов и душевных сил, стал неузнаваемой путаницей линий и пятен. Наконец Фуане швырнул уголь и встал.
– Послушайтесь меня, мадемуазель, попробуйте стать портнихой». (Сомерсет Моэм. «Бремя страстей человеческих»)
…но то же самое он мог бы сказать и Стрикленду34. Это всегда и сбивает с толку бесталанных энтузиастов – никто не может помешать им считать себя непризнанными гениями. Фанни, как и Стрикленд, твердит себе: «Я должна писать». Таково категорическое требование сознания. Сознание не может примириться с участью портнихи; даже и портниху сознание побуждает превратиться в кутюрье, то есть так или иначе побуждает к творчеству. Но ведь и сознательным (в случае Фанни) такой подход никак не назовешь. Сознанию остается осознать свою бездарность, но… осознать свою бездарность – какое сознание вытерпит такую муку? Получается, что сознание побуждает людей к деятельности, которая им не по плечу, а потом с жестоким равнодушием отворачивается от них. «Дерзайте, раскрывайте свои способности», – подстрекает сознание. Не можете раскрыть – лезьте в петлю. Так, что ли? Я бы хотел ответить, что не так, но обосновать, почему это не так, не могу. Сделайте это Вы, если сможете.
Я же считаю жизнь Фанни глубоко трагичной, но, что важнее, я считаю ее жизнь жизнью подлинного художника. Случай Фанни – это тот редкий случай, когда отсутствие таланта не может вычеркнуть человека из «списка» причастных к Искусству. Таланта нет, а Художник налицо. У многих художников-карьеристов дело обстоит прямо противоположным образом. В искусстве полно своих преуспевающих алеков кармайклов, и, конечно, они довольно многое умеют, но ни одного из них я бы Художником не назвал.
Часть третья. Случай Толстого, случай Достоевского
3.1.0. Случай Толстого
Настало время обратиться к титанам духа. Пловцы, теннисисты, даже хирурги – все они слишком «телесны», но ведь известен не один случай, когда и в высочайшей сфере жизни духа величайшие мастера в своей сфере деятельности презрительно относились к своему делу. Вспомним хоть Толстого и его презрение как к «Войне и миру», так и еще в большей степени к «Анне Карениной». Толстой вообще не хотел быть писателем, он считал, что не в этом его подлинное призвание. Но как же так? Если Толстой пробудился к писательству, а в этом у нас не может быть никаких сомнений, то не получается ли что он знал как (надо писать) не зная ни что (он действительно хочет), ни тем более – зачем (он это делает). Мы, однако, не должны забывать вот о чем: чтобы с презрением отзываться об «Анне Карениной» и «Войне и мире», Толстому надо было сначала написать «Анну Каренину» и «Войну и мир». Но сами по себе эти произведения и отвечают на вопрос «зачем вообще работает писатель?» – так как они являются вехами Абсолюта в мире литературы. Поэтому Толстой не мог не знать ответа на вопрос «зачем?» – как бы он сам ни пытался это отрицать. Так что отступничество Толстого от своих шедевров мы должны понимать лишь в контексте судьбы самого Толстого, но никак не в контексте их создания. «Анне Карениной» все равно, что Толстой будет «ее» презирать, потому что написать «Анну Каренину» не мог тот, кто презирал бы это произведение. Или все-таки мог? Во всяком случае, если бы можно было доказать, что Толстой относился с пренебрежением к своей работе писателя во время своей писательской работы, то это серьезным образом подорвало бы логику данного рассуждения, – по меньшей мере в этой главке. Так что дерзайте – опровергайте. Я же отталкиваюсь то того, что знаменитая дневниковая запись: «Люди любят меня за те пустяки – „Война и мир“ и т.п., которые им кажутся очень важными», – датирована 6 декабря 1908, а не, скажем, 1878 года.
3.1.1. Случай Толстого. Исповедь
Не очень приятно сознаваться в своем невежестве, но – когда приходится, тогда приходится. И лучше уж пробудиться от спячки невежества в постскриптуме, чем в пост-публикации. В главке «Случай Толстого» я призвал к опровержению высказанных в ней мыслей, что ж, я и сам могу себя опровергнуть. Да, дневниковая запись насчет «пустяков» была сделана в 1908, а не в 1878 году, но «Исповедь» -то была написана Толстым в 1879—1882 годах, то есть почти сразу после «Анны Карениной». И что говорит Толстой в «Исповеди»? Да все то же самое. Писал он из тщеславия, и всё это пустяки. Подлинное же призвание его – учить людей, как тем следует жить; он хотел учить и через писательство, но тогда он не знал – чему учить. Теперь, открыв в себе веру, пусть это открытие и дается ему тяжело, он знает, что только Бог придает жизни смысл, но никак не «Война и мир» и не «Анна Каренина». Более того, Толстой прямо говорит о времени работы над двумя своими главными произведениями:
«Несмотря на то что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей». («Л. Н. Толстой. «Исповедь»)
Значит, все-таки можно написать «Анну Каренину», считая эту работу пустяковой? Вопросик… Так можно или нельзя? И если Толстой сам говорит – «можно», разве можем мы утверждать, что – «нельзя»? Вообще, «Исповедь» особенно ценна тем, что Толстой четко ставит в ней главный вопрос: зачем? Удивительно же то, что и подобия ответа на этот вопрос он не находит:
«Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..»
И я ничего и ничего не мог ответить». (Л. Н. Толстой. «Исповедь»)
Да, я не перестаю удивляться этому (отсутствию ответа), потому что, казалось бы, именно работа над «Анной Карениной» (а не над какими-нибудь пустяками) должна была ответить на этот вопрос. И дело, конечно, не в одной только славе; само соревнование с Шекспиром, Пушкиным и Гоголем – это ведь не пустая погоня за славой. Стать в один ряд со столь великими – это подлинно великое дело. Толстой же презрительно бросает – пустяки. Как же все-таки можно это объяснить – такую удивительную слепоту относительно собственного жизненного призвания? Как можно воплощать смысл своей жизни и в это же время считать, что ты заглушаешь всякие вопросы о смысле?
3.1.2. Случай Толстого. Невыносимая легкость творчества
У меня есть объяснение, удачное или неудачное, решайте сами, я же его просто озвучу. Главная проблема Толстого и состоит в самом этом слове – пустяки. Слишком легко всё ему давалось. Захотел стать писателем – и стал, захотел стать писателем величайшим – и стал величайшим писателем. Вот так просто. Но ведь так не бывает? Выходит, бывает. А теперь вернемся к главной теме данного рассуждения – к проблеме сна, пробуждения и бодрствования в контексте жизненного призвания. Получается, что Толстой пропустил момент пробуждения и сразу от сна перешел к бодрствованию, не заметив никакого момента перехода. Могущество его таланта и благоприятные условия для раскрытия таланта позволили ему не заметить этого момента. Поэтому он и продолжает считать бодрствование – сном. Толстой не видит, что он проснулся к жизни, жизнь не потребовала от него пробуждения. Только вера в Бога поставила перед ним проблему, именно в силу того, что он не может вполне в Него поверить. Работать по десять часов в сутки над «Анной Карениной» – это легко, а вот поверить в Бога – трудно. Поэтому Бог для Толстого и привлекательнее Анны, ведь только Бог смог задать ему работу. Между прочим, заканчивается «Исповедь» именно тем, что Толстой проснулся. Проснулся, поверив.
3.1.3. Случай Толстого. Закон доминантного несчастья
Нет, опять не совсем то. Что значит, что Толстому всё легко давалось? Имеем ли мы право это утверждать? Но ведь это утверждает сам Толстой:
«И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми-десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни». (Л. Н. Толстой. «Исповедь»).
Есть в жизни некий страшный закон доминантного несчастья. Чаще всего его формулируют следующим образом: на долю человека всегда выпадает больше несчастий, чем счастья. К этому оптимистичному положению обыкновенно добавляется приятное приложение: за всякое выпавшее счастье придется чем-то поплатиться, оно обязательно уравновесится каким-то несчастьем (математически выражаясь, несчастье всегда больше или равно счастью, но никогда не меньше). Но случай Толстого еще усугубляет этот закон, Толстой словно бы подсказывает: когда всё слишком хорошо, то мыслящему человеку и самому становится тошно от выпавшей ему удачи. Если нет в вашей жизни подлинного несчастья, то надо его – выдумать!35 Жизнь слишком хороша, чтобы можно было жить – так, что ли? Моя жизнь, слава небу, не настолько хороша, чтобы я стал задаваться таким вопросом, поэтому я со спокойной душой радуюсь хорошим временам, чего и вам желаю.
3.1.4. Случай Толстого. Трудное развлечение на досуге
Но может, Толстой просто лукавит? В конце концов, в период работы над «Войной и миром» и «Анной Карениной» он не раз говорит о трудностях работы. Это потом он заявит – «ничтожный труд», но пока этот ничтожный труд еще надо совершить, он кажется вполне себе титаническим. Толстой прошел через все обычные круги сочинительского ада – огромная подготовительная работа (сбор и изучение исторических материалов), изменение концепции произведения («Декабристов» сменила «Война и мир», роман из эпохи Петра Первого – «Анна Каренина»), постоянное переписывание36. Или все-таки это не был ад? Именно так: это было непросто, но это не ад.
Пожалуй, условная «легкость» жизни Толстого может быть утверждена одним единственным способом – он находился в максимально благоприятных (насколько это только возможно помыслить) для писательства условиях, когда писатель полностью лишен необходимости утверждать себя в жизни как писателя и может спокойно сконцентрироваться исключительно на своей работе. Это привело к тому, что жизненные проблемы в его восприятии были отторгнуты от писательских проблем, и трагичная проблематичность жизни Толстого существовала отдельно от «всего лишь» затруднений писательства. Конечно, сама эта проблематичность становилась материалом и для писательства, но это уже другое измерение проблемы. Суть же проблемы в том, что «стать писателем» и «пройти через ад» не стали для Толстого синонимами, не связались воедино. Вопрос: «Быть или не быть писателем?» не стал для Толстого вопросом жизни и смерти. Отсюда и сама писательская работа не стала пробуждением. Подумаешь, писательство – ну да, это трудно, но не более того. Трудное развлечение на досуге, но от этого не умирают.
3.1.5. Случай Толстого. Уточнение Эйнштейна
Вы, конечно, можете сказать, что я просто стараюсь любыми средствами сохранить силу высказанных ранее положений. Но припомним, в чем состоит их суть? Я утверждал, что в состоянии сна человек не может быть уверенным, спит он или нет, а в состоянии бодрствования человек не может сомневаться, бодрствует он или нет. Чтобы перейти в состояние бодрствования необходимо пережить момент пробуждения, – возможно, несколько таких моментов. Случай Толстого показывает, что в некоторых случаях, а именно когда состояние бодрствования достигается как бы минуя состояние пробуждения, человек может продолжать испытывать сомнения в отношении вопроса: спит он или нет? Это важное уточнение. Эйнштейн в свое время уточнил теорию Ньютона, которая отказывалась работать при скоростях, близких к скоростям света. Я уточняю свою собственную теорию, которая отказывается работать при таланте, близким к таланту Толстого и при его жизненных обстоятельствах. Но отказывается не полностью, конечно. Речь идет об уточнении. Тот, кто проснулся, не зафиксировав момента пробуждения, рискует подумать, что он всё еще спит. Таковым будет это уточнение, сформулированное в утонченно-афористичном виде.