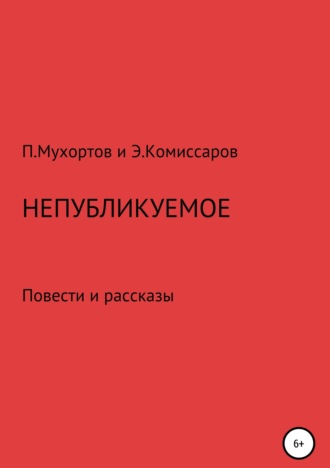
Полная версия
Непубликуемое
Он выложил из сетки на холодильник конфеты; разделся и последовал за девушкой. В сиреневом мареве комнаты под искусственной елкой разорялся звуками портативный «Парус». Сидя на диване, Инна разминала сигарету. Теперь нервничала она, и Артур не знал причин этой тревоги. Он присел рядом, подпер рукой подбородок и, не мигая, долго и пристально смотрел на нее.
– …с наступающим тебя…
– А я ждала тебя. Именно сегодня… Да, уж. Надо быть у подруги, готовить всякую всячину, а ты знаешь, я с утра вбила себе в голову, что ты обязательно будешь. И если бы ты не пришел, по-прежнему бы.., – робко улыбаясь, почти шептала она.
– Я знал, мне цыганка нагадала…
– Да? – Инна вскинула черную полоску брови. – А что еще она тебе нагадала?
– Исключительно всю правду. Или гипнотезерка или телепатка попалась. Черт его знает. У людей глобальные возможности.
Артур развил эту теорию и выразил собственный взгляд на непонятное явление, но девушка, возвращая его к проблемам земным, перебила:
– Ты надолго?
Он заглянул в глубину ее глаз. То ли она действительно с трудом сдерживала слезы, то они блестели от внутренней страсти игры, но Бостан не отводил глаз и чувствовал, как у самого наворачивается соленая влага.
– Пока не прогонишь…
Не отводя взгляда, Артур щелкнул зажигалкой.
– Как давно я не видела тебя, – девушка прикурила, делая глубокие затяжки, задыхаясь дымом. – Почему ты не приходил?
Артур пожал плечами, что означало: "Не знаю, но мне не по себе, и я у тебя…" Она молча отвечала: "Логично"…
– Хочешь кофе? Твой любимый, по-восточному?
Инна вышла, попросив расставить стол, который в собранном виде напоминал нечто вроде тумбы под телевизор. Артур принялся за дело.
Через несколько минут на столе красовался кофейник, торт, яблоки, а кристаллы электронных часов вспыхнули цифрой двадцать ноль ноль.
Артур с чашкой кофе уселся на диван. Инна устроилась в кресле. Молча пили кофе и глядели друг на друга.
– Хорошо у тебя, забываешь обо всем, – ворвался в музыкальный фон голос Артура. И опять пауза. Обычно Артур находил темы для разговоров. Мог болтать о чем угодно. В тайнике его памяти всегда отлеживалось что-то про запас, неизвестное, но интересное собеседнику. Но сейчас он ощущал себя вне времени и пространства. И хотя обычно молчание давило на него сейчас, напротив, Артур был доволен, этой молчанкой. В нем завязался диалог: с самим собой или с Инной, но Бостан не сумел сразу разобрать этот диалог, внутренние же мысли расшифровке не поддавались. И Артур сидел, пил кофе и смотрел в глаза девушке.
– А мне тоже хорошо с тобой, потому что тоже забываешь обо всем…
Он не мог определенно сказать сколько времени прошло после его последней фразы, когда услышал этот голос Инны, запоздало отозвавшийся на его слова. Она улыбнулась, он ответил.
– Ты где встречаешь Новый год? – поинтересовался Артур.
– Должна у друзей, но… А ты?
– Я.., – он отхлебнул кофе, – – должен дома, но… Артур не знал, что именно «но» и, снова отхлебнув кофе, договаривать не стал.
– Можем встретить у меня, – Инна отвела взгляд в сторону.
– Твоя мама получит инфаркт, – лениво пробурчал Артур, сомневаясь, что все получится как сказала девушка.
– Я ей объясню, потом.
Он пожал плечами…
…– Я, пожалуй, пойду, – Артур взглянул на часы и как-то грустно улыбнулся. – Скоро два… Два часа Нового года. Постарели еще чуть-чуть. Кода были детьми, вспомни, Инна, как радовались этому празднику. А теперь?..
Он поддерживал на ладони теплую ладонь девушки, а пальцем другой чертил непонятные ни ей, ни себе выпуклые знаки.
– Пойду, хорошо?! – в глазах Артура отпечатался тот же вопрос.
– Я не держу, – Инна улыбнулась краем губ, но стушевалась.
– Но и не гонишь…
Артур поцеловал руку девушки, осторожно положил ее на мягкое покрывало, что обтягивало диван. Встал, вышел в коридор и молча оделся. В дверном проеме появилась Инна: – Если будет очень трудно, если очень-очень. Приходи. Но если очень трудно.
Артур открыл дверь, вышел.
Погода как по заказу. Летел пушистый снег. Тихая ночь.
Артур поймал такси. Тройка веселых пассажиров окатила его разухабстой песней. И всю дорогу, пока ехали, они пели. Бостан вылез из машины, а веселая компания помчалась дальше.
Окна домов озарялись огнями новогодних елок. Ноги сами несли к своему подъезду. Квартира жены, где жил Бостан с момента свадьбы, находилась на четвертом этаже, на втором Артур столкнулся в шумной компанией, перекуривавшей на лестничной клетке. Подвыпившие ребята ни в какую не соглашались пропустить своего грустного соседа, пока тот не выпьет с ними. Артуру всунули рюмку коньяка. Он чокнулся с кем-то, выпил. Вместо закуски ему налили фужер шампанского. Артур выпил и его. Вокруг засмеялись, радовались, а про Бостана забыли, и он проскользнул наверх.
"Какой я идиот! Добросовестно приклеил себе ярлык меланхолика", – подумал Артур и остановился возле дверей. – "Интересно, как меня встретят, надо сказать…"
Впрочем, дома веселились как ни в чем не бывало, словно забыли о существовании какого-то Бостана. Но когда Артур раздевался, из-за шторы к нему вразвалку подплыл студенческий приятель Вадим и с чуть приметной ехидной улыбкой на губах шепнул на ухо:
"Слышь, Арт, извинись перед Катей и о гостях не забудь…" Артур посмотрел на дружелюбное лицо своего "однокурсника, друга семьи, соседа и жениха подруги жены твоей", – как иногда определял себя Вадим, и Артур скорее сердцем, чем умом почувствовал, что именно скрывалось под этим "благородным" поступком, и вдруг безумно захотелось врезать в эту фальшивую физиономию… Артура покоробило, но он и жестом не выдал своей неприязни. "Главное, чтобы никто из этих людей не догадался о моей грусти. Они должны видеть меня счастливым. Долой тоску!"
Бостан вошел в комнату и, нацепив маску удалого ухаря, познакомился с неизвестными. Потом рассказал новый анекдот, перевел его в интересную миниатюру и весьма поучительную, которую услышал в троллейбусе и закончил тостом в абстрактно грузинском варианте. Гости были в восторге. А Катя, открыто, не таясь, смотрела на одного из неизвестных – Сергея. Артур прекрасно понимал ее, но продолжал шутить и веселить гостей.
Утром он полулежал в кресле. Ласковое небо сквозь оранжевый тюль нежно прижималось и ласкало глаза. Тишина. Ужасно не хотелось объяснять что-либо Кате. В том, что она простит, Артур не сомневался, но то, что разговора все-таки не избежать, он был почти убежден. Можно было лишь оттянуть его. Тогда Бостан по-быстрому умылся, собрался и осторожно ушел.
Город поражал звенящей пустотой. Люди еще не выползли из своих нор, отдыхали после бессонной праздничной ночи. Природа решила порадовать мир: солнце ослепляло, снег под ногами превращался в слякоть, однако было тепло.
Встал вопрос – куда идти? Кинотеатры отпугивали властным безмолвием, тревожить знакомых – глупо, еще спят или только-только возвращаются усталые и сонные как эти, случайные встречные. Артур подумал о Вадиме, от чего передернуло все нутро. Нет. С ним разговаривать Бостан не смог бы, и это он понимал и выбросил из головы.
…Инна, открыв дверь на звонок, ничего не говоря, долго смотрела в упор на Бостана. Он тоже молчал.
– Еще раз с Новым годом!
Девушка, не ответив, впустила Артура. Тот взглянул на нее.
– Не раздевайся, тебе придется уходить прямо сейчас, – подчеркнуто холодным тоном, как показалось ему, ответила Инна.
– Да, я понимаю, – несуразно пробормотал первое, что пришло в голову, Артур, сраженный такой стремительной переменой. Инна прислонилась к стенке, напротив Бостана, заложив руки за спину.
– Сегодня, когда ты ушел, приехали сюда друзья, поздравлять. И один человек, ты его не знаешь, сделал мне предложение… Она говорила совершенно спокойным голосом: ни лицо, ни глаза ничего не выражали.
«Как робот..,» – подумал Бостан. Хотел спросить, что же она решила? Но девушка, как бы уловив его вопрос и предупреждая его, продолжила: – Я сказала да…
Артур, скорее подчиняясь спокойствию Инны, заметил, что ему безразлично это известие, а глазами яростно сверлил вешалку, где красовалась куртка Олега.
Ком, который грыз глотку все утро и полдня, провалился куда-то и бесследно исчез. Бостан потянулся к ручке дверного замка: – А как же твои слова: «Не хочу осчастливить недостойного человека..?» И, уже затворяя за собой дверь, услышал ответ Инны.
– Я сама недостойна… И только сбиваю тебя и себя…
Артур опять бесцельно слонялся по пустым улочкам города и думал…
«Слушай, скорпион заспиртованный, что же произошло? Ничего особенного? Ха! А для меня непосредственно это чуть не обернулось трагедией. Печально и радостно однако сознавать: привело к душевному кризису. Всего год назад я встретил девушку. Она заинтересовала меня и, может быть, заинтересовала с такой фантастической силой, что я почувствовал себя, как прохожий, нашедший на пустынной дороге подброшенный кошелек… Она была общительной, удивительно обаятельной, милой и загадочной девушкой. И еще масса всевозможных качеств, которые я приписал ей в силу богатого воображения. Зачем кривить душой? К несчастью, ее у меня с избытком, море. Человек – загадка. Все люди – загадки. Чужая душа, говорят, потемки. Однако почему? Да ведь, она сама дала этому повод. Она же предупредила, что принесет мне массу хлопот, потому что у нее тяжелый характер, она непостоянна, в чем я вскоре убедился. Она могла, мило улыбаясь, слушать меня, делать вид, что я ей не наскучил, а потом же выражение ее лица чрезвычайно быстро менялось, я вызывал у ней аппатию. Кокетство?
Чем же она еще привлекала? Ах, да. Нетипичным. Говорят, что женщина любит ушами. Не знаю, какой женщине не может не понравиться комплимент, мило посланный в ее адрес, но и тут они возразила, что так говорят тысячи ребят. Ну что ж?! Она бросила главный вызов – вы все такие! Удар в уязвимое место, по самолюбию. А я не такой, как все. И я буду, конечно, веселить ее, изобретать что-то новое, дарить радость, приносить счастье, а она будет играть со мной, также как играла до этого с десятком таких же людей, отличающихся лишь по количеству глупостей, совершаемых ими, и умению преподнести эти глупости. Но когда на минуту сбрасывал эту напускную мишуру, словно прогонял наплавной дурман и смотрел на нее, долго и не мигая, пытаясь в пучине дьявольски притягательных глаз отыскать что-то жуткое, загадочное, скрытое от внешнего мира, то бедное мое состояние полнейшей неудовлетворенности собой, заставило напряженно задуматься. Тысячи черных мыслей подспудно бродили в моей голове. Я думал, думал напряженно, как сейчас, пытаясь разобраться в себе, был хмур, не разговорчив, раздражителен, – словом, ей удалось "влюбить меня к нее: "Да, но в чем вопрос, а любовь ли это? Для меня до сегодняшнего дня казалось, что любовь существует, вопреки тому, что она возразила совершенно обратное. А для нее? Стоп! Скорпион. Где же ответ? Разумеется, я не отвергаю любовь, как на словах отвергала она тогда, значит, думала она, что я буду стремиться к любви. Вопрос в другом, понимает ли она любовь, хотя отрицает, найдет ли eе или уже нашла?
Я столкнулся воочию с неразрешимыми проблемами, тугим узлом завязавшимися на моей шее. Я сделал объектом наблюдения собственную мысль, запутался, и попросту говоря не смог раскрыть тот подброшенный пустой кошелек. А ведь я думал, что неудачник и не только в любви, а во всем. И милая моя Катя представлялась мне чуть ли не предметом всех бед и страданий. За что? И я, молодой человек, как старый пердун стал упрекать мир за его сложность, я вбил в голову, что устал от окружавшей суеты, измочалился. Увы, время мало учит человека. Каждый осознает и прокладывает свой путь через тернии, но иногда методом проб и ошибок. А ведь все так просто. Так устроен человек, так создала его природа. И все мы в конечном итоге состоим из воды, обыкновенной воды. Да, порой в текучке дел мы забываем о самом простом в жизни, – что все просто, надо только докопаться до истины правильным путем. Спрятаться в бочку Диогена, чтобы поразмыслить. Но в том-то и сложность, что в современной жизни попросту не залезешь в бочку, ее нет. Стоп! Но причем же здесь Инна? Она хотела заинтересовать меня, чтобы я мучился, страдал, но каким путем! Она загадка?! Загадка лишь в том, что одни могут хорошо скрывать свои цели за пустой мишурой слов и поступков, а другие не могут или не хотят, и от того кажутся неинтересными, незагадочными. Инна знает, что хочет и что может. Хотя они все говорят, что загадочны и, что у низ сотни поклонников и что им все надоело, они не верят в любовь. Это факт. И лишь малая доля из них знает на самом деле, что хочет, а что они могут – это вообще в глубоких потемках. Но она однако сумела это хорошо прикрыть. Слова о том, что она загадка – мишура, чепуха, слова. Но со своей целью – влюбить меня в себя она в соответствии строила воздушные замки и специально усложняла мир для меня. Фу, ты! Скорпион заспиртованный! Как прав Андре Моруа, когда сказал, что существо самое ничтожное и пустое может внушить к себе любовь, стоит ему создать вокруг себя ореол таинственного непостоянства…»
Нога заскользила, а Артур очнулся. Находился он напротив кинотеатра «Октябрь». Впереди, по гололеду тротуара, шла женщина с ребенком. Присмотревшись в их наряд, Артур понял, что это цыганка с маленьким цыганенком. Скоропостижно свибрировала нелепая мысль. Артур догнал женщину и, поравнявшись с ней, без лишних вступлений отрубил вопрос:
– Скажите! Что будет?! Погадайте мне.
Сверкнув белками глаз, она зло посмотрела на Бостана, заставив съежиться. Артур торопливо достал из кармана рублевую 6умажку.
– С мертвецов денег не беру! – огорошила своим ответом цыганка, продолжая мерно идти, не обращая больше на Артура внимания. Бостан не отставал: окончательный ответ, напротив, разжег его.
– Какой же я мертвец?! – выпалил он.
Женщина опять невозмутимо посмотрела на него и прошипела: – У тебя на челе смерти отпечаток лежит. Я вижу… не доживешь ты до рождества Христова.., – и отвернулась резким движением, прибавила шаг, ведя за собой мальчишку, показывая этим, что разговор окончен.
– О! – Артур почему-то рассмеялся, значит, у меня в запасе есть еще целых пять дней! – и, свернув за угол, пошел другой улицей, повторяя то шепотом, то про себя два слова. "Какая чушь!"
1987 г.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Повесть
Метеорит живет мгновение,
Сгорая в дымной синеве
Его отвесное паденье
Сквозь смерть направлено к земле
И я готов, летя сквозь годы
Метеоритом в синей мгле,
Сгореть, сжигая все невзгоды,
Во имя жизни на земле.
Александр Стовба
Очнувшись от неожиданного, приглушенного равномерным гулом моторов требовательного голоса маленькой стюардессы, желавшей, чтобы пассажир пристегнул ремень, слегка размежив веки, Манько сквозь опущенные ресницы увидел ее, симпатичную, подчеркнуто строгую девушку, склонившуюся над ним, и, улыбнувшись смущенно, пальцами напряженной ладони провел по глазам, окончательно снимая пелену сна, сказал вежливо:
– Все в норме.
И уже потом, зажав тело в страховой пояс, потирая, словно огнем пылающий затылок, оглядывая слабо освещенный, только что пробудившийся салон, шумно оживающий перед посадкой, он понял, что все-таки возвращается, – и что-то болезненное прокатилось в груди.
За холодным, черным иллюминатором медленно плыла белая луна по темному фону февральского неба, прерывисто озаряемому красными вспышками бортовых огней, а под крылом, где-то под плотным слоем прижавшихся к земле облаков, неумолимо приближался притаившийся на холмах древний Львов. Через минуту-другую колеса гулко ударятся о бетонку, тряхнет салон, и неукротимая сила инерции неудержимо потянет его вперед, а потом, при торможении, когда в уши стремительно ворвется резкий рев сбавляющих обороты двигателей, другая сила отбросит его обратно, на мягкую, приведенную в вертикальное положение спинку кресла, и когда гул наконец стихнет, наступит пугающая тишина.
Манько возвращался. Не просто в город, где прошло детство и началась юность, в город с памятником Нептуну 1256 года на безлюдной ночной площади Рынок, с угрюмыми атлантами соседнего дома, поддерживающими карниз на консолях, с глухими, узкими, выложенными булыжником улицам, окутанными сейчас зимней тишиной, с чернеющими громадами величественных куполов костелов, и с улыбающимися под балконами львами. Истосковавшись, он возвращался в родной дом, к матери ("Они, конечно, будут рады"), к родным друзьям, к старым привычкам и Манько, не скрывая переполняющей радости, уже представлял их счастливые лица.
"Когда ж это было? Лет десять назад? Или раньше, в классе пятом, когда с родителями переехал из Куйбышева во Львов? Быть может. И у меня тогда осталось чувство необъятного, и неудобно казалась бугристая дорога, и львы вроде скалились, но мне совсем нестрашно было поздно вечером бродить по запутанным безлюдным улочкам, и львы потом, как сильные покорители, показались мне добрыми".
И он вспомнил, что месяц спустя поразился всему в городе: планировке, которая была даже очень рациональной, потому как изучив центр, переходы, в считанные минуты можно попасть в любую желаемую точку, и узеньким рельсам, по которым с грохотом разбитых колымаг ползли экстравагантные для туристов старые трамваи, и гармоничной сочетаемости строгих, словно отточенных форм сооружений и честности линий с вольным и независимым их расположением. И еще поразился он буйству зелени, грандиозности Стрийского парка, всегда свежего и чистого. И когда, взобравшись на труднодоступный пятачок – никогда не пустующую площадку обозрения, увенчавшую собой гору с поэтическим названием «Высокий замок», и когда его взору внизу открылся весь Львов, потонувший в дымке, кое-где еще золоченый косыми лучами заходящего солнца, он улыбнулся этим шпилям, островерхим черепичным крышам, кварталам, зажатым двумя линиями гор, как теплыми ладонями человека, и крикнул в душе: «Город! Я люблю тебя!» И Львов приветливо ответил ему звоном часов городской ратуши.
И вдруг Манько ощутил странный приступ тягостного удушья, и несмотря на прохладную струю воздуха, вырвавшуюся из открытого вентиля возле лампочки индивидуального пользования, несмотря на расстегнутый ворот рубашки, его обдало раскаленной волной нестерпимого зноя, и вмиг почудилось, что так же, как два года назад, так же нестерпимо хочется пить, и снова пошатываясь, идет он в невыгоревшей панаме, в разодранном маскхалате, в горных ботинках с ребристой подошвой в колыхающемся строю мимо длинных щитовых казарм, окрашенных в желтый цвет, и на тонких веточках редких деревьев такие же желтые свивают свернувшиеся от жары листья, и повсюду, куда ни кинь взгляд расстилается невзрачный желтый пейзаж.
Это был первый, особенно запомнившийся день в школе сержантского состава, затерявшийся в бесконечных песках Средней Азии. Совсем недавно Манько казались эти мрачные, несколько сдержанные, немногословные ребята почти дядями, и втайне он мечтал встать вровень с ними, но, понимая, что трудности непременно будут подстерегать его, потому как это служба, притом в необычных условиях, все-таки надеялся, что вопреки рассказам бывалых о службе там, об операциях с душманами, ему будет легче. И когда потом под неусыпным наблюдением офицера или сержанта-инструктора полз по-пластунски вместе с другими новобранцами, расставляя мины, или, копаясь в устройстве учебных (китайского, итальянского, американского производства), систем, изучал их, а затем снова минировал, разминировал, опять же ползком, на пузе, от мины к мине, и, пропотев от жары и бега, снова с трудом брал в непослушные напряженные руки миноискатель, чтобы ползти, ставить, маскировать, и снимать эти вроде безобидные, но коварные "игрушки", то понял, что постичь обманчиво простую науку – науку виртуоза сапера, человека, у которого нет права на ошибку, – непомерно сложно.
"Когда ж это было?" – вновь подумал Манько, пугаясь, – Как будто два дня назад". Подготовка в "учебке" насыщенная так, что абсолютно не оставалось времени для раздумий и анализа прожитых дней, и последующий провал в памяти, где часы казались днями, свет тенью, а дни неделями, сливавшимися в общую вереницу шести месяцев, и затем – запечатленное в памяти апрельское утро, когда АН-24 взял курс на Кабул, где дальше должна была проходить его служба, – все это вместилось в сознании лишь в два дня, Манько мыслями неизменно возвращался вспять к дню последнему. Но тогда он еще должен был дожить до него, не сломаться, переплавиться. И сейчас, вспоминая то апрельское утро, когда сидя в глубоком кресле в уютно подогнанном обмундировании младшего сержанта, пристально наблюдал, как постепенно таяли, исчезали за синим искрящимся кругом иллюминатора полосатые хребты, окутанные туманом, отгородившие его от своей земли за границей, еще не зная, что долго-долго не увидит ее, именно сейчас, именно в эту минуту, спустя полтора года нечто более сильное, чем трепетное волнение в апреле. И подумалось Манько, что Родина, родник, род (в этих словах, где везде корень "род", и в нем собрана вся мощь этих слов) вбирает в себя гораздо большее, беспредельно широкое, святое и чистое, чем место где родился. Какая разница, что будет за корень? От этого не изменится гордое, впитанное в кровь и плоть человека притяжение к Своей Земле, на которой он вырос и не только понял, но и каждой клеточкой тела, каждым кончиком нерва ощутил, что без этой частицы – Родины не сможет существовать, просто существовать, не то чтобы жить.
Как можно верить, – думал между тем Манько, – в броваду эмигрантов, будто сладко им на чужбине?! Пусть у них все есть: достаток, коттедж, лимузин, пусть спят они без кошмаров, не просыпаясь по ночам, сытно, с аппетитом едят, но снится им, – и в этом он не сомневался, – то место, где они пусть даже голодали и не могли заснуть от холода. У них когда-то была Родина. Не важно – Россия, Бразилия, Гренландия или Ангола. Верить космополиту?! Да он не просто кочует, он лежит, бежит в ужасе от того, что навсегда потерял и никогда не сможет найти. А что такое моя Родина, та, которая дала мне все?
Моя Родина… – это, как живительный глоток влаги для умирающего в пустыне. Как нам не хватало ее там! Мы задыхались не от жгучего воздуха песков, нет, а от того, что оказались вдалеке от Родины. И в то же время мы не задохнулись, потому что от нас она потребовала сделать так, чтобы другой народ тоже обрел свою родину. Потому мы и делали все возможное и даже невозможное. Но, черт, трясет, всего трясет, как в Ташкенте, где сразу было столько русской речи, целое море. Я мог слушать ее сколько угодно, с трепетом, в устах совершенно незнакомых людей, наслаждаться, как поражающей гармонией музыкой, песней. Там тоже говорили на русском, но только мы и только слова приказа, опасности, тревоги или смерти. Родной дом, отец, мама, братишка, – это тоже часть от меня, начало всей Великой любви. Сейчас мама скорее всего расплачется. Сколько она пережила за это время? Что я? Солдат Отчизны, а она мать. Больше, больше, миллион раз больше! Может, ростом стала ты чуть ниже, может, прибавились морщинки на твоем добром лице, и лишняя прядь седых волос. Может быть. Выдержу ли я? Отец – ты суров даже в своей отцовской любви. Я – это ты, как ты – это я. Меня ты крепко обнимаешь… Братишка. Вероятно, он увидит меня завтра, будет спать, а утром, конечно, обидится за то, что не разбудили, но все равно повиснет на шее, обхватив руками и ногами, как обезьянка. Да… Выдержу ли я?»
С неимоверным протяжным гулом самолет бросается на взлетно-посадочную полосу, обозначенную по бокам в ночи яркими фонарями – в глазах Манько они разделяются на длинные желтые зигзаги, – скрипит, подрагивает, а оживленные пассажиры всматриваются в темноту. И после того, как стюардесса объявила, что самолет произвел посадку, а за бортом – минус четыре, после того, как томительно долго не подавали трап, а потом подали наконец и открыли дверь – оттуда сразу потянуло прохладой, сыростью, и тот же голос пригласил на выход, и все, толкаясь, застегиваясь, надвигая шапки, поспешно потянулись туда, Манько, наспех накинув шинель, словно очнувшись, также засуетился, пробираясь к трапу, еще пытаясь осознать, еще не веря окончательно в то, что вернулся. Стоило на секунду задуматься, как вновь начинало казаться, что в шероховатом бронежилете он, тяжело ступая во главе колонны, осторожно поднимается по горной тропе круто вверх, и лишь марево зноя колышется над дикими скалами, да с сухим шелестом осыпаются выбитые подошвой мелкие камни. И чувствуя, что сейчас не выдержит, и то, что пережито и передумано напролет дни и ночи, не сдержавшись хлынет из него, боясь по-детски расплакаться, все повторяя: "Неужели?" и дрожащей рукой скользя по перилам, всех опережая, Манько быстро спустился вслед за пилотами, но прежде чем ступить на стылый бетон, по которому извивалась поземка, нервно запахнув развернутые ветром полы шинели, задержавшись на последней ступеньке трапа, он огляделся внимательно и несколько раз подряд, глубоко, вдохнул терпкий, пахнущий керосином и еще чем-то до боли знакомым морозный воздух.


