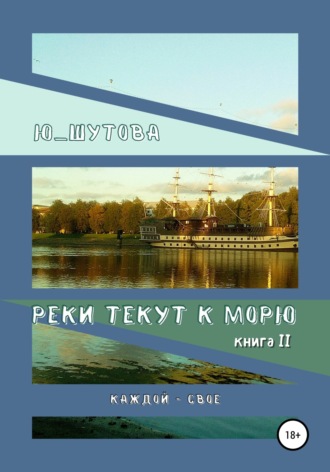
Полная версия
Реки текут к морю. Книга II. Каждой – свое
Огонь набирался сил. Костерок чувствовал себя все более уверенно. Принялась и деревяшка, гладкая, облизанная рекой ветка. Ленуся сидела на камне, смотрела, как чернеют в пламени конверты и листы. Теперь уже нельзя понять, есть ли на них слова, призывы, мольбы или они пусты и немы. Сквозь поднимавшийся дым должна Ленуся видеть реку, всю залитую золотом холодного вечереющего солнца, небо, безмятежное, безоблачное, с легкой прозеленью из-за этого сусального блеска. Но видела почему-то крыльцо своей школы. Они с Элей, взявшись за руки поднимаются, а наверху стоит Юрка – новенькая школьная форма на вырост, белобрысая ровная челочка из-под синей кепки со смешным помпончиком: «Вы, куклы, куда, в первый Б?» Три ступеньки крыльца все никак не могут кончиться, и они поднимаются, крепко сжав ладошки. А Юрка все так же стоит высоко-высоко – пацан-подросток, тощий, чуть сутулившийся – парень, широкоплечий, с легким облачком щетины на щеках: «Вы куда?»
«Мы к тебе, Юрка!»
Элькина свадьба
– А мне платье нравится. Ну и что, что не совсем белое. Это чайная роза. Нет, мама. Другого не хочу, – Эля вертелась перед трюмо в свадебном платье, – и ничего не ношеное, Люся же в нем замуж не выходила. Да если б и выходила… Вон у нас две свадьбы на курсе в этом году были, так девочки платья покупали: одна – с рук, вторая – в комиссионке. Финские.
– Дак то финские, импортные. А это – Люськина самоделка студенческая. И широковато оно тебе.
Было даже неловко, что это мать так пренебрежительно: «самоделка». Будто отсекает все, что от старшей дочери идет. Платье шикарное. Весь корсаж в кружевах, да не гипюровых, как на комбинашке, а настоящих, на коклюшках вязаных. Бабушка ладонью провела. «Наше, – говорит, – кружево, вологодское, мама моя так умела. У нее много было всякого. Да только ничего не осталось, все прахом пошло». Хорошо, хоть сестра не слышит. Приехала, платье привезла и сразу ускакала. Сказала, в Тотьму поедет, в бабушкин город родной. Чего ее туда тянет?
Эля тряхнула, отросшими до плеч волосами:
– Ерунда. Люся подошьет.
– Давай, Эля, все-таки в магазин зайдем, посмотрим. И фату еще надо купить. И туфли.
И они пошли в Салон для новобрачных, расположенный в том же, что и ЗАГС, сером доме с огромными витринными окнами, полными безголовых пластиковых невест в гипюре и тюле. Рядом совсем, через дорогу от их дома. Здесь Эля переодевалась уже в третий раз, а мама неустанно подавала ей одно платье за другим: с рукавами и без, с широкими шуршащими юбками, похожими на торты во взбитом белковом креме. Ленка помогала застегивать какие-то едва уловимые пальцами крючки.
– Ну смотри, как хорошо, – мать воткнула Эле в голову длинную фату.
Эле не нравилось. Она была похожа на большую белую кучу, на снежную бабу. Такой она видела себя в зеркале примерочной кабинки.
– Ленка, ну как?
Ленуся закинула длинный полупрозрачный хвост на Элино лицо:
– Как в садике. Помнишь за беседкой в свадьбу играли? Ты невестой была – фата из накидухи на подушку, резинкой от трусов в пучок связана. Кто замуж выходит? Ты или мама?
И платье было отвергнуто вместе с фатой.
– Нет, я в Люсином пойду. И на голову только цветочки на заколках, вот эти. Паранджу не одену.
Ничего, кроме пары заколок не купили. Туфли были только скороходовские, страшные, жесткие, каблучина высоченный. Еще навернешься с такого посреди ЗАГСА, то-то смеху будет. Свадьба была назначена на август. Еще почти два месяца впереди. Успеется.
Эля думала, как они с Юркой будут жить после свадьбы. Перспектива получалась не совсем радужная. И по деньгам, и по жилплощади. Лучше всего отдельно жить, кто бы спорил. Да на какие шиши квартиру снимешь? У нее стипендия, у Юрки зарплата – хрен да маленько. Он свой кулек закончил, мать его на завод на свой пристроила. В отдел кадров – бумажки перекладывать. Поулыбалась, поюлила, очередной зонтик из сундука вытащила, всучила кому полагается. Все-таки зять будущий. А с его специальностью только кружок в доме пионеров вести можно, резьбы по дереву. Не солидно. А так, считай, управленец, какое-никакое, а начальство. Юркина мать рублей двести, ну двести двадцать получает. Эля не знает, но предполагает. Да у нее просить неудобно как-то. Отец их столько же зарабатывает. Больше всех нынче мать получает. Она Юрку-то на завод за руку привела, а сама вскорости ушла. В кооператив устроилась на кирпичный завод складом заведовать. Там ей сходу отвалили четыре сотни. Вообще, могли бы скинуться деткам на индивидуальную клетку. Вон как Эля наловчилась деньги по чужим карманам считать. Стыдно-то как!
Но мать сотню в месяц на съем квартиры не выделит. Только Эля заикнулась, сразу сказала: «Еще чего, деньги чужим людям отдавать. У нас две комнаты. Мы с Ленкой к бабушке в комнату, а тут вы с Юркой. Мы с отцом прожили, и вам хватит места». Прожили они! Сколько Эля себя помнила, папа всегда в прихожей на тахте жил. Сам по себе. А они с Ленкой на другой тахте в маминой комнате. А Люська – на диване в бабушкиной. Но можно, можно было бы им с Юркой мамину комнату занять. Эля была не против. Но Юрка уперся. Ни в какую. «У нас будем жить» – и все. Почему, не объяснил.
Там и свадьбу гуляли, в Юркиной однокомнатной квартире. Да народу-то было: раз два и обчелся, по-семейному. Свои да пара Юркиных приятелей со двора: длинный Женька, он за фотографии отвечал, решили фотографа от ЗАГСА не заказывать, мать сказала, что дорого слишком, да Стаська, толстый, круглый, но вертлявый как юла, его свидетелем выставили, и еще он гитару приволок, магнитофон для танцев, а вот попеть за столом – это святое. Свидетельницей со стороны невесты Люся была. Эля Ленку просила, но та чего-то не захотела, отвертелась. Она в Загсе сзади всех уселась, то ли спряталась, то ли смотреть не хотела. Зато потом, когда уже до стола добрались, отрывалась. Каждые пять минут орет: «Горько, горько!», и шампанского бокал тянет. Прям не унять. Ну и так с этого шампанского наклюкалась, что потом в туалете блевала. Все песни под гитару тянут, а она из сортира аккомпанирует звуками не благостными.
Но если Ленкиного фиаско не считать, то свадьба удалась, Эля была довольна. Вот они с Юркой стоят посредине белого зала. Красивые такие. Эля вся, как роза чайная, в кружевах, Юрка в югославском светлом костюме, такого теплого соломенного цвета. Такой в Салоне не купишь, и в универмаге тоже. Мать пошуршала где-то по знакомым, притащила два костюма. Второй серо-синий, вообще итальянский, маловат оказался. У Юрки запястья из рукавов торчали. И как-то все неправильно в нем было.
– Ты, Юрка в нем на сантехника похож. На итальянского. Это, наверное, специально для них шьют.
Юрка скинул пиджак, натянул другой костюм:
– А в этом я на кого похож? На югославского почтальона?
Эля запрыгала вокруг, повисла у него на шее, потерлась носом о щеку:
– В этом ты замечательно-прекрасный красавец! И похож на моего мужа!
Она примеряла эти жужжащие, какие-то пчелиные, чужие слова: «муж-ж-ж», «ж-ж-жена». Надо привыкать. Но как же некрасиво звучит! А еще свистящее по-змеиному «С-с-емья-я-я» и вот это, вообще ужасное: «супруга». Как подпруга! Так и слышишь: «впряглась». Да не важно! Не про них с Юркой. Они уже два года вместе. Душа
в душу. И дальше так будет, только лучше. Скоро, скоро свадьба: кольца золотые, цветы, подарки, радость и слезы.
Гости позади на стульях расселись. Мама, бабушка, папа, Ленка с Люськой. Все свои здесь. Все радуются за тебя, Эля. Все? Конечно, все. А как иначе? Вон бабушка платочком глаза промокает. Мама сияет, будто свадьба – ее личная заслуга. Папа строгий, тоже в костюме, сидит рядом с Люсей. С другой стороны – Юркина мать. Тоже слезу подпустила. Все серьезные такие. Только эти двое, Женька со Стаськой, веселятся. Хихикают, шуточками давятся. Эля не слышит, что они там бормочут, но чувствует, по ним прохаживаются, по дружку своему старинному, да по невесте его. Ленка у них за спинами пристроилась, тоже подхихикивает придавленно, ее смех, не оборачиваясь узнать можно. Ну да пусть их. Они же не со зла. Просто привыкли друг над другом подшучивать.
Вот тетка-регистраторша, опустив на лицо, как забрало, рабочую улыбку, заговорила, заквохтала, забулькала пузатым самоваром, затянутым в зеленое крокодилье платье. В руках она сжимала, как стилет, длинную указку. Эля от волнения не понимала ни слова. Юрка подтолкнул ее локтем. Что? А, надо расписаться. Где? Зрение расфокусировалось. Куда подпись-то ставить? Тетка, не сгибаясь, ловко ткнула указкой. Здесь? Эля расписалась. Потом Юрка, потом свидетели. Кольца. Не уронить бы… Все, обменялись. Эля смотрела на свой окольцованный палец: «Теперь я – жена». Тетка опять заквохтала. Потом замолкла, пауза повисла. Эля подняла глаза. Пауза плавала в воздухе. Плыла, колыхаясь, крокодилья улыбка регистраторши. Юркин взгляд светился. Почему тетка на нее смотрит? И Юрка? Что?
– Родные, можете поздравить новобрачных, – наконец замкнула тишину тетка.
Только когда все стали подходить, обнимать, совать им в руки цветы и конверты, Эля поняла, что пропустила поцелуй. Вот что булькала крокодилица! Вот почему Юрка уставился на нее! Регистраторша дежурно разрешила им поцеловаться, а Эля не услышала, стояла столбом. «Пропустила, пропустила, глухая тетеря… Ну и ладно. Сейчас наверстаю», – И Эля, сунув ворох разномастных цветов в чьи-то руки, притянула к себе Юркину голову:
– Поцелуй меня!
Потом пили шампанское в специально отведенной для этого комнате, где стоял красивый старинный стол с хрустальными фужерами, а стульев не полагалось. И они подняли бокалы, стоя, под первое «Горько» и без закуски.
Белая «Волга» с кольцами и куклой на капоте, входившая в комплект платных услуг ЗАГСА, увезла их и свидетелей. Остальные потопали накрывать на стол. Накатавшись, разложив все букеты у Вечного огня, танка, памятников тем и другим, нафотографировавшись везде и повсюду, они, наконец, подъехали к Юркиному дому. Здесь у подъезда, вездесущие бабки швырнули в них по пригоршне пшена, попытались «украсть» невесту и получили в ответ бутылку дешевого вина и кулек конфет «Буревестник».
Где-то около десяти вечера, когда все было съедено, выпито, отплясано и отпето, Элины родные отправились восвояси, приятели сгинули во дворе, а Юркина мать пошла ночевать к соседке. Эля, наконец, осталась со своим Юркой наедине. Она мандражила: как ЭТО будет происходить? Да, два года они были вместе. Да, она давно уже считала, что Юрка – ее жених. На танцы на «Пятак» с ним бегала, в кино на последнем ряду обжималась, в подъезде целовалась до одури. И руки ему позволяла распускать. Слегка. И только руки. Дальше этого дело не шло. Как-то она ухитрялась избегать ситуаций, когда можно было перейти дальше. Домой к нему не ходила днем, пока его мать на работе. А к ним домой он сам почему-то особо не стремился. Но у них всегда кто-нибудь дома, бабушка или Лена, или мать. Так и дотянула до свадьбы.
И вот сейчас не знала, не представляла, что ей делать. Раздеваться? Идти в душ? Или это после? И Юркина квартира, которую она знала от и до, в которой провела кучу времени с самого детства, вдруг стала чужой и враждебной. Вздыбился медведем диванчик, на котором когда-то смотрели диафильмы. Угрюмо воззрился шкаф с книгами, а ведь вон, прямо за стеклом маячит «макулатурный» Сабатини, которого они Юрке в шестом классе подарили. И тахта, та самая, которой предстояло стать их брачным ложем, новенькая, купленная в «Мебельном» всего месяц назад, холодно косилась в ее сторону: «Ну, я-то готова. А ты? Ты готова?» В голове шумело. От шампанского? От страха?
Юрка, раскрасневшийся от выпитого, стянул через голову полурасстегнутую рубашку, плюхнулся задом на тахту. «О-о-о!» – отозвалась та, потише, мол, поаккуратнее, пружины пожалейте.
– Иди ко мне, – потянул Элю за подол, – Элюня моя…
Затрещала ткань. «Платье, платье порвет… Люська убьет… Просила же…» Юркины пальцы нетерпеливо теребили кружево, трепали бутон чайной розы, выискивая в нем Элино тело. «Да черт с ним, пусть рвет…» Больше о платье она не думала.
«Хорошо, что я вчера так нажралась… Хорошо, что сейчас мне плохо… Блин, плохо-то как… Глаза не разлепить… Как бы встать?» – Ленуся ворочалась под пудовым одеялом, выкарабкиваясь из жаркого его плена, из мутной тяжести похмелья. Она радовалась: можно мучиться тошнотой, головной болью, жаждой, можно не думать про Эльку, про Юрку, про то, что они там… За два минувших года она слишком часто представляла себе это. Вспоминала, как они с Юркой… На стареньком его диванчике, у которого давно не поднималась спинка… Как летели на пол второпях скинутые шмотки… Как нависало над ней его лицо… Она словно смотрела со стороны. Словно стояла, прижавшись спиной к книжному шкафу. Видела перед собой два тела, сплетенных в любовном экстазе. Одно мужское: загорелая спина с крупной родинкой под левой лопаткой, растрепанные, вечно не стриженные, светлые волосы, напряженные мускулы рук, сжимавших… Сжимавших девичье тело: маленькие, разведенные в стороны грудки, похожие на спелые груши, впадинка пупка на белом животе. Темные волосы падают на щеку, она смахивает их ладошкой, черные глаза кажутся огромными омутами. Это ее, Ленкино, лицо. Нет? Нет! Это Элька. Элька на диванчике с Юркой. А она, Ленуся, в стороне.
Интересно, для Юрки есть разница между ними? Там, в постели. Или для него это одно и то же тело: груди, живот, курчавый кустик, на краю теснины, куда он так стремится. Ей представлялась совсем уж фантастическая картина. Вот Юрка открывает стенной шкаф в прихожей, достает оттуда большую голую куклу. Это она, Ленка. Ее тело, ее лицо. Кукла безвольно провисает в его руках. Юрка смотрит на нее, поворачивает так и этак. Потом качает головой, видимо, что-то ему не нравится. Он кладет куклу на диван. Она безвольно и мертво лежит, неподвижный галчиный взгляд уставлен в потолок. Юрка роется в шкафу, вытаскивает куб картонной коробки. Он отвинчивает кукле голову. И на освободившуюся шею прикручивает новую, вытащенную из коробки. Точно такую же: с темным хвостиком волос, вздернутым носом с десятком почти незаметных веснушек, круглыми птичьими глазами. Старую голову он прячет в коробку. Нажимает неприметную кнопочку у куклы подмышкой, и она оживает – садится, отводит со щеки выбившуюся прядь, улыбается. Теперь это Элька.
Эти два года она надеялась… Да не ври ты, Ленка! Хоть себе-то не ври. Нам, автору, не ври. Мы все про тебя знаем. Про эти два года знаем. Надеялась она! Гуляла ты напропалую. Даже дома не ночевала иной раз. Позвонишь, матери скажешь: «Я у подружки, у Таньки Смирновой, переночую», и понеслась душа в рай. Танька Смирнова, с которой ты в училище ходила – удобная покрывашка. У нее родители глухонемые, никогда телефон не берут. Если вдруг мать перезвонит: «Танюша, дай трубочку Лене…», Танька скажет, что ты в сортире, в душе, в магазин выскочила, типа, чай (хлеб, кефир) кончился, или спишь уже. Вы так договорились. Да мать и не перезвонила ни разу. Танька в интуристовской гостинице, в баре вечерами ошивалась, шлюшничала, на киношное счастье надеялась. Интердевочка провинциальная. Ну и так, для поддержания штанов, лишних денег не бывает. Ленусю на это не хватило. Стремно слишком. Весь город знать будет. Но в бар этот тоже захаживала. С очередным своим парнем.
Сколько их было у тебя, Ленуся, за эти два года? Шесть? Восемь? А как ты к Люське в Ленинград на выходные рванула, да не доехала? Прямо в поезде с каким-то студентом познакомилась и с ним два дня в общежитской койке прокувыркалась. Ты даже, как его звали, не вспомнишь.
В тот раз тебе еще бабушка наказ давала: «К Люсе приедешь, напомни ей, чтоб икону у меня забрала». Ты лоб нахмурила: «Какую икону, ба?» Сроду никаких икон в доме не водилось. Бабушка в сервант полезла, вытащила старую доску. Безвидную. Не поймешь, что на ней и нарисовано. Вроде святой какой-то чумазый. Нависает над городом с белыми колоколенками. Ну не белыми, конечно. Подразумевается, что белыми. А так, скорее, желтушными, болезненными. У святого ладонь отчекрыжена – кусок доски, видать топором оттяпали. А задняя сторона зеленью купоросной замазана. Не икона – мусор, на твой взгляд. Чего ее хранить? А Люське она зачем? Бабушка сказала, что обещалась ей отдать. Что история какая-то с этим святым связана. Семейная. Но ты слушать не стала. Когда вернулась, бабушка сразу спросила: «Напомнила сестре? Заберет она?» И ты, ничтоже сумняшася, соврала: «Да, бабуль, напомнила. Заберет. Как приедет, так и заберет».
Сейчас, высвобождаясь из плена похмелья, едва слыша сквозь вату в голове укоризненный голос матери, бродя по квартире – на кухню воды попить, прямо из-под крана, чайник пустой, в туалет, в очередной раз вывернуть пустой желудок, сворачивающийся кольцами удава, в душ, горячую струю на затылок, приглушить бьющий изнутри молот – Ленка чувствовала, что одновременно счищает, сдирает с себя коросту этих двух лет. Этих парней, их руки, губы, потные, напрягшиеся тела, эти необязательные, не ведущие никуда связи – кино, бар, постель. Не то, не то! Не любовь! Всю эту муть, в которой пыталась утопить свою главную потерю. Теперь не нужно ничего. Точка поставлена. Обратной дороги нет. Ни для Юрки. Ни для нее. Алес! Капут!
Игра в семью
Первые две недели семейной жизни были прекрасны. Уже на следующий день Юркина мать укатила в санаторий. Заранее было запланировано, само собой. «Уезжаю в свадебное путешествие», – посмеивалась она, собирая чемодан. Эля с Юркой проводили ее на электричку и вернулись домой к своему новому счастью. Они шли по бульвару под липами, уже обсиженными стаями галок. Никуда не собиравшиеся улетать на зиму птицы, тем не менее, следуя вечному зову предков, собирались на верхушках деревьев, галдели, перекрикивая друг друга. Может быть выбирали командиров, а может обсуждали последние новости. Потом вдруг срывались в небо грозовыми тучами, носились в синеве нечеткими шаровидными НЛО, собранными из черных оглушительных корпускулов. Осень скоро. Скоро тебе, Эля, в институт. Последний выпускной курс. А там и настоящая взрослая жизнь. Навсегда. Взрослая семейная жизнь. Как у всех.
Сейчас Эля играла в семью. Так же играли они с сестрой в «дочки-матери» во дворе: ходили «на работу» и «в магазин», готовили обед из пучка травы и воды из лужи, «накрывали на стол» на лавочке возле песочницы. Теперь Юрка ходил на работу, а Эля в магазин, пыталась приготовить что-то к его приходу. Вот тут-то и сказалось ее полное неумение в кухонном искусстве. Бабушка до сих пор особо не подпускала внучек к плите, обед всегда был готов к приходу Эли из института. И единственное блюдо, приготовлением которого она овладела, была вареная картошка: почистить, положить в кастрюлю с водой, как закипит – посолить, как сварится – слить воду. Не велико умение.
Обнаружив в старой «Работнице» рецепт борща, решила блеснуть. Побежала в магазин за суповым набором. В Кооператоре купила кость мозговую. Роскошество. Нормального мяса, как всегда, не было. Но главное, бульон получится, что надо, наваристый с плавающими на поверхности солнечными кружочками жира. Дальше действовала строго по рецепту. Варила сколько полагается, процеживала бульон, резала овощи, как сказано – картошку кубиками, а морковку кружочками. Даже поджарила лук с томатной пастой, точно следуя указаниям. Чтобы не пропустить момент, когда борщ окончательно сварится, завела будильник. И в ожидании финала завалилась на тахту читать «Один день Ивана Денисовича», полученный тоже на один день.
Когда будильник зазвонил, Эля взяла кухонное полотенце и, подхватив кастрюлю за ручки, наклонила над раковиной и начала сливать. Глядя, как в эмалированное дно раковины бьет из-под сдвинутой набекрень крышки исходящая паром струя наваристого борща (Не воды, девонька! Борща! Твоего первого борща!) она впала в ступор, и стояла, пока последняя бордовая капля не канула в черную дыру водостока.
Блюдо, поданное вернувшемуся с работы мужу, она обозвала «овощное рагу».
– А чего рагу со свеклой? Никогда такого не видел, – удивился он.
– А что не надо было свеклу? Бабушка всегда так делает. По-моему, вкусно.
– Вкусно. На борщ похоже. Только без жижи.
Эля облегченно вздохнула – пронесло.
Но две недели Элиного хозяйствования просвистели мгновенно. Вернулась из санаторных краев Юркина мама. И надо было как-то пристраиваться друг к другу в маленькой однокомнатной квартирке. Эля считала, что самый больной вопрос – как ей называть свою свекровь. Обращаться к ней «мама», – слишком искусственно, Эля не сирота, у нее своя мать есть. Звать, как в детстве, «тетей Галей» – смешно, Эля ведь не в гости к дружку-приятелю на часок забежала. «Галиной Дмитриевной» – длинно, высокопарно и казенно, как на работе. Но оказалось, что это и вовсе не вопрос.
– Зови меня Галей, – отбросив «тетю», предложила свекровь.
Эля радостно согласилась: «Правда, мы обе – взрослые женщины, теперь члены одной семьи, родственницы, как еще звать друг друга, если не по имени. Чего я маялась ерундой».
А вот другие вопросы разрешались гораздо труднее. Пришлось превращать однокомнатную квартиру в двух-, если не комнатную, то хотя бы в двуспальную (или правильнее сказать «двухспальневую»?) Не могут же они втроем спать в одной комнате с расстоянием один метр между кроватями. Слава богу, не в средневековой деревне живут, не в бараке и не в казарме. Хорошо, что кухня большая, целых шесть с половиной метров. Если отсюда перетащить в комнату пенал с посудой – в угол у двери поставить, а для этого книжный шкаф на двадцать сантиметров влево толкнуть – передвинуть кухонный стол чуть ближе к плите, а тумбочку, вот эту, из досок сколоченную, в прихожую – нет выбросить ее нельзя, она для картошки, в нее двадцать кило влезает, три ведра, лучше осенью закупить, пока не гнилая – то Галин диван почти входит на освобожденную территорию – подлокотник один снять, тогда точно влезет. Мебельные пертурбации заняли субботу и воскресенье. А чего бы вы хотели? Это на бумаге карандашиком план передислокации рисовать быстро. А вытащить все книги из шкафа, чтоб его передвинуть? А протереть каждую влажной тряпочкой от пыли, раз уж все равно вытащили? Посуду из пенала и обратно потом? Картофельную тумбочку опять же вымыть изнутри, пользуясь случаем? И пол повсюду на вновь отвоеванных у квартиры местах. Это уж, само собой. Так что не скоро дело делается.
Зато теперь можно спокойно присесть у стола, выпить чайку с «Мишками на севере» и начинать настоящую семейную жизнь. На троих.
Мы не будем особо размазывать. Бо̀льшая половина женского населения нашей страны именно так в семейную жизнь и стартовала. В малометражках, скученности, с вновь обретенными родственниками. Тема тривиальная. Чего и распространяться. Все так жили. И полагали, что так и должно быть. Кооператив к свадьбе – это далеко не для всех. Некоторые так и проживали всю свою жизнь большим семейным хутором на сорока пяти квадратных метрах, с мужниными или наоборот жениными родителями, подрастающими золовками или деверями, которые в свою очередь тоже приводили сюда свои половинки, с детьми и племянниками. И полученная когда-то отцом семейства двушка или даже трешка лет через дцать превращалась в семейную коммуналку, в которой коротало свой век уже второе и третье поколение. Заставленная шкафами, тумбочками, антресолями, с кладовкой, где в фибровых чемоданах копились рисунки давно повзрослевших детей, распашонки и ползунки, засохшая лыжная мазь и пожелтевшие газетные вырезки, с балконом, ставшим пристанищем старых санок, бака для кипячения белья и велосипеда «Орленок» без цепи и одной педали, эта когда-то новенькая, просторная и светлая квартира теперь представляла собой пыльную пещеру Алладина, все сокровища которой злой и насмешливый джинн превратил в хлам. И строго-настрого запретил выкидывать.
Эля не заметила, как, в какой момент ее счастливая семейная жизнь превратилась в перманентный кошмар. А все Галя. Ее свекровь была очень хорошим человеком. Добрым, внимательным, заботливым. Галина заботливость сводила с ума. Эле казалось, что она бултыхается в сладкой розовой пене. В сахарной вате. Чем больше она трепыхается, тем глубже увязает.
– Элечка, ты выспалась? Вы вчера долго возились, – встречала она свою невестку утром на кухне с накрытым полотенцем чайником, нарезанным батоном и неизменно-сладкой улыбкой.
«М-м», – невнятно мычала Эля в ответ. «Возились»… Что она имела в виду? Они и так старались потихоньку. Она бы еще «кузюкались» сказала.
– Мне показалось, ты ночью ходила в туалет. Что-то случилось? Ты себя хорошо чувствуешь, Элечка?
Объяснить Гале зачем она ходила в санузел? О, Господи! И это «Элечка»! Это, пожалуй, раздражало больше всего. Нельзя что ли просто «Эля»? Так и хотелось выдать в ответ: «Галочка».
Свекровь старалась во всю. Приходя с работы, сразу облачалась в полосатый фартук и, вытащив из торбы ежевечернюю порцию продуктов, принималась хлопотать. И щебетать: «Недорогих курочек выбросили в гастрономе, я в обед сбегала. Сейчас бульончик сварим. С вермишелькой. Правда? И котлетки сделаем. Фаршик в «Кооператоре» взяла. Жирноват, конечно – свининка, ну какой был. Ничего, правда? Юрочка придет, а у нас все готово. Все на тарелочке». Обилие уменьшительных суффиксов угнетало. Все Элины попытки как-то втиснуться в Галино «Мы» пресекались:









