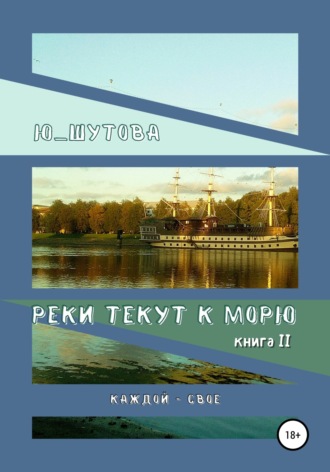
Полная версия
Реки текут к морю. Книга II. Каждой – свое
Юрке сказала. Ему первому. Не одна же она это сделала. Вдвоем. Вдвоем и разгребать надо.
А он наорал на нее. Ну понятно, тоже перетрусил, как и она, но орать-то зачем.
– Это ты специально! Специально залетела! Подстроила! Мне в армию идти, а ты что, хочешь, чтоб мы расписались? Прямо сейчас? Чтоб я…
– Юра, ты что? Ты с ума сошел? Как я могла специально?
– Вы, девки, все можете. Считаете по дням. Небось, календарик ведешь, отмечаешь? Во-о-от…
Она не стала его слушать. «Подстроила». Чтоб его к своей юбке привязать. Придумал же. Гад какой. Надо было ему по физиономии надавать, ногтями расцарапать. Не хватило запала. Просто развернулась и ушла. Только дверью хлопнула так, что штукатурка с угла над косяком отвалилась. И каблуком этот кусок с размаху раздавить, растоптать. Хоть на нем отыграться.
Пришла домой. Хорошо, что никого нет. Родители на работе, бабушка, наверное, в магазин ушла. Ни Эльки, ни Люськи. Ленуся встала перед зеркалом боком, выпятила живот: «Вот, скоро буду пузатая, мать заметит. Убьет. Ну и пусть. Все равно – не жизнь. Кончилась жизнь». Она заскулила тихонько, зажмурилась, чтобы зажать, не выпустить на волю слезы, обняла себя руками и, раскачиваясь, начала подвывать сквозь стиснутые зубы. Сначала чуть слышно, потом все громче.
– Ты чего?
Открыла глаза – в дверях стояла Люська. Значит, дома была, может в сортире сидела.
– Я беременна.
Люся подошла к сестре, посмотрела ей в лицо. Серое, измученное, жалкое, с мокрыми покрасневшими глазами.
– От Юрки залетела?
Ленуся кивнула.
– А он чего?
– Послал меня. Сказал, я нарочно.
– Козел.
– Ага.
– Мать не знает?
Сестра помотала головой. Люся обняла ее за плечи, потянула к тахте. Когда-то давным-давно она так обнимала сестренок, садилась с ними где-нибудь в уголке, чаще всего в мамином шкафу, и рассказывала им сказки. Вычитанные из книжек или придуманные только что, сшитые на живую нитку, с расползающимся сюжетом и нелогичными героями. И все горести детские, обиды на подружек или на мать тут же исчезали, таяли, растопленные придуманным солнцем. Но вряд ли это сработает сейчас.
– Слушай, а ты уверена? Сколько у тебя задержка?
– Дней десять… Или восемь… Или двенадцать…
Люся присвистнула. Да, не хило. Хотя… Есть же какие-то средства… Она почесала нос, вспоминая. Лариска, соседка по комнате в заводской общаге, что-то говорила на этот счет. «Что-то нужно заварить? Трава какая-то… Минутку… Не трава, цветы… Но вот какие? Может бабушку спросить. Это, типа, народное средство, может она знает. Но вот как спросить, чтоб та не догадалась».
Ленка опять начала подскуливать, шмыгать носом.
– Не реви, я думаю. Надо бабушку расспросить. Она, наверняка, знает какое-нибудь средство.
Ленка отпрянула:
– Ты что? Как я ей скажу?
– Никак. Я скажу. Навру чего-нибудь. А ты сопли подбери. Ходи и улыбайся. Чтоб не догадались. Ну а если не выгорит, приедешь ко мне в Ленинград, аборт сделаешь.
– Ты что? Где? Кто мне его там сделает?
– Пойдешь в поликлинику по моей карточке. Там, ведь, фотографии нет.
Улыбаться у Ленуси не очень получалось. Но ныть она перестала. На сестру понадеялась.
Если Люся не поможет, значит, так тому и быть, родит ребенка. «Не смерть же. Вон в кино видела: там все школу закончили, разъехались, разбежались, а главная героиня, самая хорошая-красивая осталась с пузом, ее тоже парень бросил, струсил. Через год собрались, хвастаются: «Я этот… Я тот…», а она говорит: «Я – мама». Родила себе Ваську и счастлива. Вот и я тоже какого-нибудь Ваську рожу…» Но от этих мыслей легче ей не становилось. Наоборот, становилось кисло. Холодно и пусто. Тоскливо.
На выпускном опять с Юркой попыталась поговорить. Парни за школу покурить, винца хлебнуть выходили. Она к Юрке подошла, разговор, мол, есть. Вышли в яблоневый сад. У них за школьным стадиончиком сад был, ботаничка вечно там ковырялась, считала его своим собственным, даже грядки у нее там были. Яблони только-только отцвели, вся трава под деревьями лепестками засыпана, как снегом.
– Ты не трусь, Юрка, я тебя в ЗАГС не тяну. Сама разберусь.
Он хмыкнул:
– Как разберешься-то?
Ленуся прижалась спиной к стволу, почувствовала, как сквозь тонкий шелк платья впиваются в кожу сучки и неровности дерева. Стояла, задрав голову, смотрела ему в лицо снизу вверх. «Ему ведь меня совсем не жалко. Странно. Он всегда добрый был, щедрый… Куда же его доброта подевалась? Зачем я вообще с ним разговариваю? Хочу успокоить? Что ему ничего не грозит? Я – его – успокоить? Почему меня никто не успокаивает? Только Люська. А ему все равно…»
– Обыкновенно. Аборт сделаю. Или ребенка рожу. А что, еще какие-то варианты есть?
Он оперся рукой на ствол возле ее головы, наклонился чуть ниже.
И Ленусе показалось, сейчас он ее поцелует.
Вот сейчас.
Так, как целовал всегда. Сначала пару раз сухо клюнув в губы, а потом крепко, сочно. Обнимет, прижмет к себе. И исчезнет холод и тоска у нее в груди. Осыплются серыми лепестками на землю.
И снова будут они вместе.
Навсегда.
– Ленка, а зачем ты мне все это говоришь? Ты сама все решила. Сама решилась на залет. Теперь говоришь, сама все разрулишь. Флаг тебе в руки. Я-то при чем?
Поговорили…
Она домой пошла. Брела дворами, поскуливала, подвывала побитой собакой, размазывала по лицу тушь со слезами. Потом умывалась на колонке. Нельзя же в таком размазанном виде с выпускного вернуться. И мать, и бабушка сразу уцепятся: «Что случилось? Чего да как…»
– Ты чего так рано? – бабушка сразу забеспокоилась, увидев внучку в прихожей.
– Да… Я это… Переодеться пришла. Не могу на каблуках танцевать. Все переодеваться пошли. Ну почти все…
– А Эля?
– Что Эля? А … Она не хочет. Ей и так хорошо.
Пришлось возвращаться в школу. И даже плясать там. Хотелось забиться куда-нибудь подальше и плакать, а надо было улыбаться и плясать.
На следующее утро мать с Элькой уехали в Ленинград. Воспользовавшись их отсутствием Люся решила попытать бабушку по поводу народных средств. Выпроводила Ленусю на улицу: «Ты иди, там, не знаю, погуляй что ли… раньше, чем через час не приходи».
Думала Люся с чего разговор начать, да так и не надумала. Брякнула:
– Ба, ты какие-нибудь народные средства от беременности знаешь?
Бабушка аж вздрогнула:
– Ты что, Люсенька? Зачем тебе?
– Да не мне, ба. Соседка моя по коммуналке, Ирка мается. У нее задержка, а на аборт она боится идти.
Тридцати с лихом –летняя Иришка, мать одиночка с Дашкой на руках на роль перепуганной залетевшей малолетки подходила мало. Но бабушка ее не знает, не видела и вряд ли когда увидит. Так что сойдет.
– У нее какие-то проблемы со здоровьем, она наркоз не переносит. Никакой. Даже зубы сверлят ей без новокаина. А аборт на живую, без обезболивания – это не зуб сверлить. Она всех опрашивает, чего б такого попить, чтоб само рассосалось. Говорит, какие-то цветы надо заварить. Не знаешь?
– Тьфу, про̀пасть… Напугала меня, девонька. Точно Ирка? Или…
– Да точно. Знаешь, если бы мне понадобилось, я б тебя не спросила. Ты маме расскажешь, она до неба взовьется. Так разорется, что все само отвалится, и аборт не понадобится, – Люся рассмеялась для полной картины личной незаинтересованности.
И бабушка поверила.
– Ну есть, конечно, средства разные. Вот в войну, когда в Вологде жили, одна девчонка со склада нагуляла с солдатиком. Хорошо рано спохватилась. Долго-то тянуть нельзя. У соседки твоей какой срок?
– Дней десять, а что?
– Дак если две недели пройдет, уже не сработает. Да еще и ребенок пострадать может. Дураком или уродом родится. Быстро все делать надо.
– Да что делать-то?
– Ну в войну-то одно средство было. Лепестки пиона красного заваривали. Попьешь, и месячные придут.
– Пиона? И все?
– Да.
– А другие какие? Что-то я не видела никогда в аптеке лепестки пиона. Там только ромашка и кора дуба. Где она пион сейчас найдет? В Городе-то. Может есть еще чего?
– Есть. Совсем простое. Пусть в аптеке аскорбинку купит. Только не ту, что вы в детстве покупали. Не сладкую. Без глюкозы. А баночку желтеньких драже. Их там сто штук. И надо разом всю банку съесть. Водой запивать. Но не много. Воды не много. Аскорбинка пробьет.
Люся глаза вытаращила. Как? Такое простое средство, в любой аптеке бери. Откуда тогда в стране проблема абортов? Если любая тетка может аскорбинкой от беременности избавиться.
– Да ну тебя, ба. Я серьезно спрашиваю, а ты мне пули в уши заливаешь. Что мне Ирке сказать, чтоб витаминок поела?
Бабушка плечами пожала:
– Верь-не верь, а только это средство я на себе проверила.
– Ты?
– Я. И мама ваша тоже. Было дело. Только вы родились, года не прошло, а она опять забеременела. Вроде вас грудью кормила, не должна была, а вот случилось. Куда еще четвертый-то ребенок. Но вот аскорбиночки выпила, и не пришлось на аборт бежать, скоблиться.
Люся бабушку в щеку чмокнула:
– Спасибо, ба. Завтра Ирке звякну, пусть в аптеку бежит. Я прогуляюсь пойду. Купить ничего не надо? Батон? Ладно, куплю.
И Люся помчалась за аскорбинкой.
Может помогла та баночка копеечных витаминок, а может Ленуся зря тряслась, не было у нее никакой беременности. А задержка, что ж, мало ли какая была причина, женский организм – дело темное. Только уже на следующий день все Ленкины проблемы смыло багровой струей. И никогда еще она так не радовалась «красному дню календаря».
Ленка была счастлива, зато Элька вернулась домой из Ленинграда мрачнее тучи. На второй день вернулась. С документами. Что? Как? Почему не подала документы-то в универ? Чего сразу вернулись?
А вот чего.
***
Это был самый прекрасный день. Солнечный, отмытый вчерашним теплым дождичком. «Скорее, скорее, мама!»
Автовокзал, трамвай… «Где мы? Ах да, это же Площадь Восстания! Мы на метро? Нет? А, на троллейбусе…» Подхватить желтую сумку, новенькую, красивую, с двумя белыми кармашками спереди, но тяжелую – семь учебников по истории, с четвертого по десятый класс, плюс одежонка кой-какая, да баночка варенья: крохотные красненькие яблочки в золотистом сиропе, рубинчики в янтаре, бабушкино фирменное.
Троллейбус неспешно ползет через весь Невский. «Это Гостиный двор… А, это Север, сюда я приду за пирожными… Кассы Аэрофлота… Мрачный, черный домина. Все равно красивый. Здесь все красивое».
Эля вертит головой. В одном окне – Эрмитаж, в другом – Адмиралтейство. Как охватить все разом? Она впервые видела эти здания так близко. Но так хорошо их знала. Столько раз рассматривала открытки и картинки в альбомах. Столько про них прочитала. У нее было ощущение, что она вернулась. Не приехала в новое, абсолютно незнакомое место, а вернулась к старым друзьям, с которыми давно не встречалась. Вернулась домой.
Домой?
Откуда это чувство? Почему, выйдя из троллейбуса на Стрелке Васильевского острова, она вдруг ощутила поднявшуюся в груди теплую волну?
«Я дома».
Желтое квадратное здание, со всех сторон схваченное арочной галереей – истфак Университета, ее, Элин, факультет.
Вход. Народ толпится. Тоже поступать собираются. Направо – стрелка бумажная – философский. Налево – исторический. Лестница. Снова стрелка – приемная комиссия.
Мама в коридоре остается.
Эля входит:
– Здрасте…
Тут тоже толпа. Очередь. Столы вдоль окон, за ними девушки, выдают бумажки:
– Заявление пишите… Вон там сядьте…
Эля пишет. Фамилия, имя, отчество… место рождения… образование… национальность…
– А социальное происхождение, это что? – тихонько спрашивает у парня, сидящего рядом.
– Ну, родители у тебя кто?
– Мама – инженер, а папа – в отделе кадров.
– Пиши «из служащих».
– А-а-а… Спасибо.
Эля пишет.
Все пишут. Шепчут шариковые ручки по листам анкет и заявлений. Стоит гул голосов: «Конкурс большой… В прошлом году восемнадцать человек на место было… Провалился… Год на заводе… Если опять – на подготовительное пойду… А, место в общаге дадут?.. Я в Эрмитаже два года занималась… У меня спецшкола английская… Если балл не доберешь, на заочный можно перекинуть документы…»
Эля выскакивает в коридор:
– Все, мама, теперь я – абитуриентка. Вот, – протягивает матери бумажку, – место в общежитии. Пошли?
– Пошли. А адрес какой?
Эля смотрит в листок:
– Пятая линия.
Еще пара-тройка формальностей, медосмотр, бухгалтерия…
Медосмотр был в большой аудитории, абитура брела вдоль столов неспешным стадом, позвякивая: рост, вес, давление, зрение… Эле это напомнило призыв в армию, виденный в каком-то безымянном кино. Вспомнила про Юрку, ему скоро так… Но вспомнила мимолетно. Разве до него сегодня? В бухгалтерии – очередь в окошечки. Вдоль очереди мечутся ушлые агенты Госстраха: «Страховочка от несчастного случая… Страхуемся… Вдруг травма… Палец порежете… Рубль двадцать всего… На год…» Мама Элю застраховала.
Они переходят небольшую площадь, пустую, кроме газона в ее середине, здесь больше ничего нет. Слева – красный торец Двенадцати Коллегий, справа – серый фасад, выше последнего четвертого этажа буквы: «Библиотека Академии наук». Аллеей идут в сторону реки, выходят на набережную. Теперь налево.
– Мама, ты знаешь, куда идти?
– Приблизительно… Давненько тут не бывала. Но Город не меняется. Вон, смотри на том берегу – желтые корпуса. Видишь? Это химзавод. Дальше Тучков мост. До него дойдем, там на Малый проспект свернем. Ну и Пятая линия где-то там будет. Найдем, Эля. Найдем.
Нашли.
Тяжелая дверь хлопнула за спиной, поддав напоследок ветерком. Серый, крашенный масляной краской, скучный тамбур. Холодно как в погребе. Там, снаружи – июль, солнце, жара припекает горчичником, хочется закутаться в кружевные тени листвы как в шаль. Здесь – застоявшийся, какой-то подземельный, мутный студеный полумрак, вызывающий мгновенный озноб. Сжатое пространство, без окон, свет падает откуда-то сверху, с лестницы, закручивающейся вокруг пустоты. Был лифт? Да, наверное. Волнообразным рыбьим движением отражения Эли и ее мамы проплыли сквозь пыльное зеркало, вынырнули с другой стороны из стекла пустой вахтерской будки.
Кроме как наверх, идти было некуда. И они пошли. А там гостеприимно помахала отклеившимся концом стрелка со стены: «Поселение абитуриентов».
Сразу представился этакий поселок, то ли из хижин, то ли из вигвамов, между ними слоняются абитуриенты-очкарики, тащат учебники. Куда тащат-то? А, вон там посередке на поляночке – костерок. Подкидывают книжицы свои, шурудят палочкой: «Гори-гори ясно…» Трепещут бабочкиными крыльями страницы всяческих историй: от Древнего мира до Новейшего времени. Трещат в огненном жаре. Взмывают в небо Фемистокл с Периклом, Плеханов с Бакуниным. Разлетаются искрами. И кипит в котелке над сгорающими эпохами неведомое варево, может уха, а может новая реальность. Кипит, булькает…
Но нет. Нет никакого поселения. Комната есть. В углу свернутые матрасы, на столах стопки постельного белья, одеялки коричневые в клеточку, в пионерском лагере такие были. Казенный уют. За столом – деваха толстая. Комендантша? Не похоже. Может тоже студентка? На раздачу посажена. К ней человек пять-шесть. Очередь. Абитуриенты-очкарики. С сумками, чемоданами. Внутри книжицы. От Древнего мира до Новейшего времени. Парочка мам за компанию.
Эля получает ключ, одеяло, белье и матрас.
– На четвертый поднимайтесь.
Мама тащит матрас, Эля все остальное.
Четвертый этаж не последний, но выше не подняться, лестница закрыта на веревку. Веревка бельевая, старая, грязная, вся в узлах, привязана одним концом к перилам, другим – к обляпанному белилами стулу. Посредине веревки висит табличка с черной молнией и надписью: «Не влезай, убьет».
– Что это? – Эля оторопело таращится на табличку.
– Ремонт еще не закончили, после пожара, – за их спинами проходит парень в мятых шортах, смахивающих на старые семейки, и в клетчатой рубашке с отрезанными или оторванными напрочь рукавами.
В руке у парня чайник, из носика струит пар.
– А когда пожар был? – мама с трудом разворачивается, выглядывает из-за полосатой скатки матраса.
– В мае.
– В этом мае? Месяц назад?
– Нет, – парень неспешно удалялся между двумя рядами дверей, серых, таких же серых, как и стены, – еще в прошлом году.
– А как же… – Эля не знала, что именно она собиралась спросить.
– Да чё… Умывалки работают, сортиры тоже… Живем! – жизнерадостно прокричала исчезающая за поворотом коридора клетчатая спина.
Они переглянулись.
– Ну знаете… – мама, поджав губы, покачала головой.
Комната, которую открыла Эля маленьким ключиком с веревочкой и бумажкой с затертыми цифрами «57», была, как минимум, странной. У одной ее стены в три ряда друг на друге стояли тумбочки. Много старых покоцанных тумбочек, без замков и часто даже без ручек. У другой, напротив, друг на друга были водружены железные кровати с панцирными сетками.
О, эти вечные кровати, спутники пионерского детства и комсомольской юности не одного поколения советских людей. Откуда они пришли? Появились они вместе с советской властью, став ее железным воплощением, или явились еще из имперского прошлого страны? Но где тогда они использовались? История умалчивает. По крайней мере, ни одному из нас, ни одному из личностей, входящих в пестрый анклав Автора, ничего не известно о дореволюционном существовании этих неубиваемых монстров. Зато во времена застоя мы встречались с ними многократно. И честно говоря, до сих пор считаем, что самое лучшее для них применение – прыгать на металлической сетке, как на батуте, слегка придерживаясь руками за высокую спинку, чтобы не улететь незапланированно за ее пределы.
Остальные две противоположные стены заняты – одна окном, голым, не занавешенным ничем, неприкрыто бесстыдным, и батареей под подоконником, вторая, та в которой была дверь, большущим шкафом. В дверцы шкафа, так что его было не открыть, упиралась еще одна кровать. Такая же панцирная. Да, еще прямо на подоконнике почему-то стоял стул. И все, тумбочки, кровати, пол, давно не крашенный деревянный паркет, выложенный квадратиками, все в комнате было покрыто легким серым налетом. То ли пылью, то ли пеплом, то ли состарившейся известкой.
Впечатления уютной или хотя бы жилой комната не производила.
Эля бросила на железную сетку стопку белья, опустила рядом свою сумку, на пол поставить не рискнула, грязно.
– Ничего себе, университет! У нас в общежитии было намного лучше. Это еще в те-то годы! А здесь что за кошмар! – Мама пристроила свою полосатую скатку на ту же койку, провела пальцем по подоконнику, – тут все мыть надо. Нет, пойдем, пусть тебе другую комнату дадут. Не может быть, чтоб везде так было.
– Мам, может завтра… Пойдем лучше в Город. Погуляем.
– Нагуляешься еще. Или пусть другую комнату дают, или хоть пол что ли помыть, – мама начала сбавлять обороты.
– Завтра я все намою. Пойдем в Город!
Эля открыла одну из тумбочек, наугад, и пискнула. Там сидел, глядя прямо на нее, шевеля своими усами-антеннами, таракан. И еще кто-то порскнул в темную глубину.
– Ма-ам!
– Что?
– Тут тараканы…
Как-то давно, ей было года четыре, зимой, ей казалось, была глубокая ночь, но зимой всегда ночь, она вышла на кухню. Пить хотелось. На столе, она знала, бабушка оставляла стакан с водой, прикрытый блюдечком. Выключатель высоко, не достать. Темно. Только синим огнем горят конфорки на плите. Батареи плохо греют, чтобы хоть как-то, как она говорит, натопить квартиру, бабушка газ зажигает. Эля протягивает руку к стакану и видит в синем мертвом свете – тараканы порск в стороны. Разбегаются по столу. Ей кажется, она слышит шорок множества маленьких лапок: шурх-шурх… Она замирает. Взять стакан уже никак не получается. Эля бежит в комнату, кричит: «Ма-ам, мама!»
– Гадость какая, – мать захлопывает дверцу тумбочки, – черт знает, что!
Потом они ходили по этажу, мать инспектировала туалет, умывалку и кухню. Отремонтированные, видимо, совсем недавно умывалка и сортир ее удовлетворили, а вот кухня с побитыми жизнью газовыми плитами и ободранной раковиной не особо. Под раковину задвинуты два огромных бака для помоев. Клеенка на столах, изрезанная ножами, с загнутыми, посеревшими от грязи краями.
– Понятно, откуда тараканы берутся. Полная антисанитария. Куда смотрит комендант?
Они все-таки идут на улицу.
– Мам, поедем на Невский.
– Зачем?
– Ну в «Север» зайдем или в Гостиный двор…
– Нет, Эля, поедем во Фрунзенский универмаг. Может купим тебе что-нибудь. Ты теперь без пяти минут студентка, взрослая девушка, надо выглядеть соответственно.
По широкой лестнице универмага они поднимаются на второй этаж в «Женскую одежду», перебирают вешалки с кофточками, юбочками, тащат что-то в примерочную, снова трясут брючками и маечками. В результате Эля становится обладательницей белого костюмчика: подкороченные штанишки, темно-синяя блузочка без рукавов и пиджачок, белый, с рукавом до локтя и треугольным вырезом, без воротника. Эле нравится. Вот бы в таком виде пройтись где-нибудь на морской набережной. Но и здесь в Ленинграде тоже будет неплохо. Себе мама купила летнее платье, сверху похожее на рубашку: куча мелких пуговок и маленький воротничок, снизу полуклеш юбки, а посредине – узенький ремешок из кожзама.
Потом они зашли в какую-то столовку, но она уже закрывалась, и им достался только винегрет и чай с булочками. И уже возвращаясь, выйдя из метро на Васильевском острове, они завернули в кафе-мороженое, взяли по сто грамм пломбира с сиропом и по чашечке эспрессо из огромной, шумной, как паровоз, кофе-машины. Гулять, так гулять.
При желтом свете висевшей под потолком лампочки в комнате с номером 57 стало несколько уютнее. Мама заправила постель и улеглась.
– Давай, не сиди долго. Свет гаси.
Никакой настольной лампы или ночника в комнате не было, не почитаешь. Оставалось только лечь спать. Вдвоем им было тесно, при каждом движении кровать скрипела, сетка под спинами начинала содрогаться в конвульсиях. Но Эля устала. Она поняла это, как только приткнулась к материному боку и закрыла глаза. «Спать, завтра будет новый день, такой же прекрасный, как нынешний», – она засыпала и еще слышала, что кто-то громко разговаривает в коридоре, кто-то смеется, где-то рухнуло что-то тяжелое, и где-то, может быть, уже в ее сне протренькала гитара.
Грохот.
Что это может так грохотать среди ночи?
Это стучат в дверь! В картонную общежитскую дверь. Со всей силы стучат. Кулаками. И еще орут: «Открывай!»
Эля подскочила. Мама рядом. Тоже не спит. В комнате призрачно-светло. Серо за окном.
Ночь? Утро?
В дверь продолжают стучать.
– Что это? – Эля шепчет, словно боится, что ее услышат.
– Наверное, дверью ошиблись. Пьяные… – мать тоже говорит тихо.
Тоже боится?
Эля натягивает одеяло до самого носа, прячется.
– Что делать, мама?
– Постучат и уйдут. Не будем отвечать. Пусть думают, что здесь никого нет.
Стучать перестали. За дверью громкие голоса. Мужские. Но что говорят, не разобрать. Смех. Шаги. Вроде ушли.
Мать смотрит на часы: шесть утра. Они успокаиваются. Можно еще поспать.
Но только Эля закрыла глаза, заново угнездилась в этой металлической провисшей авоське, как за дверью опять загорланили мужские голоса, что-то заскребло в дверь, и блямс, вставной челюстью лязгнул отжатый замок, и дверь распахнулась, грохнув о выставленный угол кровати.
Натянутое до ушей одеяло, две пары испуганных глаз.
– Ой!
– Японский городовой! Мы думали, тут никого… Извините…
В комнату валились трое парней в заляпанных краской рубахах и спортивках. У одного на голове газетная шапка.
– Мы, это… Ремонт типа… А, вы чего не отвечали? Мы ж стучали…
Мама очнулась первой:
– А ну выметайтесь отсюда живо!
– Да выметаемся, выметаемся, чего орать-то… Сказали б сразу, что тут занято…
Пожав плечами, парни ушли. Было слышно, как они ржут в коридоре. Это они над ними, над ней, над Элей смеются. Эле стало жутко неловко. Правда, чего они молчали? Надо было сразу заорать: «Пошли вон!» И парни бы ушли. А они под одеялом затихарились. Глупо-то как!
Мать вылезла из кровати, прошлепала, засунув ноги в расстегнутые босоножки, к двери:
– Замок сломали… Теперь не закроешь…
– А что делать? – Эля чувствовала себя кисло.
Такой был день! Самый важный день в ее жизни. И такой конфуз. Называется: «А поутру они проснулись…» Ей казалось, что все теперь будут над ней смеяться. Спряталась под одеялом! – Ха-ха-ха, детский сад. Девочка, беги к маме! Кто такие «все», она не задумывалась. Наверно, это она переняла от матери: что скажут, как посмотрят. Ей самой не нравилась такая зависимость от чужого глаза, но избавиться от нее она не могла.









