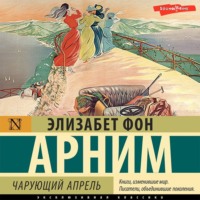Полная версия
Вера
К ее большому удивлению и облегчению ничего подобного не случилось. Корочка на свежих душевных ранах подсыхала, ничем не тревожимая. Люси не только не терзалась – бледность и опухшие глаза остались в Корнуолле, напротив, она казалась удивительно расслабленной. Пару дней после возвращения из Корнуолла она еще выглядела слегка bouleversée[3], была подавленной, ходила по дому как потерянная, однако вскоре все это изменилось, и если бы мисс Энтуисл не знала ее, не знала, как огромна для нее эта потеря, она сказала бы, что Люси кажется счастливой. Да, это ее состояние таилось где-то в глубине, не прорываясь наружу, но, глядя на нее, можно было подумать, что где-то есть источник, из которого она черпает уверенность, источник, который согревает ее душу. «Неужели она нашла утешение в религии?» – думала тетушка, которая никогда в ней утешения не искала, как не искал Джим и никто из Энтуислов, насколько она могла судить. Нет, невозможно. Не для их породы. Но даже частые – по необходимости – визиты в дом в Блумсбери, где она так долго проживала с отцом, не могли поколебать этой ее тайной уверенности. Теперь, когда все печальные дела были улажены, книги и мебель отданы на хранение, а дом возвращен владельцу, и ей больше не было нужды погружаться в воспоминания, лицо ее стало таким, каким было раньше – с легким румянцем, мягкое, легко загоравшееся от какого-то слова или зрелища.
Мисс Энтуисл пребывала в затруднении. Такое спокойствие той, которая должна была бы скорбеть, заставляло ее чувствовать себя неловко, потому что она вроде как превосходила Люси в скорби. Если уж Люси смогла так удивительно собраться – а мисс Энтуисл полагала, что все дело именно в героических усилиях, – то и она на это способна. Память дорогого Джима надо почтить именно так: ей следует возблагодарить Господа за то, что он послал на землю дорогого Джима, затем возблагодарить Господа за то, что у нее был дорогой Джим, а затем, пребывая в этом состоянии бесконечной благодарности, продолжать свой жизненный путь.
Вот о чем размышляла, глядя на Люси, мисс Энтуисл. Казалось, она совершенно не думала о будущем – опять же, к удивлению и облегчению тетушки, которая волновалась, что Люси скоро начнет беспокоиться о своей дальнейшей участи. Об этом она никогда не заговаривала и, судя по всему, и не размышляла. Казалось, что у нее есть какая-то опора – вот-вот, именно это слово пришло на ум мисс Энтуисл, когда она наблюдала за Люси. Но на что она могла бы опереться? Уже во второй раз мисс Энтуисл отбросила идею религии. Невозможно, чтобы дочка Джима ударилась в религию – хотя все намекало именно на это.
Джим скопил достаточную сумму, чтобы после его смерти Люси ни в чем не нуждалась – доход с нее составлял около двух сотен фунтов в год. Это, конечно, немного, но Люси это явно не беспокоило. Возможно, она не представляет себе, что значат эти деньги, думала тетушка, потому что ее жизнь с отцом была такой легкой, в окружении всего того, что было необходимо человеку со слабым здоровьем и что обычным людям кажется роскошью. Как оказалось, опекуном никто назначен не был – в завещании не было ни слова о мистере Уимиссе. И вообще, это было очень краткое завещание: все переходило Люси. Мисс Энтуисл считала, что это как раз правильно, правда, завещать-то особо нечего. Кроме книг, тысяч книг, и прелестной старой мебели из дома в Блумсбери. Что ж, тогда Люси будет жить с ней, пока ей не надоест ютиться в гардеробной, а потом они снимут на двоих дом побольше, хотя мисс Энтуисл прожила в этом доме так долго, что для нее будет непросто съехать.
Так и миновали первые недели траура – в покое, потому что Лондон в это время был пуст, никто не вторгался к ним, не нарушал того, что выглядело как счастье. Они с Люси прекрасно ладили. И были не совсем одиноки: мистер Уимисс навещал их дважды в неделю, в одни и те же дни и настолько точно в пять, что мисс Энтуисл стала даже проверять по нему часы.
Он, бедненький, тоже вроде совладал с собой. В нем не осталось ничего от человека, недавно перенесшего тяжелую утрату, ни в выражении лица, ни в одежде. Не то чтобы он нарядился в цветные галстуки, ничего подобного, но и впечатления, что он в трауре, тоже уже не производил. Она заметила, что брюки он стал носить серые, и даже не темно-серые. Ну, может, это больше не в моде – чрезмерно скорбеть, подумала мисс Энтуисл, с сомнением взирая на упомянутые брюки. И все же не могла не думать, что черная лента на левом рукаве как-то уравновесила бы легкомысленность серых брюк, креповая лента, пусть даже самая узкая, ну, не обязательно креповая, просто из чего-то черного – в данных обстоятельствах, считала она, это было бы очень уместно.
Однако, что бы она там ни думала по поводу его брюк, принимала она его с бесконечной сердечностью, памятуя о проявленной им доброте там, в Корнуолле, и о том, как она сама прилепилась к нему, словно к скале, и вскоре она уже хорошо помнила, как он предпочитает пить чай, и самое большое и удобное кресло всегда стояло для него наготове, хотя кресел, тем более больших, в ее маленькой гостиной было немного, и старалась изо всех сил проявлять гостеприимство и поддерживать приятную беседу. Но чем больше она его узнавала, чем больше слушала его разговоры, тем больше удивлялась Джиму.
Мистер Уимисс был человеком положительным, она была в том уверена, и по собственному опыту знала, что он добр и разумен, но то, что он говорил, так отличалось от разговоров Джима, и его взгляды тоже отличались от взглядов Джима. Нет, это не значит, что все должны придерживаться одного мнения, в этом мире есть место для всех, напоминала себе мисс Энтуисл, сидя напротив него за чайным столиком и наблюдая за мистером Уимиссом, который в этой маленькой гостиной казался еще крупнее, еще успешнее – и, несомненно, все звезды на небе различаются, хоть все и сияют, – но все же она удивлялась Джиму. И если мистер Уимисс мог перенести потерю супруги вплоть до серых брюк, почему же он не переносит ее частые упоминания Джима? Она заметила, что каждый раз, когда заходила речь о Джиме – а как она могла не зайти в кругу, состоявшем из его дочери, его сестры и его друга? – мистер Уимисс умолкал. Если бы не брюки, она приняла бы это за признак особой чувствительности и глубокой преданности. Но брюки, брюки…
Пока мисс Энтуисл размышляла подобным образом и наблюдала за Уимиссом – он-то к ней совсем не присматривался, разве только в первый момент удивился, поскольку теперь она предстала совсем иной, не похожей на ту расклеившуюся леди в Корнуолле, теперь же она и сидела прямо, и двигалась быстро, – сам Уимисс, а вместе с ним Люси, хоть телами и пребывали здесь, душами же отсутствовали: они были погружены в свою любовь. Их окружал магический круг, сквозь который не мог пробиться никто и ничто, в этом кругу они сидели рука об руку в полной безопасности. Сердце Люси целиком принадлежало ему. Стоило ему войти в комнату, как на нее снисходил покой. Его взгляды были так естественны, так значительны, что все сложные, мучительные чувства как-то съеживались. Помимо того, что она его любила, была ему благодарна, желала, чтобы он был счастлив и забыл об ужасной трагедии, ей в его присутствии было очень комфортно. Она еще никогда не встречала никого, к кому могла бы прислониться и испытать такой душевный комфорт. В телесном отношении – в тех редких случаях, когда тетушки рядом с ними не было, – он тоже был чрезвычайно комфортен, он напоминал ей чудесный диван, дорогой, весь в мягких подушках. Душевно же он был более чем удобным – он был роскошным. Какой покой она ощущала, слушая его разговоры! От нее не требовалось никаких мыслительных усилий. Мир, согласно его взглядам, был либо таким, либо этаким. Для отца ничего не было либо таким, либо этаким, приходилось вслушиваться, напрягаться, стараясь понять систему различий, бесконечно множественных, изящных, труднодоступных особенностей. Что же касается Эверарда, то его деление всего вокруг на две категории – для него все было либо белоснежным, либо черным-пречерным – действовало невероятно утешительно, как римско-католическая церковь. Ей не надо было напрягаться или беспокоиться, достаточно подчиниться. И подчиниться какой любви, какой надежности! Вечерами, перед тем как улечься, она думала о том, какая же она счастливая. Она тихо сидела в крохотной гардеробной, сложив руки на коленях, и повторяла про себя где-то вычитанную фразу:
«Когда Господь захлопывает дверь, Он отворяет окно».
Она ни на минуту не оставалась одна со своим горем. Почти сразу же в ее жизнь вошел Эверард и спас ее. Как дважды заподозрила ее тетушка, Люси действительно обрела религию, но ее религией был Уимисс. О, как же она его любила! И каждую ночь под подушку, с той стороны, где сердце, она укладывала его последнее письмо.
И если Люси никак не могла поверить, что ей достался Уимисс, то и он все никак не мог поверить, что ему досталась она. Он никогда в жизни еще не испытывал такого счастья, такой нежности, такой благостности. То, что он чувствовал по отношению к Вере, даже в самом начале их брака, не шло ни в какое сравнение с тем, что он испытывал сейчас, – в этом он был твердо убежден. Что же касается последних нескольких лет – о нет, одергивал он себя, вспоминая о Вере. Он отказывался теперь о ней думать. В последнее время она наполняла все его мысли, и какими ужасными были эти мысли. Его ангелочек Люси исцелила эту рану, так какой же смысл ее теребить? Ничего здорового в этом нет. Он пояснил Люси, которая поначалу восприняла эту мысль несколько болезненно, до какой степени вредно, не говоря уж о том, что просто глупо, не стараться преодолеть прошлое. Жизнь, говорил он, дана для того, чтобы жить, а смерть пусть остается мертвым. Настоящее – вот единственное, что есть у человека, как говорят все мудрецы, и по-настоящему мудрый человек, который также есть человек естественный, со здоровыми инстинктами и совершенно естественным стремлением избегать болезней и смерти, не позволяет прошлому, которое в любом случае уже миновало, вторгаться в настоящее, портить его. А прошлое, объяснял он, всегда к этому стремится. Единственный способ обезопасить себя от прошлого – забыть его.
– Но я не хочу забывать свое прошлое, – сказала Люси, открыв глаза, которые обычно бывали закрыты, поскольку так уж сложилось, что Уимисс высказывал ей все это, оставаясь с ней наедине, и в перерыве между поцелуями, которыми он покрывал ее веки. – Отец…
– О, ты, конечно, вольна помнить свое прошлое, – отвечал он, нежно улыбаясь над склоненной на его грудь аккуратной головкой. – Оно ведь такое маленькое. Но когда станешь старше, поймешь, что твой Эверард был прав.
Уимиссу в его новообретенном счастье казалось, что Вера была в совсем другой жизни, в старой, унылой жизни, из которой ему, человеку здравомыслящему, удалось выбраться и родиться заново, свежим и полностью пригодным для настоящего. Она умерла в сорок лет. Родилась она на пять лет позже него, но быстро его догнала и обогнала, и под конец ему казалось, что она намного старше. А здесь Люси, которой и так всего двадцать два, а выглядит она на двенадцать. Этот контраст все время его восхищал и наполнял гордостью. И какая же она миленькая, теперь, когда перестала все время плакать. Он обожал ее стрижку, из-за которой она казалась такой юной и вообще походила на мальчика, он обожал ее маленький носик с изящно вырезанными ноздрями, и ее довольно крупный, добрый рот, который так легко улыбался, и ее нежные глаза цвета нигеллы[4]. Он все твердил себе, что в женщине его привлекает не внешность, а преданность. Но то, что она хорошенькая, делало предвкушение момента, когда он, наконец, сможет представить ее своим друзьям, еще более приятным: он представит эту девушку тем самым друзьям, которые посмели отвернуться от него после смерти Веры, и скажет: «Вот, смотрите! Смотрите, какое совершенство – и она верит в меня!»
VIII
Лондон опустел, и Уимиссу это нравилось. Никого, кто мог бы, по его собственному выражению, выгнать его с поля, не было. Люси получала множество писем от отцовских друзей с предложениями разного рода помощи, но в своем нынешнем состоянии тайного блаженства она ни в какой помощи не нуждалась, и видеться ни с кем тоже не хотела, поэтому отвечала всем одинаково: благодарила и выражала туманную надежду на то, что позже они постараются встретиться. Некий молодой человек – тот самый, который уже несколько раз делал ей предложение, – был не из тех, от кого так просто отделаться, и – вот до какой степени дошла его любовь! – приехал из самой Шотландии, а приехав, узнал от смотрителя ее прежнего дома в Блумсбери, что теперь она проживает с тетушкой, и заявился на Итон-террас. Но в этот день Люси и мисс Энтуисл отправились на прогулку в нанятом Уимиссом автомобиле, и как раз когда молодому человеку дали от ворот поворот на Итон-террас, сама Люси сидела в лодке с Уимиссом на веслах – лодка направлялась к Хэмптон-корт, Уимисс греб медленно, поскольку запыхался, – а тетушка, прислонясь к каменному парапету набережной, за нею наблюдала. Молодому человеку повезло, что ему не удалось также за нею наблюдать, потому что то, что он увидел бы, вряд ли его обрадовало.
Этим вечером, перед тем как отправляться ко сну, мисс Энтуисл вдруг спросила:
– А чем занимается мистер Уимисс?
Вопрос застал Люси врасплох. До сих пор тетушка никогда не задавала вопросов по его поводу, а если и говорила, то только о его доброте и славном характере.
– Чем занимается мистер Уимисс? – растерянно повторила она, потому что вопрос не только застал ее врасплох – она обнаружила вдруг, что не имеет об этом ни малейшего представления. Она об этом никогда даже и не задумывалась, не говоря уж о том, чтобы спрашивать. Все это время она пребывала в блаженной дреме у него на груди.
– Да. Кто он такой, помимо того, что вдовец? – уточнила мисс Энтуисл. – Что вдовец, мы знаем, но это вряд ли можно считать профессией.
– Я… Я не знаю, – ответила Люси, и выглядевшая, и чувствующая себе невероятно глупо.
– Что ж, возможно, он не занимается ничем, – сказала тетушка, целуя ее на ночь. – Кроме того, чтобы быть пунктуальным, – добавила она с улыбкой, стоя в дверях своей спальни.
Пару дней спустя Уимисс снова нанял авто, чтобы отвезти их на прогулку в Виндзор, и тетушка, когда они приводили себя в порядок перед чаем в гостиничной дамской комнате, вдруг спросила – отвернувшись от зеркала и зажав в губах шпильку, которой намеревалась приколоть на место выбившийся из-за поездки в открытом автомобиле локон:
– От чего умерла миссис Уимисс?
Этот вопрос расстроил Люси. Если в ответ на предыдущий она попросту тупо воззрилась на тетушку, то на этот раз посмотрела на нее со страхом и, залившись краской, повторила за ней:
– От чего она умерла?
– Да. Чем она болела? – тетушка продолжала втыкать в прическу шпильки.
– Она… Она ничем не болела, – ответила Люси обреченно.
– Не болела?
– Я… Я знаю, что произошел несчастный случай.
– Несчастный случай? – тут мисс Энтуисл вынула изо рта еще не нашедшие своего места шпильки и в свою очередь в недоумении уставилась на Люси. – Что за несчастный случай?
– Полагаю, достаточно серьезный, – сказала совершенно растерявшаяся Люси.
Нет, она не могла рассказать эту кошмарную историю, которая и связала ее с Эверардом такими тесными, такими святыми, но ужасными узами!
На что ее тетушка заметила, что несчастный случай, приведший к чьей-то гибели, обычно и называется серьезным, и осведомилась, в чем, помимо серьезности, он состоял; загнанная в угол Люси, инстинктивно понимая, что тетушка, которая уже не раз выражала восхищение стойкостью, с которой мистер Уимисс переносил выпавшее на его долю испытание, будет еще больше поражена, узнав, насколько велика его трагедия, и может заинтересоваться причинами такой его героической стойкости, предпочла утаить правду, ответив, что не знает.
– Ах, – сказала тетушка, – что ж, бедняга он. Просто поразительно, как он стоически все переносит.
И перед ее мысленным взором, разбередив сомнения, вновь предстали серые брюки.
За чаем Уимисс, с простотой и естественностью, которые Люси находила столь восхитительными, принялся рассказывать о том, о чем люди более сложной душевной организации предпочли бы умолчать, а именно – о своем последнем посещении Виндзора.
Это было прошлым летом, сказал он, они с женой – тут мисс Энтуисл навострила ушки – приехали сюда на воскресенье и решили пообедать как раз здесь, но было столько народа и обслуживающий персонал явно не справлялся, так что они предпочли уехать без обеда.
– Положительно так и не пообедав, – повторил Уимисс, глядя на них с лицом, на котором читалось давнее возмущение.
– Ах, – сказала мисс Энтуисл, наклоняясь к нему через стол, – давайте не ворошить печальные воспоминания.
Уимисс уставился на нее. Господи боже мой, она, что, думает, что он говорит о Вере? Да любой обладающий хоть крупицей здравого смысла должен понять, что говорит он исключительно о неудавшемся обеде.
Слегка рассердившись, он повернулся к Люси и адресовал следующую ремарку исключительно ей. Однако тетушка снова была тут как тут.
– Мистер Уимисс, – начала она. – Мне не терпится спросить вас…
И снова ему пришлось повернуться к ней. Свежий воздух и быстрая езда должны были приободрить его маленькую возлюбленную, однако приободрили и тетушку его маленькой возлюбленной, к тому же в последнее время он не мог не заметить в мисс Энтуисл тенденции во все лезть. Во время его первых восьми визитов на Итон-террас – что составило четыре недели после его возвращения в Лондон и шесть недель спустя похорон в Корнуолле, – он вряд ли замечал ее присутствие, нет, замечал, конечно, когда она присутствовала в гостиной, тем самым препятствуя его ухаживаниям. И все же в течение этих восьми визитов его первое впечатление о ней оставалось неизменным: жалкое создание, вцепившееся в него в Корнуолле, готовое в любой момент разрыдаться. И в Лондоне она вела себя, как любая глупая особа в присутствии смерти – никакого здравого смысла, никакой выдержки, стоит взглянуть на нее – тут же принимается реветь, и без остановки перечисляет достоинства почившего. При этом упрямая и, кроме того, выказывающая явные эгоистические черты. Он, однако, отметил, что слезы у нее значительно, а то и полностью просохли, так что она даже в чем-то стала получше, и все равно она оставалась для него все той же тетушкой Люси – кем-то, кто разливает чай и прискорбно редко покидает гостиную, неизбежным, но, к счастью, временным злом. Однако сейчас она стала превращаться в того, кто существует на самом деле и по своим законам. Стала заявлять о себе. И даже когда молчала – а порой она во время встреч и пары слов не произносила, – она все равно заявляла о себе.
И вот пожалуйста, заявила о себе в полный голос, прямо так и спросив его за чайным столом – которому, несомненно, хозяином был он, – кто он по профессии, чем занимается.
Она же его гостья, а гостю не пристало спрашивать у хозяина, чем он занимается. Нет, он бы и сам рад был ей об этом доложить, но по своей инициативе. Человек, и это несомненно, имеет право на собственную инициативу. Уимисс никогда не терпел расспросов. Даже самые невинные, обычные вопросы воспринимались им как посягательство на его неотъемлемые права.
Тетушка Люси, попивая чай – его чай, кстати, – сделала вид, что выглядело все это совершенно не оскорбительно, поскольку она замаскировала свой вопрос под обычное любопытство: ах, ей ужасно хочется знать о его занятиях. Она и сама видит – тут она улыбнулась его обтянутой серым ноге, – что он не епископ, а также не художник, музыкант или писатель, и что она нисколько не удивится, если он скажет, что он адмирал.
Умно, подумал Уимисс. Ничего не имеет против того, чтобы его приняли за адмирала, адмиралы – народ честный и открытый.
Задобренный таким предположением, он сообщил, что играет на бирже.
– Ах, вот как, – кивнула мисс Энтуисл с мудрым видом, поскольку в этом вопросе не разбиралась совершенно: биржевые операции и финансы были материей, совершенно Энтуислам чуждой. – Ах, вот как! Ну да. Быки и медведи[5]. Теперь я и сама вижу, что у вас оценивающий взгляд.
«Глупая женщина», – подумал Уимисс, которому по определенным причинам было неприятно, что при Люси заговорили о его оценивающем взгляде, но выбросил тетушку из головы и сосредоточился на своей крошке, в очередной раз вопрошая себя, когда же наконец можно будет, соблюдая приличия, превратить тайное ухаживание в официальное и избавиться от утомительной компании тетушки.
После обоих похорон прошло уже около двух месяцев, и уж скоро настанет пора сообщить тетушке об их помолвке, это точно. После этой поездки он начал в письмах и в редкие мгновения, когда оставался с Люси наедине, убеждать ее рассказать тетке. Больше никому знать и не обязательно, писал он, он вполне мог бы по-прежнему таить их помолвку от всего белого света, но совершенно очевидно, что им стало бы гораздо удобнее, если бы тетушка знала: только представь, она тогда перестала бы за ними присматривать, оставила бы их в покое, по крайней мере, в доме на Итон-террас.
Люси, однако, не соглашалась. Она пребывала в сомнениях. В письмах она уговаривала его набраться терпения. Говорила, что с каждой прошедшей неделей помолвка их будет вызывать все меньше удивления. Говорила, что сейчас пришлось бы слишком многое объяснять, а она не уверена, что даже после всех объяснений тетушка поймет их правильно.
В ответных письмах Уимисс отметал эти сомнения. Говорил, что тетушка должна будет их понять, и даже если не поймет, то какое это будет иметь значение? Главное – она будет осведомлена. Тогда, писал он, она будет вынуждена оставлять их, а не торчать рядом, и его малышка увидит, как чудесно будет, когда они долгие часы будут проводить наедине друг с другом. Потому что кто такая тетушка, в конце концов? Разве может она для Люси сравниться с ее Эверардом? Кроме того, он ненавидит секреты. Ни один честный человек не может долго что-то скрывать. Его малышка должна решиться и рассказать тетушке, ее Эверард знает, как лучше, или, если ей так будет лучше, он сам все расскажет.
Люси не считала, что так будет лучше, и Люси начала волноваться, потому что Уимисс становился все более настойчивым – ему все больше не нравились проявления независимого и острого ума мисс Энтуисл, а Люси не нравилось ему отказывать или даже сомневаться в его просьбах. Пока однажды утром за завтраком тетушка, вроде бы полностью поглощенная своим беконом, вдруг не посмотрела на нее поверх кофейника и не спросила:
– А как давно отец знаком с мистером Уимиссом?
Это решило все. Люси поняла, что больше не может выдерживать подобные удары. Она не может не облегчить совесть.
– Тетя Дот, – пробормотала она: мисс Энтуисл звали Дороти. – Я должна… Я хочу… Мне надо рассказать тебе…
– Давай после завтрака, – коротко ответила мисс Энтуисл. – Нам нужно время, и чтобы нас никто не беспокоил. Перейдем в гостиную.
И сразу же заговорила о чем-то постороннем.
Может ли, размышляла Люси, уставившись в тост с маслом, тетя Дот о чем-то подозревать?
IX
Тетя Дот не просто могла – она действительно подозревала. Но вот того, что ей преподнесла Люси, она не подозревала, и ей было невероятно трудно все это переварить. Потому и два часа спустя Люси все еще стояла в центре гостиной и все еще страстно повторяла, наверное, в десятый раз:
– Ну как ты не понимаешь? Все именно потому, что то, что с ним случилось, было ужасно. Просто природа берет свое. Если бы он сейчас не был помолвлен, если бы он не выбрался из этой темной дыры и вновь не соприкоснулся с жизнью, с кем-то, кто ему сочувствует – кто любит его, он бы погиб, погиб или сошел с ума, и подумай, какой миру прок от того, что кто-то хороший, добрый, будет обречен на смерть или безумие? Тетя Дот, какая от этого польза?
А тетушка, сидя в привычном своем кресле у камина, все силилась понять и принять новости. У нее даже лицо от напряжения сморщилось. Она была серьезно расстроена.
Люси глядела на нее в отчаянии: неужели тетя, которую она так любит, не видит того, что видит она, не понимает того, что она понимает, и из-за этого не испытывает той уверенности и счастья, которые испытывает она, Люси? Нет, в этот момент она вовсе не была счастлива, она тоже была всерьез расстроена, она вся раскраснелась, глаза ее сверкали, пока она пыталась объяснить Уимисса, показать его таким, каким она его видела, таким, каким он и был на самом деле, донести свое понимание до тетушкиного сознания.
Она облегчила свою совесть до самого донышка, признавшись, в том числе, что она знала, какой несчастный случай произошел с миссис Уимисс, и даже описала его. Тетушка была шокирована. Ничего столь ужасного она и представить себе не могла. Падая, пролететь мимо окна, у которого сидел муж… Какой ужас, что Люси оказалась замешанной в таком, да еще так быстро после смерти ее естественного покровителя – или двух покровителей, потому что, будь миссис Уимисс жива, разве она, вкупе со своим мужем, не стала бы покровительницей для Люси? Она была озадачена и не могла понять реакций, которые Люси считала столь естественными для Уимисса. И пришла к заключению: ей все это непонятно, наверное, в силу возраста, она уже не обладает такой приспособляемостью, какая характерна для молодого поколения, хотя Уимисс наверняка ей ровесник. Во всяком случае, принадлежит к ее поколению, но однако же через полмесяца после столь ужасной смерти жены смог ее позабыть, смог полюбить снова…