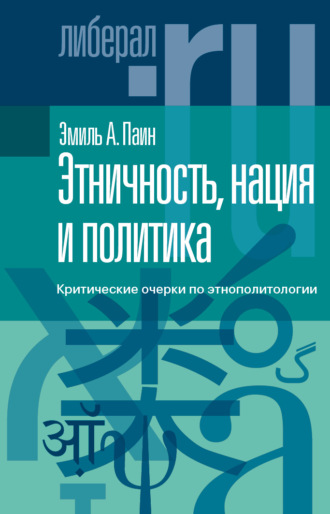
Полная версия
Этничность, нация и политика. Критические очерки по этнополитологии
О том, что влияние экономических интересов не является решающим в развитии этнических конфликтов, свидетельствует и то, что лидеры национальных движений, роль которых в возникновении и эскалации конфликтов чрезвычайно велика, насколько мне известно, ничего от этого не выиграли экономически, поскольку больше всего были заинтересованы в удовлетворении своих политических амбиций. Другое дело, что вокруг всех сторон конфликта всегда вращаются представители нелегального и откровенно криминального бизнеса и они-то действительно наживаются на конфликтах. Вместе с тем было бы большим преувеличением считать криминальный бизнес главным виновником развития конфликтов на юге СНГ. На роль «главного виновника» в развязывании подобных конфликтов не могут претендовать, как уже отмечалось, и силы, заинтересованные в продвижении нефтяных интересов, хотя не вызывает сомнений факт использования уже развившихся конфликтов и их последствий в нефтяной политике многих государств (в том числе и России). Многочисленные примеру тому проявлялись в российской политике в Прикаспийском регионе196.
Правительства многих государств мира часто пытаются объяснить возникновение межэтнических или межконфессиональных конфликтов «происками» неких внешних сил, однако при этом редко приводят сколько-нибудь убедительные аргументы в пользу того, что некое иностранное государство стало виновником зарождения этнического или территориального конфликта. Так было неоднократно при возникновении конфликтов в зонах расселения тюрок и китайцев в Китае, исламского и индуистского населения в Индии, в полиэтничных и мультиконфессиональных регионах Балкан, Кавказа, Ближнего Востока и Центральной Азии. Меж тем причины большинства конфликтов в названых регионах мира обычно бывают хорошо объяснимы, исходя из внутренних обстоятельств жизни различных культурных групп, взаимодействующих на этих территориях. Другое дело, что государства, претендующие на лидирующую роль в рассматриваемых регионах (Китай, Индия, Россия, Турция, Иран, США и др.), учитывают и зачастую используют в своей политике фактор конфликтности на территории того или иного региона мира в целях усиления своего регионального и/или глобального влияния.
Наибольшие расхождения во мнениях аналитиков вызывает вопрос о роли России в возникновении, эскалации и урегулировании подобных конфликтов.
Эти споры вызваны прежде всего бросающейся в глаза противоречивостью ее геополитических интересов. Так, не вызывает сомнений заинтересованность России в стабилизации и смягчении политического климата на территории прилегающих к ней стран юга СНГ, хотя бы потому, что ее северокавказские республики, являющиеся самыми нестабильными в Федерации, подвержены тем же политическим болезням, что и закавказские государства, а над поволжскими республиками постоянно витает угроза заражения нестабильностью, исходящей из горячих точек Средней Азии. Вместе с тем провоцирование конфликтов и внутренних междоусобиц в духе политики «разделяй и властвуй» не раз использовалось Россией для укрепления своего влияния за полтора века ее присутствия в обоих регионах.
Хочу прояснить некоторые аспекты своей личной позиции по данному вопросу, которую не могу переложить на некое коллективное «мы», включая даже людей, которые так или иначе помогали в подготовке этой книги. Прежде всего, я рассматриваю как предельно упрощенные и неадекватные реальности суждения тех авторов, которые пытаются объяснить природу обострения территориальных споров в постсоветском пространстве исключительно «имперскими происками Кремля». Ничто, на мой взгляд, так не удалено от истины, как предположение, что внешняя политика постсоветской России планировалась и осуществляется в духе сакраментальной «теории заговоров»197. Непродуктивно описывать эту политику и в терминах «теории хаоса», т. е. как совокупности абсолютно спонтанных действий, не обусловленных государственными интересами. При оценке политики России в конфликтных зонах автор исходит из теории «переходного» характера такой политики, отражающей незавершенность процесса национально-государственной консолидации России, начального этапа становления новых экономических отношений и системы демократического функционирования посткоммунистических институтов государства и общества. Также находится в стадии становления и процесс геополитической самоидентификации России.
Осознание и формулирование российских интересов в сфере международной безопасности, геополитической стратегии и развития внутренних федеративных отношений происходит в борьбе различных политических сил. Поэтому политика России характеризуется причудливыми сочетаниями и чередованиями противоречивых тенденций, как по отношению к новым независимым государствам, так и к регионам самой Российской Федерации.
Обзор основных концепций развития конфликтов должен был, на наш взгляд, показать прежде всего ограниченность возможностей всех известных концепций в объяснении причин, обусловивших взрыв конфликтов в рассматриваемых регионах в 1990‐х годах. Вместе с тем, если рассматривать эти концепции по принципу их взаимной дополнительности, то в совокупности они дают некоторое представление об общей картине эскалации конфликтов в постсоветском пространстве и о сложности причин, обусловивших изучаемый феномен.
В 1990‐х годах, в первые годы существования постсоветской России, центральной проблемой национальной политики был вопрос о политическом статусе этнических территорий. Именно он породил особый тип конфликтов в межэтнических отношениях.
«Вертикальные конфликты», или «конфликты суверенизации». Это межгрупповые отношения, в рамках которых широкие массы людей определенной этнической принадлежности могут объединяться в политические движения, обычно называемые «национальными движениями», консолидируясь вокруг идеи национального самоопределения. Идея суверенизации формируется этническими элитами, приобретая затем массовую популярность.
Большую часть межэтнических конфликтов, вспыхнувших в 1990‐х годах, можно назвать «вертикальными», поскольку они были направлены как бы «снизу» (со стороны национальных движений) «вверх» – к центральным (федеральным) органам власти. Требования национальных движений преследовали своей целью изменение статуса территории проживания – от полного суверенитета до повышения уровня автономии республики, которая объявлялась «национальным достоянием» той или иной этнической общности. Все «вертикальные» конфликты так или иначе отражали процесс дезинтеграции Советского Союза, проявившейся в «параде суверенитетов» (1988–1991). Речь шла о конфликтах между союзным центром и союзными республиками, вызванных провозглашением верховенства республиканских законов над союзными. Одним из первых проявлений этого процесса стал карабахский конфликт, начавшийся в 1988 году198. Он открыл собой череду длительных вооруженных конфликтов (карабахский, абхазский, таджикский, югоосетинский, осетино-ингушский, приднестровский и чеченский), в которых участвовали регулярные армии и использовалось тяжелое вооружение. В процессе «парада суверенитетов» проявились вертикальные конфликты и внутри России. По уровню радикальности требований, предъявляемых российским властям национальными движениями, все конфликты суверенизации внутри России могут быть разделены на четыре типа:
– конфликты, возникшие в результате притязаний существовавших ранее национально-территориальных автономий на полный государственный суверенитет; к таковым на территории Российской Федерации относился только чеченский конфликт, который породил две вооруженные кампании (1994–1996 и 1999–2000);
– конфликты, связанные с односторонним повышением статуса республик, объявлением их «субъектами международного права» или включением в республиканские конституции других норм, противоречащих федеральному законодательству, но без формального притязания на создание на базе этих автономий независимых государств (республики Татарстан, Башкирия, Тува, Якутия и некоторые другие – 1991–1992);
– конфликты, ставшие следствием провозглашения этническими общинами новых национально-территориальных автономий. На такой основе развивались следующие конфликты: а) между рядом национальных движений Дагестана и властями республики; б) между балкарским национальным движением и властями Кабардино-Балкарской Республики; в) между движением радикальной части этнических общин Карачаево-Черкесии и ее властями, отказавшимися признать ранее провозглашенные Карачаевскую, Черкесскую, Абазинскую и две казачьи (Урупско-Зеленчукскую и Баталпашинскую) республики (1992–1994);
– конфликты между национальными движениями соседних республик, претендующими на контроль над спорными пограничными территориями. Речь идет прежде всего о конфликте между Северной Осетией и Ингушетией из‐за Пригородного района. Этот конфликт, безусловно, «горизонтальный» межэтнический, поскольку породил, по крайней мере на время, массовые взаимные претензии между ингушами и осетинами. В то же время его можно считать и «вертикальным», поскольку лидеры противоборствующих сторон апеллировали к федеральной власти, требуя подтвердить их права на территорию (1992).
Все «конфликты суверенизации» в России оказали значительное влияние на обострение «горизонтальных» межэтнических отношений (см. ниже), вызвав, например, потоки внутренних вынужденных миграций, пик которых пришелся как раз на время активизации указных конфликтов. Так, в процессе осетино-ингушского конфликта (1992) «практически все ингушское население Северной Осетии – Алании и менее многочисленное осетинское население Ингушетии на многие годы покинули свои дома…»199. Чеченскую Республику накануне двух военных кампаний, а также в ходе вооруженных столкновений покинули 250 тысяч человек, по большей части русских, тогда как после второй кампании (1999–2000) основную долю вынужденных мигрантов составили чеченцы200.
К началу 2000‐х годов отчетливо проявилась смена ведущей тенденции в этнополитических процессах, а вслед за ней изменился и характер межэтнических отношений. В это время противоречия между республиками и федеральным центром стали менее заметными по сравнению с новой проблематикой – конфликтностью взаимоотношений этнических мигрантов и принимающих сообществ, прежде всего в городах России.
«Горизонтальные конфликты» – этнически окрашенные межгрупповые конфликты. Это название весьма условное. Во-первых, речь не обязательно идет о конфликтах как наиболее острых социальных противоречиях, проявляющихся в открытых действиях, зачастую это более мягкие противоречия, например взаимные подозрения, не доходящие до прямых столкновений. Во-вторых, слово «горизонтальные» подчеркивает, что эти противоречия не затрагивают непосредственно отношения общества и власти, а протекают внутри разных групп населения или между ними. Такие горизонтальные противоречия могут возникать при взаимодействии индивидов и групп, идентифицирующих себя с этническим большинством или с меньшинствами, с местным населением или с мигрантами, а также между разными группами внутри мигрантских сообществ и др.
К числу давних относятся следующие горизонтальные конфликты в России:
– борьба за однотипные формы хозяйственного использования ограниченных земельных и водных ресурсов с включением в конфликт этнической мобилизации. Классические примеры дают хозяйственно-земельные споры в равнинных земледельческих районах Дагестана, если в соседних селениях или кварталах крупных полиэтнических селений проживают представители разных этнических общностей: аварцы, чеченцы-акинцы, кумыки, лезгины и др.; подобные конфликты в Ставропольском крае и Ростовской области между русскими и этническими группами выходцев из Дагестана и Чеченской Республики; конфликты в Республике Крым между русским и крымско-татарским сельским населением;
– борьба за разное хозяйственное использование одних и тех же территорий в районах проживания народов с разными хозяйственно-культурными традициями (например, земледельческой и скотоводческой) и разными исторически сложившимися этническими специализациями. Одни группы хотят использовать территорию как пастбища, а другие для земледелия. Такие конфликты характерны для многих регионов Северного Кавказа. В районах проживания коренных малочисленных народов Севера подобные конфликты возникают в случае попыток промышленного освоения территорий традиционного хозяйствования коренных народов, например оленеводства.
В 2000–2020 годах наибольший размах межэтнических конфликтов проявился не в республиках России, а в ее краях и областях, и не столько в сельской местности, сколько в крупнейших городах, центрах притяжения мигрантов. В эти годы проявились две основные разновидности горизонтальных конфликтов с этнической мобилизацией:
– погром – одностороннее идеологически подготовленное насильственное действие представителей националистических групп этнического большинства, направленное против религиозных, национальных или расовых меньшинств, и прежде всего мигрантов. Термин «погром», вошедший ныне в правовой язык во всем мире, возник в России в конце XIX века, когда в еврейских кварталах некоторых городов устраивались погромы, инспирированные властями по политическим и идеологическим соображениям. В настоящее время погромы характерны для разных стран мира, и одним из основных объектов такой формы насилия все чаще становятся мигранты201. По данным аналитического центра «Сова», насильственные действия, мотивированные этническими предубеждениями в отношении меньшинств, преимущественно из числа мигрантов, в начале 2000‐х годов отмечались более чем в 40 регионах страны. Местом наибольшего притяжения мигрантов стали крупнейшие города страны. На Москву и Московскую область в разные годы приходилось от 33 до 42% всех преступлений на этнической почве, на Санкт-Петербург и область – 11–15%202;
– двусторонние, спонтанные межэтнические конфликты на основе изначально бытовых столкновений. Классическим примером конфликта этого типа могут служить столкновения в Кондопоге (Карелия). В 2006 году здесь в течение нескольких дней (29 августа – 3 сентября) разрастался межэтнический конфликт, первоначальным толчком для которого стал заурядный бытовой спор в ресторане. Сторонами этого спора были две группы людей, русской и чеченской национальности, и в какой-то момент обе они посчитали, что задеты их этнические чувства. В напряженной психологической обстановке этого оказалось достаточно для вспышки этнического конфликта, в который было вовлечено, в его кульминационной точке, около тысячи жителей города. По аналогичному сценарию развивались события в других населенных пунктах (Демьяново, Кировская область, 2012 год; Пугачев, Саратовская область, 2013; Бирюлево, Москва, 2013; Нурлат, Татарстан, 2013; Чемодановка, Пензенская область, 2019; и др.), хотя этнический состав групп, вступавших в конфликт, был разным.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Абдулатипов Р. Г. Этнополитология. М.: Питер, 2004; Ачкасов В. А. Этнополитология. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005; Он же. Этнополитология: Учебник для бакалавров. 2‐е изд. М.: Юрайт, 2014; Красова Е. Ю. Этнополитология: Учебно-методическое пособие по спецкурсу. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005; Садохин А. П., Шабаев Ю. П. Этнополитология. М.: Юнити, 2005; Шелистов Ю. И. Этнополитология. М.: МГУ, 2006; Тишков В. А., Шабаев Ю. П. Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГУ, 2011; и др. До этих учебников вышла монография: Паин Э. А. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы этнополитических процессов в постсоветской России. М.: Институт социологии РАН, 2004, которая использовалась автором как учебное пособие в преподавании дисциплины «этнополитология» в НИУ «Высшая школа экономики».
2
Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. С. 235.
3
Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ – совещательный и консультативный орган при главе государства. Образован 5 июня 2012 г. во исполнение указа Владимира Путина от 7 мая 2012 г. «Об обеспечении межнационального согласия». URL: https://sovetnational.ru/sovet/.
4
Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70184810/.
5
Такая трактовка вытекает, например, из официального российского толкования понятия «национальные интересы», под которыми понимается «совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства» (Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»). Характерно, что и стратегия государственной национальной политики до 2025 г., в новейшей ее редакции 2018 г., определяет ее как документ «стратегического планирования в сфере национальной безопасности Российской Федерации» (Пункт 1 Указа Президента России от 6 декабря 2018 г. № 703. URL: https://base.garant.ru/72120010/).
6
Абдулатипов Р. Г. Этнонациональная политика в Российской Федерации. Концепции, практика, реализация, перспективы. М.: Классикс-Стиль, 2007; Авксентьев В. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы. Ставрополь, 2001; Ахиезер А. С. Культурные основы этнических конфликтов // Общественные науки и современность. 1994. № 4. С. 115–126; Вендина О. И., Паин Э. А. Многоэтничный город. Проблемы и перспективы управления культурным разнообразием в крупнейших городах. М.: Сектор, 2018; Джунусов М. С. Методологическое введение к изучению социально-политических и межнациональных конфликтов. М., 1991; Здравомыслов А. Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 1997; Паин Э. А. Этнополитический маятник; Он же. Между империей и нацией. М.: Новое издательство, 2004; Попов А. А. Причины возникновения и динамика развития конфликтов // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М., 1997. С. 273–297; Ожиганов Э. Н. Сумерки России. М., 1996; Степанов Е. И. Конфликтология переходного периода. М., 1996; Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Наука, 1997; Червяков В., Шапиро В., Шереги Ф. Межнациональные конфликты и проблемы беженцев. Ч. 1, 2. М., 1991; Язькова А. А. Национально-этнические проблемы (российский и мировой опыт их регулирования). М., 2003.
7
Parenti M. Ethnic Politics and Persistence of Ethnic Identification // American Political Science Review (APSR). 1967. Vol. 61. № 3.
8
Rotshild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework. New York, 1981.
9
Van den Berghe P. Protection of Ethnic Minorities: A Critical Appraisal // Protection of Ethnic Minorities. New York, 1981.
10
Deutsch К. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality. Cambridge, MA, 1953 (2‐е изд. 1966); Seton-Watson H. Nations and States. London, 1977; Smith А. Theories of Nationalism. London, 1971.
11
Kellas J. The Politics of Nationalism and Ethnicity. London, 1991; Esman M. J. Ethnic Politics. Ithaca, 1994.
12
Паин Э. А. Этнополитический маятник. С. 15.
13
На это определение Э. Паина ссылаются в некоторых учебниках, см., например: Ачкасов В. А. Этнополитология: Учебник для бакалавров. С. 14.
14
Об этом подробнее см., например: Марченко Г. И. Методологические подходы к исследованию этнополитических явлений // Вестник Московского ун-та. Серия 12: Политические науки. 1995. № 1. С. 5–15.
15
См., например: Каррер д’ Анкосс Э. Расколотая империя. Лондон: OPI, 1982; Brzezinsky Z. Post-Communist Nationalism // Foreign Affairs. Vol. 68. № 5 (Winter, 1989). Р. 1–25; Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917–1991 гг. М.: Вагриус, 1994; Швейцер П. Победа. Роль тайной стратегии администрации США в распаде Советского Союза и социалистического лагеря / Пер. с польского. М.: Авест, 1995; Суни Р. Г. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории / Под ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана; Институт этнологии и антропологии РАН. М.: Наука, 2007; Мотыль А. Пути империй: упадок, крах и возрождение имперских государств. М.: МШПИ, 2004; Lieven D. Empire: The Russian Empire and Its Rivals. New Haven, CT, 2000; Бейссингер М. Переосмысление империи после распада Советского Союза // Ab Imperio. 2005. № 3. С. 35–88.
16
См., например: Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России; Губогло М. Н. Переломные годы. Т. 1: Мобилизованный лингвицизм. М., 1993; Чешко С. В. Распад СССР: этнополитический анализ. М.: ИЭ РАН, 2000; Шнирельман В. А. Страсти по Аркаиму: арийская идея и национализм // Язык и этнический конфликт / Под ред. М. Б. Олкотта, И. Семенова. М.: Гендальф, 2001; и др.
17
Паин Э. А., Федюнин С. Ю. Нация и демократия: перспективы управления культурным разнообразием. М.: Мысль, 2017.
18
Подробнее об этой дискуссии см.: Дробижева Л. М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013. С. 24–27.
19
Тишков В. А. Языки нации // Вестник Российской академии наук. 2016. Т. 86. № 4. С. 296.
20
Там же.
21
Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных различий / Под ред. Фредрика Барта. М.: Новое изд-во, 2006.
22
Дробижева Л. М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. С. 25.
23
Многосоставные государства: опыт и перспективы развития: Сб. ст. / Под ред. А. Ю. Саломатина. Пенза: Изд-во ПГУ, 2019.
24
Словари национальностей Всесоюзной переписи населения 1926, 1937, 1970 и 1979 гг. // Демоскоп Weekly. 2014. № 521–522. Апрель. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0591/chit_zal01.php.
25
Brzezinsky Z. Post-Communist Nationalism; Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2006; Мотыль А. Пути империй…
26
Об этом подробнее см.: Вендина О. И., Паин Э. А. Многоэтничный город… С. 8.
27
Авторханов А. Г. Империя кремля. Советский тип колониализма. Garmisch-Partenkirchen: Prometheus, 1998. URL: https://vtoraya-literatura.com/pdf/avtorkhanov_imperiya_kremlya_1988__ocr.pdf.
28
Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР. 1923–1939 / Пер. с англ. О. Р. Щелоковой. М.: РОССПЭН, 2011.
29
Советская национальная политика: идеология и практики 1945–1953. Серия: Документы советской истории / Отв. сост. О. В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2013. С. 335–339.
30
Паин Э. А. Этнополитический маятник. Ч. IV. С. 195–261.
31
Щербак А. Н., Болячевец Л. С., Платонова Е. С. История советской национальной политики: колебания маятника? // Политическая наука. 2016. № 1. С. 101–122.
32
Щербак А. Н. и др. Влияние внешней политики на национальную политику СССР // Полития. 2017. № 3 (86). С. 99–116.
33
Паин Э. Управление культурным разнообразием в городах: новая парадигма в регулировании этнополитических отношений в России // Государственная служба. 2016. Ноябрь–декабрь. № 106. С. 66–73; Паин Э., Федюнин С. Нация и демократия. Перспективы управления культурным разнообразием; Pain E. Regional and National Diversity as a Factor of Public Administration Theory Development: Problem Statement // Public Administration Issues. 2015. Special issue. P. 34–49; и др.



