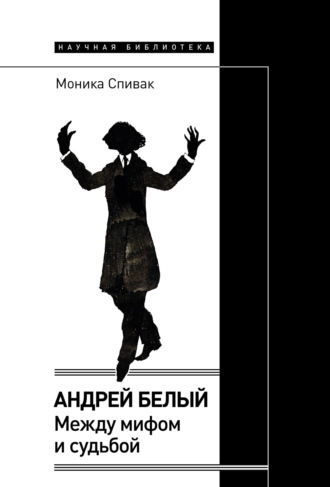
Полная версия
Андрей Белый: между мифом и судьбой
Уистлер как тончайший художник, умеющий отделить сверхчувственное от реального, напоминает мне своими пейзажами некоторые нежно-ласковые, журчащие стихотворения Верлена. Как тот, так и другой вызывают минутами нежнейшие ощущения и убаюкивают нас чарами, тайная сила которых ускользает от нас. Верлен дошел до пределов поэзии, где она превращается в дуновение и где начинается область музыки. Уистлер в своих гармониях почти переходит границу живописи, он вступает в царство поэзии и шествует по меланхоличным берегам, где цветут бледные цветы Верлена. <…> И славой Уистлера, как и немногих других, презревших требования толпы, будет то, что художник всегда проповедовал тонко аристократическое искусство, противное идеям масс, уходящее от толпы; искусство вечно одинокое и горделиво пребывающее в вечной тайне.
***В 1901 году Стасов возмущался пандемической модой называть произведения на «уистлеровский манер», которая воцарилась в современном («декадентском») искусстве278:
Не только картины-портреты самого Уистлера, но и разных других новейших художников пишутся и прозываются на уистлеровский манер. Так, про Бёклина говорят, что он «симфонист в красках», <…> про мюнхенца Штука, что его «Распятие» – «голгофская симфония с полными колористичными фугами» <…>…279
Думается, что под влиянием этих культурных тенденций, столь негативно очерченных Стасовым, находился и Белый, когда называл свои первые произведения – «на уистлеровский манер» – симфониями280.
В то же время необходимо подчеркнуть, что русский символист изначально придерживался понимания «симфонизма», далекого от собственно уистлеровского, но напоминающего Уистлера в мистической интерпретации Гюисманса.
Французский романист в финале статьи сопряг ориентацию Уистлера на переход «границы живописи» с именем Поля Верлена. Белый в статье «Формы искусства», впервые напечатанной в журнале «Мир искусства» (1902, № 12), а позже вошедшей в сборник «Символизм» (1910), также цитировал эпохальные строки Верлена:
Нам понятно, наконец, полусознательное восклицание Верлена:
De la musique avant toute chose,
De la musique avant et toujours281.
В этой статье, имевшей «значение философско-эстетического манифеста»282, Белый декларировал:
Нам понятно противоположение между музыкой и всеми искусствами, подчеркиваемое Шопенгауэром и Ницше. Нам понятно и все большее перенесение центра искусств от поэзии к музыке. Это перенесение происходит с ростом нашей культуры283.
Подобные суждения, имеющие весьма мало общего с теорией Уистлера, восходят к той эстетической традиции, согласно которой музыка считалась высшим искусством, а ценность поэзии признавалась постольку, поскольку искусство слова манифестировало дух музыки. Потому и в цикле симфоний Белого, как заметил А. В. Лавров, «„симфонизм“ призван был способствовать конкретному обнаружению метафизических начал в фактуре „музыкально“ ориентированного текста: апелляция к музыке – искусству эмоционально отчетливых и ярких, но иррациональных ассоциаций – предстала в художественной системе Белого коррелятом сферы потустороннего, сверхреального, переживаемой, однако, как главный, важнейший компонент видимой, чувствуемой и изображаемой реальности»284.
II. «Письмо, написанное в сердцах наших»: Андрей Белый – Рудольф Штейнер – апостол Павел
В мае 1912‐го Андрей Белый встретился с австрийским философом и мистиком Рудольфом Штейнером и скоро вступил на путь антропософии. В 1913‐м он был принят в эзотерическую школу и покинул Россию, чтобы быть ближе к Учителю; в 1914–1916 годах жил в Дорнахе, где работал на строительстве Гетеанума и занимался мистической практикой, двигаясь по пути самопознания и посвящения.
С тех пор Белый неустанно повторял, что его символистское мировоззрение и религиозно-философские взгляды не только не противоречат антропософии, но и, напротив, находят в антропософии истинное воплощение и продолжение. До конца жизни писатель сохранил любовь к Штейнеру и верность созданному им учению.
Белый был очарован Штейнером уже после первой встречи с ним, состоявшейся – напомним – 7 мая 1912 года в Кельне, куда вместе с Асей Тургеневой285 Белый неожиданно даже для себя бросился из Брюсселя, движимый неясными интуициями и мистическими знамениями286. Приняв московских гостей (беседа велась через М. Я. Сиверс, выполнявшую роль переводчика), Штейнер пригласил их на лекцию «Христос и XX век», определившую последующее вступление Белого на путь антропософии. Само название этой лекции (Белый в ту пору немецкого языка не знал), как кажется, сыграло решающую роль в выборе Штейнера на роль Учителя.
Многие оставшиеся в России друзья Белого восприняли произошедшие с ним перемены, мягко говоря, неоднозначно: «Штейнера все христиане подозревают в люциферизме и предвзятом толковании Христа» (Белый – Метнер. Т. 2. С. 303)287. Поэтому Белый был вынужден подробно объяснять произошедшие с ним перемены. Среди приводимых аргументов главным стал тот, что Штейнер (тогда руководитель немецкой ветви Теософского общества) оказался, по мнению Белого, не обычным теософом, а истинным христианином, а потому принятие антропософии – не измена прежнему духовному пути Белого-символиста, а его логичное и счастливое продолжение.
<…> я был, есмь и буду исповедующим имя Христово и реально чувствующим Его Приближение. <…> И потому я теперь иду к Штейнеру: Христос и Россия! —
писал он Э. К. Метнеру 7 (20) мая 1912 года (Белый – Метнер. Т. 2. С. 302). И несколько позже, 28 августа (10 сентября) 1912-го, с более подробной аргументацией, – М. К. Морозовой:
Милая, если Вы помните меня, если Вы знаете «мое», если верите, что от Христа я не могу отречься, что Он – для меня «Путь и утверждение Истины», то Вы поверите, что розенкрейцерский путь, проповедуемый Штейнером, есть воистину путь чистого христианства. Не верьте заподозриванию Штейнера: все эти подозрения коренятся в том, что
1) Штейнер в печатных книгах своих не упоминает вслух имя Христово (он не говорит вовне, но работает изнутри во Имя: и работа его – 55 чисто христианских лож <…>, в которых все штейнеристы, т. е. христиане с реальным практическим путем, с реальною религиозною миссией).
2) Заподозривания Штейнера коренятся в том, что он теософ. Когда говорят «теософия», разумеют Блавадскую, необуддизм и т. д. Но Штейнер теософ потому, что он толкует теософию не в смысле партийного движения в кавычках, а в прямом смысле – в смысле «Божеств<енной> Мудрости»288.
О впечатлении, произведенном на него первой лекцией Штейнера, Белый неоднократно рассказывал «по горячим следам».
Я должен заявить, что слышал лекцию Штейнера «Христос и XX век». Эта лекция была точно нарочно для меня прочитана: все мои сомнения в его понимании Христа рассеяны этой лекцией. Его понимание не посягает на символ веры, ни на православное раскрытое в разуме учение, а углубляет, говорит о еще не раскрытом в истории <…> (Белый – Метнер. Т. 2. С. 303), —
писал он 7 (20) мая 1912 года Н. П. Киселеву. О том же он рассказывал в мае 1912‐го матери:
В Кельне мы прожили 3 дня, слышали три лекции. Имели получасовой разговор с Доктором. <…> Ты просто не можешь себе представить, что это за человек: его аура (свет вокруг) прямо видна глазами. Он читал лекцию о близости пришествия Христа. Такой громовой, сильной речи я не слышал никогда в жизни. У него словно разрывается лицо, из лица светит лицо и т. д. Мы были совсем потрясены <…>289.
В письме Блоку от 1 (14) мая 1912 года Белый подробнее говорил о затронутых в лекции темах (Белый – Блок. С. 459–460), но завершил повествование опять-таки впечатлением:
К середине лекции голос крепнет, ладонями себя то отрезает от толпы, проводя меж собой и толпой какую-то световую линию, и после каждого проведения линии точно вырастает, то кидается на толпу – ладонями: и опять те же с Асей слышим удары по лицу. Какие-то световые клубы наполняют залу, и вот из световых клубов вижу только сквозное лицо, которое кричит нам вещи громадные – до ужаса. <…> Кончает четырехкратным криком: «Кто понял, что такое надисторический Христос, тот не может не знать, что Иисус истории – подлинный. И Он – близится». На этом кончается лекция «Христос и XX век». Когда он кончил, я невольно вскрикнул от потрясения: «Что ж это?!» (Белый – Блок. С. 460).
Обращался Белый к впечатлениям от этой лекции и после. Так, автобиографический герой «Записок чудака» «в Кельне, на лекции, озаглавленной на афишах: „Христос и наш век“» услышал внутренний «Голос», который его «повернул на себя самого» (ЗЧ. С. 302). А в поздних мемуарах, вспоминая характер воздействия на него Штейнера-лектора и Штейнера-учителя, Белый подчеркивал:
<…> первый миг встречи поднял тот тезис, который остался последним во мне: «Штейнер говорит в сердцах тогда именно, когда все уж слова исчерпались». <…> Теперь, после лет, ряды встреч подытожены лозунгом этим (ВШ. С. 260).
Это впечатление от первой встречи оказалось, как настаивал Белый, самым верным:
Главные моменты воспоминаний – незаписуемы; тут любовь, и знание, что все о нем должно быть сказано, уже отступают: Доктор Штейнер начинал говорить в сердцах тогда именно, когда уже все слова бывали исчерпаны (ВШ. С. 259).
***Вступление Белого на путь антропософского ученичества пришлось на то время, когда новозаветные темы, и прежде всего осмысление роли Христа в истории человечества («Христов импульс»), стали занимать ведущее место в лекциях Штейнера. Его «христологию» с середины 1910‐х можно рассматривать как основу и автобиографических практик Белого, и его творчества, художественного и публицистического.
Наиболее полно «христология» Штейнера представлена у Белого в «Истории становления самосознающей души» (1926–1931), его самом фундаментальном философском и культурологическом сочинении290. В нем Белый исходит из того, что «христианство – момент, изменяющий представления о человеке, Боге, вселенной, духе, плоти истории; целое, сложенное из изменения всех представлений – преломление самой прямой истории в спираль» (ИССД. Т. 1. С. 184)291.
Примечательно, что тема первой прослушанной Белым лекции Штейнера в Кельне в мае 1912-го – «Христос и XX век» – стала в «Истории становления самосознающей души» одной из основных тем. Это, по словам Белого, животрепещущий «вопрос о том, как именно нам открыт гнозис импульса Христа в 20-ом столетии» (ИССД. Т. 1. С. 184). Ответу на него Белый планировал посвятить второй том трактата. Первый же – попыткам показать «опыт развития в себе Христова импульса как опытного факта XX‐го столетия» (ИССД. Т. 1. С. 179) и выявить «музыкальную тональность к теме второго тома в виде гнозиса Штейнера, данного в 20-ом столетии образными намеками, чтобы они явили, так сказать, в христианстве тональность, не отразившуюся почти никак в церковном каноне истории» (ИССД. Т. 1. С. 184).
Объект исследования в первом томе «Истории становления самосознающей души» можно определить как процесс зарождения христианства. Белый подробно анализирует проблески христианских интуиций в античности, разбирает учения гностических сект, затем переходит к Евангелиям, рассматривая их первоначально «как исторические документы» (ИССД. Т. 1. С. 121–124). В посвященной этому вопросу главе приводятся мнения историков церкви по проблемам текстологии и датировки Евангелий: авторство и время создания, источники новозаветных текстов, их первоначальные пласты и позднейшие вставки… Белый кратко пересказывает концепции авторитетных ученых, однако делает это вовсе не для того, чтобы присоединиться к какой-нибудь из точек зрения. Его цель прямо противоположна: заклеймить евангельскую критику как вопиющим образом не адекватную сути предмета. Чтобы писать так, как пишут ученые-буквоеды, надо, по резкому определению Белого, «быть в смысле живого восприятия совершенной дубиной <…> или почтенными гробокопателями без глаз и уха, или остроумниками от рассудочной абстракции, или полуманиаками, как бы убедительно маньячество ни звучало <…>» (ИССД. Т. 1. С. 127):
Растаскиватели Евангелий на составные части <…> не видят того, что видит более развитой, ибо упражнявшийся в зрении, глаз: не видят стиля, который единственен в Евангелиях, на какие бы части мы ни разложили их; не слышат звука, который тоже единственен, которому советует внимать апостол: «Духов различайте»292. Передвигающие время появления христианства на несколько столетий совершенно не имеют дара различать времен, на который тоже ссылается апостол; «имейте ухо, глаз, дух, ритм времени»293 – вот лейтмотив, проходящий сквозь ранние памятники христианства <…> (ИССД. Т. 1. С. 125).
Доводам «растаскивателей Евангелий» Белый противопоставляет не факты и научные доктрины, а аргументы иного свойства. По его мнению, для верного восприятия Евангелий нужна «апелляция к стилю, к глазу, к уху, к духу, к времени, к краскам образов, не встречаемых ни до, ни после (ни в поэзии, ни в „поэмах“ гностиков, ни в системах мысли)» (ИССД. Т. 1. С. 126). Под взглядом «ученых мужей» возникают «Евангелия, умершие в растаске цитат», но под взглядом владеющих «искусством видеть и слышать» – они, «как погибающее горчичное зерно, начинают приносить плод». Ибо, как безапелляционно заявляет Белый, «доказано по пунктам, что их нет на бумаге, они восстанавливаются <…> в нас и становятся „сердечным“ письмом, а не буквенным». Согласно утверждению Белого, Евангелия – это «живая традиция, даже не слова, а жеста, ритма, интонации: из уст в уста, от уха к уху, от блеска глаз к блеску глаз» (ИССД. Т. 1. C. 134):
Но книжники из рассудка, гробокопатели, раздергиватели текстов в своих научных действиях поступают так, как если бы они отрицали наличие живой речи, данной не в грамматике лишь печатной строки, а в тембре голоса (ухе), блеске глаз, в неуловимом, стилевом «как», в жесте «времени» (ИССД. Т. 1. С. 127).
Истинное христианство, по Белому, отнюдь «не то, что гробокопатели считают христианством (догмат, культ, обычай, ритуал и т. д.)», а нечто иное:
<…> христианство в христианстве – то, что проницало образы христианства, данные в Евангелиях; и если Евангелия – не Евангелия, то есть Евангелие Евангелий: «сердечное письмо», о котором говорит Павел; и оно – стиль, дух, ритм, в котором пересекаемы Евангелия, противопоставленные всему прочему (ИССД. Т. 1. С. 128).
Пространные рассуждения Белого подводят к однозначному выводу: Евангелие писалось, как «письмо, написанное в сердцах» (Павел)», а «существующие на бумаге Евангелия являются Евангелиями этого живого Евангелия» (ИССД. Т. 1. С. 128).
Получается, что Белый, с одной стороны, отсылает к известной, даже расхожей цитате из Второго послания апостола Павла к Коринфянам:
Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа <…> (2 Кор. 3:2–4).
С другой же – связывает «„сердечное письмо“, о котором говорит Павел», с неким источником, не только не входящим в новозаветный канон, но и вообще не явленным в материальном мире: это – «Евангелие Евангелий», «внутреннее Евангелие к четырем написанным – Евангелие из глубин пережития себя в событии Сошествия Духа» (ИССД. Т. 1. С. 164).
Таково изумительное, по моему личному мнению, объяснение события сошествия Святого Духа, данное Рудольфом Штейнером, как ключ подхода к взятию тональности темы Евангелий; ключ к ним – один: Евангелие от Святого Духа, как Пятое четырех их; ключ же к пятому Евангелию – опыт жизни во Христе тех, которые [зачеркнуто: опытно] развили в себе эту жизнь, как свидетельство опыта о том, что жизнь «Я» во Христе – внутренняя достоверность <…> (ИССД. Т. 1. С. 178–179).
О «Пятом Евангелии» Штейнер начал говорить в цикле лекций, прочитанных в Христиании (Осло) 1, 2, 3, 5 и 6 октября 1913 года294. Белый подчеркивал, что «оказался в числе очень немногих из присутствовавших при откровении», которые «удостоились видеть доктора в этот момент первого обнаружения венца всех слов его о Христе Иисусе» (ВШ. С. 507). С первой лекции он воспринял выступление Штейнера как особый символический «жест», как «шаг» к «установлению по-новому связи с нами (наш „Новый Завет“ с ним)» (ВШ. С. 515).
В христианийских лекциях утверждалось, что «Пятое Евангелие», или «евангелие антропософии», является столь же древним, что и четыре канонических, но оно не существует в написанном виде, а открывается только взору ясновидящего. Как рассказ визионера и был воспринят Белым весь курс. Штейнер запомнился ему бледным, взволнованным, потрясенным, как «человек, за миг до того имевший Видение» (ВШ. С. 508) и «впервые дающий отчет об увиденном» (ВШ. С. 510): «<…> он расставлял факты курса <…> не так, как он расставлял их обычно, их оформляя, а так, как они видны в астрале: в обратном порядке по отношению к обычному восприятию» (ВШ. С. 510).
Отправной точкой изложения увиденного «в астрале» стал для лектора момент пробуждения апостолов ото сна. Согласно Штейнеру, этот сон длился гораздо дольше, чем сказано в канонических Евангелиях: начался он, когда происходило моление Христа о Чаше, и закончился только в момент сошествия Святого Духа, то есть в день Пятидесятницы. Впрочем, это был не сон в бытовом понимании. Он, как описывал Штейнер, не мешал апостолам «заниматься обычными повседневными делами, уходить и приходить <…>. Так что те, которые жили вместе с ними, казалось, не замечали, в каком состоянии сознания они находились»295.
Но сознание апостолов было смутным, и жили они, как сомнамбулы, не воспринимая адекватно, что происходило перед их взором. Они как бы проспали то, что случилось на Голгофе и после нее: смерть на кресте, положение во гроб, Воскресение, Вознесение и пр. Все эти события виделись им как образы сновидений. «Но пришло мгновение, когда апостолам показалось, что после долгого пребывания как во сне они проснулись от этого сна. Пятидесятница отмечает это пробуждение. <…> Они были разбужены первозданной силой любви, которая наполняет и согревает вселенную, точно эта первозданная сила любви погрузилась в душу каждого из них». И «понемногу, как сны, всплывающие на поверхность нашего сознания, нашей души, воспоминания о прожитых днях поднялись в сознании, в душе апостолов. <…> Они вновь пережили весь этот период день за днем». Но «теперь они нормально осознавали все, что они видели прежде». Вспомнить и осмыслить события, свидетелями которых явились, апостолы смогли только потому, что в день сошествия на них Святого Духа они были «оплодотворены космической любовью», или «импульсом Христа», к ним спустившегося, их сердца пронзившего и осветившего296.
Белый зафиксировал главные моменты этого курса:
Лекция первая: мы – в Импульсе; и поэтому: озирающие историю импульса в обратном порядке: от себя – до апостолов, т. е. видящие <…> вслед за Христом Иисусом и сердца апостолов: сердце – Круглый Стол, за которым все 12 апостолов с Христом меж ними <…>.
Лекция вторая – основа такой возможности: сошествие Св. Духа, источника Импульса; 12 апостолов в Святом Духе и 13‐й Павел в Дамаске (а ведь каждый из нас теперь «Савл», могущий стать Павлом); связь «12» с «13‐м» – связь «12» в Импульсе с каждым из нас. <…> Вот – источник 4‐х Евангелий: земные воспоминания сквозь призму проспанного, открытого потом, – в регионах, где и 13‐й, разбойник-гонитель, из Дамаска, уже видит тот же свет события; в наши дни потенциально дан в каждом «воспоминатель», участник Голгофы, разбойник-гонитель; это ему сказано: «Нынче будешь со Мною!»
И уже отсюда (лекция 3-я) из точки «воспоминания» взгляд впервые на суть Голгофы, – не гнозис, а зрение мига осознания Импульса. <…>
Биография Иисуса – последние лекции, проведенные в тонусе: «В себе расслушайте!» <…> К началу, лежащему до крещения, до истории, христианства, ведет конец курса; но «конец» – мы и XX век <…>.
Мы, показанные в неизбежном Пришествии, – вот удар курса! (ВШ. С. 511)
Самым важным для понимания евангельской «текстологии» стал для Белого тезис о том, что «„Пятое Евангелие“ – реальность свидетельств апостолов, взятая не в миге написания, а в миге сознания, охваченного сошествием Св. Духа» (ВШ. С. 510). В «Истории становления самосознающей души» специально оговаривается, что «этот факт подчеркнул Рудольф Штейнер <…>: противоречия Евангелий надо брать из внутреннего реализма восприятий в Святом Духе – не из учета свидетельских [зачеркнуто: внешних] показаний» (ИССД. Т. 1. С. 164). Оговаривается и то, что этот клубок «не расплести без глубочайшего духовного опыта; в критерии понимания остается свидетельством не свидетельское показание в обычном смысле, а – опыт гнозиса, которому учил Павел; Евангелия вскрываемы в нем, а не только в Евангелиях четырех Евангелистов, рассудочно прочтенных» (ИССД. Т. 1. С. 164).
Павла, «апостола самосознания»297 и идеолога «сердечного письма», Белый противопоставляет апостолу Петру, символизирующему прошлое (традиционную церковь), и апостолу Иоанну, символизирующему будущее. Свидетельства Павла о Христе оказываются наиболее важны и актуальны для современности («Павел учит подходу к Евангелиям» (ИССД. Т. 1. С. 163), так как Павел, в отличие от других апостолов и так же, как человек XX века, «личности Иисуса не знал», но знал «облиставший его свет Христа; он потом открыл Христа и внутри своего „Я“; и узнал Его как уже ведущего человечество <…>» (ИССД. Т. 1. С. 163).
Об этом Белый пишет в «Кризисе сознания»298: «Павел не видел Христа, но он знал: Христос – был; он увидел пришествие в сердце своем; и он знал: человечество стало свободно <…>»299 И более развернуто – в «Истории становления самосознающей души»:
Подчеркнем: о Христе мы знаем более всего из опыта Павла; опыт был опыт внутренний: к Павлу Христос приходил из глубины его сердца, раскрытого ключом [зачеркнуто: в него сошедшего] Разума; Павел более всего понимал, что Христос Иисус – свет миру, хлеб жизни, ключ, отпирающий сердечную дверь, самая дверь, выход из нее или путь, воскресение жизни, истина и лоза300; от умного света, брызнувшего в его открытое, как дверь, сердце, шел он к уразумению и личности Иисуса <…> (ИССД. Т. 1. С. 177).
Фактор «сердца» при описании миссии апостола Павла подчеркивается Белым постоянно, с неизменными отсылками к его Посланиям: «У Павла расширено солнечно сердце: „сердце наше расширено“ (2 Кор. 6:11)»301. Или: «Церковь Павла есть связь через сердце; иль – сердечная переписка: „Вы – наше письмо, написанное в сердцах“ <…>»302
Известная цитата в трактовке Белого приобретает совершенно неожиданное значение303. Так как «другие Апостолы избраны в мир человеческим образом: чрез Иисуса пошли они в церковь, а Павел – чрез Духа», то Павел – «избранный» в особом смысле304. Штейнер неоднократно подчеркивал, что прошедший «иудейскую пророческую школу своего времени»305 апостол Павел получил «посвящение, дарованное как благодать», так как Христос «пришел к нему не в правильном обучении в древних мистериях, но по благодати на пути в Дамаск, когда ему явился Воскресший Христос <…>. Он узнал Воскресшего Христа. И с тех пор он возвещает о Нем»306.
Белый идет еще дальше, утверждая, что «сердечное» прочтение Евангелия апостолом Павлом объясняется тем, что он – «эзотерик» и по сути – «антропософ»:
Павел здесь – эзотерик; <…> ключ к Мудрости «мудростей» мира сего, с антропизма (язычества) и софизма (закона иудейского) Павлом подобран; он – подлинный антропософ <…>307.
В этой связи именно как опыт эзотерический надо понимать приведенные ранее слова из «Истории становления самосознающей души» о том, что «опыт Павла <…> был опыт внутренний» и что Евангелия не «вскрываемы» «без глубочайшего духовного опыта <…>, которому учил Павел». Как призыв к антропософской оккультной работе над органами человеческого тела, и прежде всего над сердцем, трактует Белый и слова Павла из Послания к Римлянам (Рим. 12:2):
<…> апостол советует: «Преобразуйтеся обновленьем ума». Обновленье ума есть путь медитации, йога познания; мысль, укрепляясь, вводится в тело сквозь сердце <…>308.
Эзотерический и антропософский смысл обретает и семантика «сердца» в излюбленной цитате Белого из Второго послания к Коринфянам:

