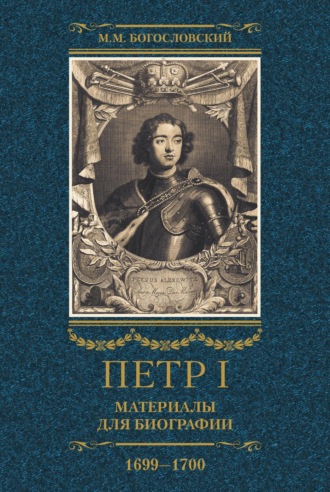
Полная версия
Петр I. Материалы для биографии. Том 3. 1699–1700.
Л.К. Нарышкину Петр писал 5 июля из Азова и 26-го из Таганрога. В ответах на эти письма от 20 июля и от 17 августа Нарышкин уведомляет царя о здоровье членов его семьи: царевны Натальи Алексеевны и царевича. Во втором письме он оправдывается против упреков Петра в том, что не предупредил шведских послов, приехавших в Россию, о продолжительном отсутствии его из Москвы. Как припомним, перед своим отъездом в Воронеж Петр приказал уведомить назначенных в Московское государство шведских послов через шведского резидента Томаса Книппера, чтобы они приезжали в Москву до Масленицы, так как на Масленице он уедет в Воронеж[141]. Шведское посольство тогда не явилось, а теперь, в двадцатых числах июля, приближалось уже к Москве. Петр упрекает Нарышкина в том, что посольству не было сообщено через Книппера об его отсутствии. «А что, мой асударь, – оправдывается Нарышкин, – изволил писать о свейских послех, что им не говорено, о чем Томосу Книперу указ твой был, и у меня то не забыто и все то им предлагал; в то же время при послех и Томос Книпер был, о чем изволишь по записи уведомитца». Нарышкин принял подъезжавшее к Москве шведское посольство в своей подмосковной усадьбе Чашниково и во время разговора с послами действительно выговаривал присутствовавшему при приеме резиденту Книпперу за непередачу сообщения. О разговоре с послами в Чашникове была составлена особая записка, которую он и переслал Петру[142].
Петр переписывался также с оставшимся в Москве генералом Гордоном. В письме от 28 июня Гордон сообщает царю о приезде в Москву на русскую службу из Польши одного своего родственника в чине корнета; едут из Киева еще два других родственника его, оба в чине капитанов, кажется, искусные люди; если царь согласен принять их на службу, пусть напишет. Гордон сообщает далее царю, надо полагать, очень печальное для последнего известие: 20 июня пропал без вести находившийся в Москве капитан Рипли, командир подаренной Петру английским королем яхты «The Transport Royal», которую он привел в Архангельск. «А чают, – пишет Гордон, – что сам себя изгубил, потому что долгое время вельми был меланколичны и смерть себе часто желал. А тело его ищут везде, только то се число нигде не найдут»[143].
В следующем письме от 6 июля Гордон уведомляет Петра, что 1 июля нашли тело Рипли в реке Яузе, пониже Лебяжьего двора в Преображенском. «А по осмотру голова избита назади, на правой руки знаки синие, пуговицы серебряные с кафтана обрезаны и карманы выворочены; однако неведомо, от себя пропал или от людей». В этом же письме Гордон сообщает Петру известие о следующем чрезвычайном происшествии: 29 июня во время «вечерен» дворовые люди князя Никиты Ивановича Репнина, а с ними и другие напали у Воскресенских ворот на караульных солдат и избили их, били также и находившегося с ними офицера и надругались над ним. Некоторые из виновных переловлены и приведены на Потешный двор; дьяк Преображенского приказа Яков Никонов ведет по этому делу розыск и по окончании пришлет его в Азов к князю Ф.Ю. Ромодановскому[144]. Это, вероятно, тот эпизод, о котором повествует Корб в своем дневнике под 30 июня (10 июля): «Князь Репнин… у которого под влиянием какого-то сильного душевного потрясения помутился рассудок, дерзко напал со своими слугами на городской караул. Когда князь намеревался схватить знамя, то знаменосец поступил очень похвально, именно – он ударил Репнина древком; очень много других лиц во взаимной борьбе получили раны»[145].
Петр писал Гордону из Таганрога 18 июля, уведомляя его о выходе кораблей в море. «Mijn Heer groote Commandeur, – отвечает ему Гордон от 27 июля, – письма от милости твоей июля в 18 день с Таганрогу с великою радостию я принел, а что караблей вышли и дела ваше морское в путь идет велми утешаюся. Подай Господь Бог, чтобы все твое намерение и дела к доброму завещанию пришли бы». Гордон передает царю затем благодарность от некоего морского поручика за принятие на службу и за повышение в чине – и, может быть, это был тот родственник его корнет, о котором он писал в предыдущем письме. Следуют сообщения последних московских новостей: вчерашний день состоялся въезд в Москву шведских послов, а затем произошел большой пожар: «В десятом часу в Белом городе… выгорел Пушечной двор и от Неглинны до Поганова пруда, от Миколы Столба вниз до Китаю; а Китай чуть не весь выгорел»[146]. Письмо заканчивается фразой на немецко-голландском языке: «Ick recomendire V. M. in die Shьtz des Almachtiges en verblyve V. M. ootmoedigste Dienaer P. Gordon. Slaboda, 27 Julij 1699». Голландское обращение и заключительная немецко-голландская фраза написаны Гордоном собственноручно; русский текст письма продиктован и сохраняет особенности русского произношения генерала[147].
Одновременно с письмом к Гордону 18 же июля Петр писал из Таганрога англичанину Андрею Стельсу в Архангельск, поручая ему выписать из Англии несколько корабельных мастеров, а именно: двух маштмакеров, двух блокмакеров, трех или четырех плотников – подмастерьев, с тем чтобы один из этих англичан умел говорить по-голландски. Стельс в ответе от 19 августа уведомляет, что тотчас написал об этом брату в Англию, но выражает опасение, что мастера уже не успеют приехать в Ругодив (Нарву) до весны, так как последние корабли из Лондона приходят в сентябре. Если бы приказание отдано было раньше, они, конечно, приехали бы на осенних кораблях. «Здесь (т. е. в Архангельске), – пишет он в заключение, – уже 10 карабли аглински были, из той число 3 пошли опять назад, да еще ожидаем 4 или 5 караблей»[148].
Итак, только что приведенные остатки переписки Петра за летние месяцы 1699 г. касались довольно разнообразных предметов. Здесь были очередные вопросы международных отношений и внешней политики: особенно интересовавшее Петра дело об испанском наследстве, прибытие шведских послов в Москву, вопрос об отдаче турками Каменца полякам во исполнение Карловицкого договора. Далее следуют вопросы законодательства, которое вообще начинает усиленно занимать Петра с 1699 г.: продолжая давать указы по проведению городской реформы, он занят составлением воинского устава в сотрудничестве с Вейде и с Брюсом и в то же время замышляет реформу наследственного права. Открытие железных заводов и снабжение их мастерами, оружейные мастера, пушки нового калибра, выписка из-за границы новых корабельных мастеров, заготовление леса в Архангельске, хранение гагаринского имущества, обмундирование поступивших на службу недорослей, прием на службу выезжих иноземцев, печатание русских книг в Амстердаме и присылка их в Архангельск, разного рода происшествия в Москве – таково содержание этой уцелевшей частной переписки. Но не следует забывать, что идет еще официальная переписка с приказами по их ведомствам, и многое из этой переписки докладывается царю и решается его именным указом и по вопросам внешней политики, и по делам внутреннего управления.
Несомненно, что Петр следил и за деятельностью цесарского посольства в течение последних недель его пребывания в Москве. Так же как бранденбургский посланник фон Принцен и датский Гейнс, приглашался приехать в Воронеж и Гвариент, и Петр там ждал его, но посол не прибыл. Произошло недоразумение. Когда боярин Л.К. Нарышкин вернулся в Москву из Воронежа 12 мая[149], он с удивлением спрашивал Гвариента: «Почему господин посол не пожелал приехать в Воронеж?.. Царь ждал его приезда шесть дней». То же подтвердил и датский посол. Но оказалось, что приглашение не дошло до Гвариента. Оно было направлено через Украинцева, который должен был передать его послу; но письмо с приглашением не застало Украинцева в Москве: он уже уехал в Воронеж, куда отправлено было вслед за ним и письмо[150]. Заканчивая свою миссию в Москве, цесарское посольство должно было исполнить две формальности: во-первых, передать торжественное извещение о бракосочетании венгерского короля эрцгерцога Иосифа; во-вторых, быть принято в прощальной аудиенции. Эти церемонии за отсутствием царя совершены были при участии Л.К. Нарышкина. После предварительных переговоров 22 июня состоялась первая церемония. «Его царское величество отсутствовал, – описывает этот прием своим приподнятым, высокопарным слогом Корб, – более близкая его сердцу забота, желание славы, удовольствие получить новые корабли вызвали в нем похвальное стремление удалиться почти за триста миль к Меотидскому болоту недалеко от теснин Босфора Киммерийского; все же поручение требовало торжественности, которую устроил с благопристойным усердием первый министр Лев Кириллович Нарышкин. Для господина посла приведена была царская шести-упряжная колымага и лошади с царской конюшни, блещущие обычными украшениями. Господин посол остановился на дворе того дома, где боярин решил принять от имени царя известительную цесарскую грамоту; его приняли два дьяка и провели далее через много передних комнат; в преддверии последнего покоя, назначенного для настоящей торжественной обязанности, дожидался боярин. Для вящего торжества церемонии в этой же самой комнате стояли чиновники господина посла и многочисленная толпа царских писарей. Но когда боярин попросил господина посла сесть и началось совещание, то все получили приказание выйти, кроме Посникова, секретаря и переводчика»[151]. Чтобы как-либо возместить отсутствие царя на церемониях, послу было прислано письмо из Азова от боярина Ф.А. Головина, написанное по приказанию Петра. В письме Головин сообщал, что царь «указал пребывающим в Москве своим министрам, чтобы они во всем удовлетворили господина посла и постарались отпустить его с таким почетом, который не выпадал доселе ни одному министру, имевшему такое же достоинство»[152]. Отпускная аудиенция состоялась 3 июля в Кремлевском дворце[153]. Приезд посольства происходил по обычному ритуалу.
Не без ведома Петра были, конечно, составлены врученные на прощальной аудиенции Гвариенту две грамоты к цесарю, датированные 25 июня: одна с поздравлением и пожеланиями по случаю бракосочетания эрцгерцога Иосифа, другая – обычная отпускная[154]. Посольство выехало из Москвы 13 июля таким же торжественным поездом, каким и въезжало в столицу. Это было новшество, получившее начало с выезда фон Принцена; обыкновенно отъезд посольств происходил гораздо менее торжественно, чем въезд. Посол протестовал против такого небывалого почета, чтобы не создавать прецедента для соответствующих требований будущих русских посольств в Вене; в ответ ему было заявлено, что эти почетные проводы устраиваются по личному специальному приказанию царя. Очевидно, это была также компенсация за отсутствие царя на прощальной аудиенции. Парадный характер выезд посольства имел до конца Дорогомиловской ямской слободы; здесь простился с посольством сопровождавший его пристав, и посольство направилось в село Фили, имение Л.К. Нарышкина, куда было приглашено на обед. «Знаменитое поместье первого министра и боярина господина Льва Кирилловича Нарышкина, – пишет Корб, – по имени Фили, отстоит только на семь верст от Москвы. Боярин уже несколько дней тому назад пригласил господина посла на обед, который приготовлен был там же с большой роскошью… Г. послу надлежало свернуть с столбовой дороги со всею своею свитою в сопровождении представителей иностранных государей и очень многих офицеров царской службы. При въезде в имение, где было очень много гостей из немцев (иностранцев), нам выказали столько учтивости, что каждый хотел присвоить себе на этом поприще пальму первенства. Повсюду видели мы изъявление дружеских чувств, очень многие соперничали между собою, желая возможно правдивее доказать нам бескорыстие своей привязанности. Наконец, всеобщее внимание привлечено было столами, уставленными богатыми яствами. Кроме первого министра и его родственника, а также обычного нашего переводчика г. Шверенберга (Тяжкогорского), не было ни одного русского гостя, но место их в обилии заступали немцы (иностранцы)[155]. После господина цесарского посла сидели в таком порядке: датский посол, генерал де Гордон, бранденбургский резидент, Адам Вейд, цесарский пушечного дела полковник де Граге, полковник Яков Гордон, полковник Ачентон, цесарский миссионер Иоанн Берула, царский врач Карбонари, купец-католик Гваскони, купцы-некатолики: Вольф, Бранд и Липс; вперемежку с ними сидели тут же восемь чиновников цесарского посла. Обед устроен был почти с царственною роскошью; приготовлен он был не на русский лад, а хорошо приспособлен к немецкому вкусу. Кушанья были в редком изобилии; золотая и серебряная посуда отличалась высокой ценностью; на столе стояли разнообразные наилучшие напитки – все это свидетельствовало о кровном родстве хозяина с царем. По окончании обеда стали состязаться в стрельбе из лука; никто не мог отговориться от этого ссылкой на иностранный обычай или на неопытность в непривычном деле. Лист бумаги, воткнутый в землю, служил мишенью; первый министр неоднократно пробивал его посредине при всеобщих рукоплесканиях. Проливной дождь помешал нам в этом приятнейшем занятии, и мы снова удалились в боярские покои. Нарышкин взял за руку цесарского посла и отвел его в спальню своей жены, чтобы исполнить там обряд их взаимных приветствий. У русских нет иного способа, чтобы выразить свое особенное уважение: наивысшего почета удостоивается тот, кого муж с отменной вежливостью приглашает поцеловать его жену и выпить из ее рук глоток водки». В доме Л.К. Нарышкина иностранные обычаи, как видим, уживались с русскими: гости за столом – исключительно иностранцы и в то же время стрельба из лука и поцелуйный обряд в покоях жены. Нарышкин подарил послу дорогую соболью шубу. Корб замечает по этому поводу, что подарок был небескорыстен, что, делая его, Нарышкин мечтал получить в ответ от цесаря карету, подобно тому как такая карета была подарена князю В.В. Голицыну четырнадцать лет назад. Однако происшедший вслед за тем эпизод омрачил его отношения с Гвариентом. Из Филей Нарышкин пожелал повезти гостей «в другое свое имение, удаленное на две версты от настоящего, и с этой целью пригласил его в свою карету, а генерал Гордон уже ранее занял там первое место. Однако Нарышкин заслуживает скорее сожаления за свою простоватость, чем порицания за хитрость. Поэтому он совершенно растерялся при следующем замечании цесарского посла: «Вы ставите цесарского посла ниже генерала Гордона». В то время как Нарышкин старался каким-нибудь способом выйти из затруднения, цесарский посол сел в свой собственный экипаж и поехал в нем с прочими в имение. Нарышкин принял там гостей с отменной вежливостью, показывал им удобное место для охоты по склону ближнего холма, заросшего мелким кустарником и заканчивающегося долиной, и старался примирить с собой оскорбленного посла, подарив ему двух охотничьих собак, которых выдавал за самых лучших. Пробыв недолго в этом поместье, мы поблагодарили боярина и простились не только с ним, но и со всеми присутствовавшими там гостями… Полковник Гордон усиленно старался оправдать отца за оскорбление, полученное из-за него боярином»[156]. И эти приемы у Нарышкина делались, может быть, также по приказанию Петра; во всяком случае, он был о них своевременно осведомлен.
В июле была отправлена грамота к английскому королю с уведомлением о назначении посольства Украинцева в Константинополь и с просьбой, чтобы английский посол в Константинополе посодействовал его успеху[157]. 30 июля датирована грамота к польскому королю об отозвании находившегося в Варшаве русского резидента Алексея Никитина и о назначении на его место нового резидента стольника Любима Судейкина[158]. И эти документы, конечно, не миновали взоров Петра.
По докладам из приказов Петр давал именные указы, касавшиеся назначений различных лиц на должности[159], причем из сферы этой его деятельности не выходит и церковное управление. Наиболее крупным происшествием тогда в церковной сфере была перемена на крутицкой кафедре. Митрополит Крутицкий Тихон был назначен митрополитом Казанским и Свияжским; на его место Петр приказал перевести нижегородского митрополита Трифилия. Патриарх Адриан был против такого перевода. Не решаясь писать о том царю прямо и непосредственно, он обратился к нему через находившегося при нем в Азове боярина Т.Н. Стрешнева. «Сие дело, – писал он последнему 13 июля, – зело неприлично». Во-первых, священные правила запрещают переводить епископа с одной кафедры на другую без какой-либо его церковной или гражданской вины. Затем, Трифилий – человек старый и болезненный, а крутицкая кафедра требует непрестанного труда. К тому же еще «в Нижнем-граде многие от приказного сына его митрополичья (яко слышахом) сотворишася оскорбления людем» и в доме архиерейском большие непорядки и недочеты. Обо всем этом патриарх просит Т.Н. Стрешнева доложить государю и напомнить ему при этом, что сам он говорил, будучи у него, патриарха, в келье, чтобы на крутицкую кафедру «избран был, кто потребен», т. е. чтобы был найден подходящий человек и чтобы он, государь, «изволил сие превождение отставить», т. е. отменить распоряжение о переводе. О том же просят государя вместе с ним, патриархом, и все находящиеся в Москве архиереи. К письму приложена была особая записка, где против кандидатуры Три-филия выдвигается еще одно соображение, которое должно было, по мнению патриарха, особенно подействовать на Петра; здесь же указывается другой, более подходящий кандидат. В Москву нужен, говорится в записке, такой архиерей, которому можно было бы поручить управление книжным печатным двором (типографией) и надзор над академией, «где учатся дети и возрастные отроки славенского нашего греческого и латинского языка и грамматического знания» на пользу церкви и государству: «ради всяких к потребе гражданских благоразумных соделований: и переводчиков, и лекарских искусств, даст Господь, будут навыкати». Требовался, следовательно, человек образованный, склонный к книгам. Подходящим кандидатом был бы архиепископ Холмогорский Афанасий – «и ради немощей моих прежде бысть намерение о колмогорском владыке, дабы и в вышеписанных делах способствовал». Записка заканчивается повторением просьбы: «Пожалуй, Господа ради, сотвори любовь и, будет возможно, доложи или, зачем будет невозможно, отпиши, чтобы было лучшее и угоднее всем». Неизвестно, докладывал ли Стрешнев письмо патриарха Петру. Во всяком случае, уже 20 июля вопреки желанию патриарха состоялся в Успенском соборе перед литургией обряд перевода Трифилия на крутицкую митрополию[160].
Среди занимавших его крупных и мелких государственных дел Петр помнил и о своих друзьях, живших за границей «для науки», и находил время следить за их успехами и вести с ними корреспонденцию в дружеском шутливом тоне. Выше упоминалось, что 13 июня он писал из Азова в Берлин волонтеру своего десятка Анике Щербакову. Щербаков в Амстердаме учился голландскому языку, а теперь, находясь в Берлине вместе с другим волонтером того же десятка С.Г. Нарышкиным и с преображенским солдатом Д.Д. Новицким, учился немецкому языку, математике и артиллерии. В письме, как можно догадываться из ответа Щербакова, царь говорил о каком-то челобитье, с которым Щербаков к нему обращался, об умножении «наших компаний», т. е. числа молодых людей, подготовленных к морскому делу или уже занятых им, которых Щербаков уже предполагает триста, а к своему возвращению рассчитывает найти четыреста, далее «о кораблях и галерах» – сообщение, вызвавшее радость у обучавшихся в Берлине, которые по этому случаю «все вместе сошлись и поздравляли о том, чтоб все нашему всемилостивейшему государю по желанию исполнилось, как сам в мысли своей имеешь». Наконец, из ответа Щербакова видно, что Петр написал особую «грамотку», в которой потешался над находившимся также в Берлине одним из учеников, «самом чуднейшем и чрез меру редко бываемом человеке, – как его аттестует Щербаков, – господине Даниле Дмитриевиче Новицком». В ответе Щербаков также подсмеивается над Новицким, говорит, что он от своей науки «зело возвысился» и что еще в свете не было такого ученого и разумного. Новицкий хвалится, что выучил все, что было повелено ему государем: геометрию и математику, а между тем еще «ни одной цыфири (т. е. цифры) не знает». Он говорит, что день и ночь работает над чертежами пушек и мортир и собирается начать учиться пушки лить, но «мне мнится», замечает по этому поводу Щербаков, что столько же выучится, сколько и математике. Петр писал также, что Новицкому ехать до границы на своих харчах, но того он не желает, хотя и может, потому что курфюрст выдает ему 15 ефимков в месяц. Вообще он едва ли возвратится, потому что занят в Берлине своей женитьбой, связанной с каким-то судебным процессом. Петр в грамотке подымал вопрос и об этой женитьбе, служившей также предметом острот и шуток. «Что же о женитьбе его приналежит, – отвечает Щербаков, – он такую женитьбу выбрал, что насилу кто из нас такую возможет ли получить». Как это дело кончится, еще неизвестно, «потому что еще в тяжбе пребывает, его свадебная одежда зело изодралась, насилу не в одной рубахе ходит». Что Новицкий пишет, «что он не хочет на свете жить, тому я верю подлинно, потому что он жития уже насытился и ожидает по вся часы с неба святых ангелов, которые б его живого в небо отвели, как Илию пророка». Насмешками над Новицким полно также письмо из Берлина к Петру от другого волонтера, С.Г. Нарышкина. «О Даниле Дмитриевиче Новицком, – пишет Нарышкин, – возвещаю моему всемилостивейшему государю, что его все поведение здесь зело худо есть»; он выдает себя в Берлине за знатнейшего комнатного дворянина у царя, хвалится множеством деревень и подданных и, распустив о себе такие слухи, «тем девицу здесь в городе к супружественному сговору привел, а нас всех за робят ставил и не почитал ни во что». Относительно учения кронпринц и граф фон Денов ему несколько раз напоминали, чтоб он был прилежнее, но это не помогает; он очень высокого мнения о своих успехах и познаниях, «чает бутто он уже совершен в своих делех, думает уже профессором стать во академии в Франкфурте». В Москву не хочет ехать, думает здесь, в Берлине, получить какую-либо службу; больше полугода ведет тяжбу о свадьбе, но еще не покончил, и неизвестно, когда это кончится. Письма Щербакова и Нарышкина написаны были на немецком языке, как лучшее свидетельство об их научных успехах[161].
Наконец, в переписке не забыта была и сердечная привязанность – Анна Ивановна Монс. Сохранились за это время два ее письма – от 28 мая и от 25 июля, оба в ответ на не дошедшие до нас письма Петра. В первом вслед за многословными изъявлениями благодарности за то, что пожаловал, дал ведать о своем многолетнем здоровье и т. д., и пожеланиями здоровья, счастливого пребывания и скорого возвращения Анна Ивановна отвечает на просьбу Петра о присылке какой-то цедрооли: «А что изволили писать об цедрооли, и я ожидаю всякой час, и как скоро привезут, и я, не замешкав, пошлу, и если бы у меня убогой крылие былы, и я бы тебе, милостивому государю, сама принесла». Склонность к ней Петра Анна Ивановна не прочь была использовать для устройства дел, о которых ее просили, зная ее близость к царю. Так, в приводимом письме она хлопочет перед царем за вдову Петра Салтыкова в ее тяжбе с неким Лобановым и просит царя указать перенести ее дело из Семеновского приказа в какой-нибудь другой; если же это царю неугодно, то, по крайней мере, не велеть брать людей Салтыковой на правеж до его возвращения в Москву. «Мне, государь, – заканчивает письмо Анна Ивановна, – от ней упокою нет, непрестанно присылает с великими слезами. Пожалуй, государь, не прогневися, что я об делах докучаю милости твоей. За сим здравствуй, милостивой государь, на множество лет. Sein getreue Dinnerin bet in mein Dot. A. M. M. Den 28 Маi». Видимо, царю не очень понравилось вмешательство Анны Монс в дело Салтыковой с Лобановым, и, должно быть, он это ей дал понять. По крайней мере, в следующем письме от 25 июля она пишет: «Прошу у тебя, милостивова государя, пожалуй, прасти [в] вине моей меня, убогую рабу свою, что я к милости твоей писала об деле Солтиковой вдовы; я о том опосна, чтобы фпредь какова гневу не было от тебя, милостивова государя, что я так дерзновенно зделала. Sein getreue Dinnerin bis in mein Tod. A. M. M. Dem 25 Julii»[162].
XIII. Плавание к Керчи
В воскресенье 30 июля в девятом часу утра был созван военный совет на корабле адмирала; было указано, чтобы все окончательно было приготовлено к плаванию, на что собравшиеся, к великому удовольствию царя, как замечает Крюйс, отвечали, что «все готово и корабли совсем вооружены». Царь при этом приказал всем офицерам быть готовыми к производству при первом же благоприятном ветре примерного морского сражения – «с эскадрою обучительную баталию держать». Он дал было уже и сигнал к началу такого маневра, чтобы якоря вынимали и шли на глубокую воду. Однако ветер к полудню спал, и маневр пришлось отложить[163].
Эскадра, назначенная к плаванию в Керчь, составилась из 10 больших кораблей; именно в нее вошли корабли: «Скорпион» – 62 пушки, на нем адмирал Ф.А. Головин, «Благое начало» – вице-адмирал Крюйс, «Цвет войны» – шоутбейнахт фон Рез, «Отворенные врата» – капитан Петр Михайлов, далее «Апостол Петр», «Сила», «Безбоязнь», «Соединение», «Меркурий», «Крепость» – на них капитанами были иностранные офицеры. На корабле «Крепость» находилось посольство, перебравшееся на него со своих будар еще 22 июля. Сверх этих больших судов в состав эскадры входили: 2 галеры – «Периная тягота» и «Заячий бег», кипарисная яхта царя, 2 галиота, 3 бригантины и 4 казачьих струга, на которых находилось 500 выборных казаков с атаманом Фролом Минаевым[164]. Чтобы получить представление о составе экипажа на кораблях, приведем для примера состав экипажа 46-пушечного корабля «Крепость», точно перечисленный в «Статейном списке» посольства. Кроме посольства на нем находились: а) иностранцы: капитан голландец Петр фон Памбург, лейтенант Лукас Гендриксон, 2 штурмана, 1 подштурман, 1 боцман, 2 боцмансамт, 1 кон-стапель, 1 лекарь, 1 толмач, 16 матросов; б) русские служилые люди Преображенского и Семеновского полков: 2 сержанта, 1 каптенармус, 5 матросов из тех же преображенцев и семеновцев, исполнявших со времени Азовских походов также и матросскую службу, 1 ротный писарь, 4 капрала, 2 барабанщика, 96 рядовых солдат. Всего иностранцев и русских в составе экипажа было, следовательно, 138 человек[165]. На всех судах эскадры насчитывалось 2000 солдат Преображенского и Семеновского полков «во всякой воинской готовности»[166].









