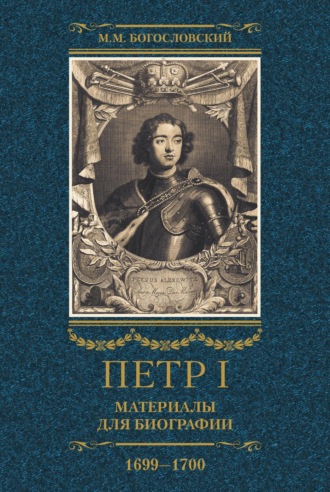
Полная версия
Петр I. Материалы для биографии. Том 3. 1699–1700.

Михаил Михайлович Богословский
Петр I. Материалы для биографии
Том 3
Русско-датский союз. Керченский поход. Дипломатическая подготовка Северной войны. Реформы и преобразовательные планы 1699–1700 гг. Начало войны Дании и Польши со Швецией и приготовления Петра к Северной войне. Посольство Е.И. Украинцева в Константинополь
1699–1700

© Художественное оформление, макет, «Центрполиграф», 2022
Русско-датский союз

Петр I
Гравюра Е. Чемесова. 1759
По оригиналу Ж.-М. Натье. 1717
I. Смерть и похороны Лефорта. Учреждение ордена Андрея Первозванного
Петр ехал в Воронеж с необыкновенной быстротой, так что, отправившись из Москвы 19 февраля 1699 г. вечером, был уже 22-го на месте[1]. С дороги, несмотря на такую быстроту, он все же успел написать в Москву, по крайней мере Н.М. Зотову, как это видно из его сохранившегося ответа. «Нашего смирения сослужителю, геру протодиакону Р.А., – писал Петру в своем ответе 23 февраля шутовской патриарх Н.М. Зотов, – со всею компаниею о Господе здравствовати. Благодарствую вашей любви за возвещение путешествия вашего при добром здравии (о чем уведомлен от азовского владыки) и впредь о сем нам ведомо чините». Далее идет ряд каких-то намеков по поводу Масленицы, для нас теперь малопонятных, так как письмо Петра к Зотову, подавшее повод к этим намекам, не сохранилось: «Зело удивляемся вашей дерзости, что изгнанную нашу рабыню, то есть Масленицу, за товарыща приняли, не взяв у нас о том свободы; только ведайте: есть при ней иные товарыщи: Ивашка и Еремка, и вы от них спаситесь, чтоб они вас от дела не отволокли, а мы их дружбу знаем болши вашего. Сего числа поехали к вам иподдиакони наши Готовцов и Бехтеев, с которыми наказано от нас подати вам словесно мир и благословение, а Масленицу и товарыщев ее отлучити, понеже при трудех такие товарыщи не потребны. А к сим посланным нашим иподдиаконом будите благоприятны. При сем мир Божий да будет с вами, а нашего смирения благословение с вами есть и будет. Smirennii Anikit власною рукою. Февраля в 23 день 207-го, с Москвы»[2]. Общий смысл письма, впрочем, ясен. Зотов предостерегает Петра от спутников или товарищей Масленицы Ивашки Хмельницкого и Еремки (?), т. е. от пьянства с его последствиями, которое может отвлечь его от работ, предстоящих в Воронеже.
Наступившая первая неделя поста поразила Корба своим контрастом с неделею Масленицы, которую она сменила. Вид Москвы сделался совершенно иным. «Насколько прошлая неделя, – пишет он в дневнике, – была шумной и разгульной, настолько эта тиха и скромна… Лавки не открывались, торги на рынках были закрыты, присутственные места прекратили свои занятия, судьи не исполняли своих обязанностей; нельзя было вкушать ни льняного масла, ни рыбы; пост был в высшей степени строгим; они умерщвляли плоть только хлебом и земными плодами. Во всяком случае, подобная метаморфоза явилась неожиданной и почти невероятной». Однако начало православного поста не помешало Лефорту 22 февраля в среду на первой неделе устроить у себя угощение датскому и бранденбургскому послам, отправлявшимся с этого угощения прямо в Воронеж к Петру. Погода была так хороша, вечер такой теплый, что пиршество происходило под открытым небом. «Послы датский и бранденбургский, – пишет Корб, – много пили с генералом Лефортом под открытым небом, пользуясь приятным вечером, и прямо из его дома отправились в Воронеж»[3]. Это приятное времяпрепровождение под открытым небом в конце февраля не прошло для Лефорта даром; он сильно простудился, и на другой же день у него началась лихорадка. «У генерала Лефорта, – отмечает Корб под 23 февраля, – появились внезапно лихорадочная дрожь и жар». Здоровье его было вообще плохо за последнее время. Еще в начале февраля его племянник Петр Лефорт извещал женевских родных о плохом состоянии здоровья дяди, которого беспокоили старые раны[4]. На 24 февраля у него был назначен обед для полковников; но принимать гостей сам Лефорт уже не мог, и эту обязанность выполнял за него племянник[5].
26 февраля в воскресенье Петру отправлена была почта в Воронеж. До нас дошло довольно большое письмо к царю Ф.А. Головина. Отвечая Петру на его письмо, написанное только что по приезде в Воронеж, Головин выражает удивление скорости путешествия и быстроте дошедшей от царя в Москву почты; затем сообщает о полученных в этот же день утром письмах от Возницына с известиями о заключении им трактата с турками 14 января, о заключении договоров у турок с цесарцами и поляками 16-го и о том, что венецианский посол пока еще не заключил договора. «Я, государь, – пишет по этому поводу Головин, – видя… превеликое бездушество цесарцев, не могу рассудити, что из сего будет. Дай Боже пользу христианом, а мню венетов не безнадежных быти к сему; токмо посмотреть, что другая почта покажет: розъедутся ль они в том или еще что прибавят». Далее следует известие о смотре собранного в Москву к походу дворянства, что задерживало отъезд Головина в Воронеж, куда, по-видимому, его торопил Петр: дворяне отмечаются с указанием, кому остаться в столице и кого можно уволить в отпуск. Наконец он сообщает царю о болезни Лефорта: «Ей, живу не за своими прихотьми; токмо всем не малая есть нам остановка: в четверток на первой неделе так остро заболел огневою адмирал наш и ныне без всякой пользы есть; кровь пускали, ни мало поможествовала; смотреть, что за помощию Божиею будет после. Сего, государь, часа я посылал к нему при отпуску почты (т. е. при отсылке этого письма), сказали, что нет ни мало пользы. Почтарю, государь, повелел я ехать немедленно». Письмо подписано шутовскою подписью Головина «Раб твой Фетка pop blahoslowliay» и помечено 26 февраля «в четвертом часу ночи», т. е. в четвертом часу после захода солнца[6]. Под 28 февраля Корб записывает об усилении болезни:
«Опасность для жизни генерала Лефорта усиливалась с каждым днем; горячешный жар все возвышался, больной нигде не находил места для успокоения или сна. Он не имел сил справиться со страданиями и впадал в бред, так как рассудок его помутился. По приказанию врачей позваны были музыканты, которым удалось наконец усыпить больного сладостными симфониями»[7]. 1 марта Петр Лефорт писал отцу в Женеву: «Многоуважаемый батюшка! Пишу вам в комнате г. генерала, моего дяди, о котором сообщаю вам, что он лежит больной очень сильной лихорадкой. Сегодня седьмой день, но нет ни малейшей надежды на его выздоровление»[8].
По городу стало ходить множество слухов о болезни царского любимца. Говорили, что он совершенно потерял рассудок и требовал то музыкантов, то вина. Когда ему намекнули на приглашение пастора, он будто бы воспылал еще большим безумием и не допустил к себе никого из духовных лиц. Однако у него все же побывал для напутствия реформатский пастор Штумпф; но когда пастор стал усиленно напоминать ему об обращении к Богу, то в ответ он будто бы только попросил пастора не говорить так много. Когда жена в самый момент его смерти стала будто бы просить у него прощения за прошлое, то он ласково возразил ей: «Я ничего никогда не имел против тебя; я всегда уважал и любил тебя»[9].
Ход болезни Лефорта хорошо описан Петром Лефортом в его письме к отцу в Женеву от 8 марта: «На следующую ночь после отсылки моего предыдущего письма Господь решил его судьбу. Болезнь моего дяди длилась семь дней и в ночь на восьмой, т. е. 2 марта утром, в 2 часа он умер. В течение семи дней мы не слыхали от него ни слова в ясном сознании, потому что он все время до последнего вздоха лежал в сильнейшем бреду. Проповедник был беспрерывно при нем, и он время от времени ему говорил, но все очень невнятно, и только за час до кончины он потребовал, чтобы прочли молитву»[10].
2 марта в 2 часа утра Лефорт умер. Ф.А. Головин опечатал его имущество и передал ключи родным. Тотчас же отправлено было известие о смерти Петру. «Милостивый государь, – писал ему Ф.А. Головин, – здравие твое, милостивого государя, да сохранит десница Вышнего вовеки. При сем тебе, государю, извествую, что марта в первый день в ночи, часа за четыре до свету, Франца Яковлевича не стало… Енарал, государь, Карлович с Москвы поехал уже тому близь недели. Раб твой, государя моего, Фетко. Марта во 2 д.». Писал Петру в тот же день и князь Б.А. Голицын: «Премилостивый мой государь, здравие твое да хранимо Богом. Писать боле, государь, и много ноне отставил для сей причины, либо изволишь быть. С первого числа марта в восьмом часу ночи Лефорт умре, а болезнь была фебра малигна и лежал семь дней, а лечил Субота да Еремеев и кровь пущали. Холоп твой Бориско. Марта 2»[11]. В момент смерти Лефорта в Москве до Петра в Воронеж, по-видимому, еще не дошли вести о его болезни. Он был занят в Воронеже своими делами, 28 февраля приехали в Воронеж бранденбургский и датский посланники, выехавшие из Москвы 22-го. Царь показывал им приготовления к постройке флота, которые Гейнсу показались грандиозными, превосходящими всякое воображение. В четверг 2 марта он вел беседу с Гейнсом о союзе – продолжение тех переговоров, какие начал в Москве[12]. 3 марта он писал Ромодановскому, и из письма не видно, чтобы он знал о болезни Лефорта. В этом письме он занят стрельцами, их жалованьем, розыском, распоряжениями о начальных людях, которых надо было поставить над стрелецкими караулами, и более всего кораблестроением, набором мастеров и заготовкой корабельных припасов. «Min Her Kenich, – пишет Петр в этом письме, – писма ваши гасударския принелъ я въ 1 д. да во ѳъ 2 д. марта, въ которыхъ писать iзволите о сътрелцахъ. I мънѣ кажется, что лутче iмъ старое жалованье давать, а прибавъливать за чьто? Сътрелца, буде чево съ пытки не пърибавитъ, буть воля твоя; а если чъто прибавитъ, iзволь ево сюды възять, потому что тѣ городы отсель зело блиски i розыскивать лехче. Началные люди, коi учили, пус[ть] такъ i едутъ, а заполочьнымъ вели быть у караульныхъ сътрельцоѳъ, потому что сътрелцы i началныя iхъ къ нашимъ карауломъ не звычайны. Прикажи послать нарочънова въ Нижъней i чьтобъ онъ възялъ тамъ якорныхъ мастероѳъ лутчихъ i подмостерей ч. 30 i проводилъ сюды немедленно; а онѣ намъ зело нужны. Такъже iзволь во ѳъсѣ кумпансътвы сказать, чтобъ везли припасы карабелныя; а буде хъто къ шестой недѣли не поставитъ здѣсь, вели деревъни отписовать. Вашь нижайши поданны Piter schip timerman. Съ Воронежа, марта въ 3 д. 1699»[13]. Получив известие о тяжелой болезни Лефорта, может быть, то самое, которое заключалось в приведенном письме Головина от 26 февраля, Петр немедленно же помчался в Москву, куда и прибыл 7 марта[14]. «Царь вернулся из Воронежа, – пишет Корб, – узнав о смерти горячо любимого им генерала Лефорта. Лица, бывшие при царе, когда он получил известие о смерти, утверждали, что он принял его так же, как если бы ему сообщили про кончину отца. Неоднократно вырывались у него стенания, и, обливаясь слезами, он произнес следующие слова: «Нет уже у меня более надежного человека; этот один был мне верен; на кого могу я положиться впредь»[15]. Что царь при известии о смерти друга залился слезами, что у него вырывались стенания – этому известию Корба вполне можно верить: он сильно любил Лефорта. Но чтобы он произнес именно такие слова, как их передает Корб, это допустить трудно, и Устрялов вполне прав, когда отказывается в этом случае верить Корбу. «Трудно поверить, – пишет Устрялов, – чтобы он [Петр] так жестко отозвался о своих боярах, в числе которых находились князь М.А. Черкасский, князь Б.А. Голицын, Л.К. Нарышкин, Т.Н. Стрешнев, доказавшие ему, еще отроку, безграничную преданность с опасностию потерять свои головы на плахе во время владычества Софьи, когда Лефорт ласкался к ее наперснику»[16]. Слова эти Корб передает не как слышавший их непосредственно сам, а сообщает их по слухам, через вторые или, может быть, и третьи уши и уста. Возможно, что Петр, предаваясь «стенаниям», произносил какие-либо слова вроде обычных русских причитаний: «на кого ты меня покинул» или что-либо в этом роде; по крайней мере, слова, передаваемые Корбом, очень напоминают такое русское причитание.
Может быть, как очевидец Корб передает о свидании Петра Лефорта с царем: «Когда родственник усопшего генерала подходил к его царскому величеству, готовясь засвидетельствовать подобающее ему глубочайшее уважение, то не мог произнести никаких членораздельных звуков, ибо скорбь и плач отнимали всякую возможность говорить». 9 марта царь обедал у боярина Б.П. Шереметева. Заметно было, что он в большой печали. «Он был все время взволнован, так как истинная душевная скорбь не давала ему никакой возможности успокоиться». Он выказывал, однако, знаки большого расположения к бранденбургскому посланнику фон Принцену, который вернулся из Воронежа 5 марта. «Царь, – продолжает Корб, – в силу своей обычной милости к послам осыпал господина бранденбургского посла многими выдающимися дарами»[17]. Это были, вероятно, личные дары, особые от тех подарков, которые были пожалованы Принцену официально через Посольский приказ, как это делалось обыкновенно при отпуске послов, и которые заключались в собольих мехах на сумму 260 рублей[18].
Под 10 марта Корб отмечает учреждение первого русского ордена Св. апостола Андрея Первозванного. Это было учреждение для Московского государства совершенно необычное, одно из резких новшеств, заведенных Петром. Мысль об ордене могла появиться у царя за границей, где он мог познакомиться непосредственно с подобными учреждениями, например в Англии или в Вене. Эта мысль могла быть освежена по возвращении из-за границы боярина Б.П. Шереметева, принятого на Мальте в состав ордена мальтийских рыцарей, щеголявшего в Москве костюмом и знаками ордена. «Его царское величество, – пишет Корб, – учредил кавалерственный орден Святого апостола Андрея. Крест предписано носить такой, каким обыкновенно изображают крест Святого Андрея, называемый иначе бургундским. Надпись на первой стороне: «Св. Андрей апостол», на второй: «Петр Алексеевич, обладатель и самодержец России»; поперек имя царевича: «Алексей Петрович». Этот орден учрежден как знак почета для тех, кто во время турецкого похода успешно вел дело и заслужил славу храброго. Первым кавалером этого ордена, которому пожалован был крест, царь избрал боярина Головина. Он сегодня вечером показывал орден господину цесарскому послу и изложил ему порядок всего учреждения». Из того, что 10 марта боярину Ф.А. Головину уже пожалованы были знаки ордена, которые к этому дню были изготовлены, вероятно, в Оружейной палате, можно заключить, что самая мысль об учреждении ордена возникла ранее весны 1699 г. Пожалование Ф.А. Головина в кавалеры ордена служит лучшим опровержением достоверности слов, приписываемых Корбом Петру при получении им известия о смерти Лефорта, о том, что будто бы у него нет никого, на кого бы ему можно было положиться. Если царь отмечал Ф.А. Головина таким высоким пожалованием, значит, считал его верным и надежным слугою. Но Ф.А. Головин надолго остается единственным кавалером ордена. Учредив орден, Петр был отвлечен от мысли о нем и на время как бы забыл его. Самый статут ордена, основные черты которого Головин, по словам Корба, излагал цесарскому послу Гвариенту, посетив его 10 марта вечером, был издан только в 1797 г.[19]
11 марта состоялось пышное погребение Лефорта, столь надолго задержанное обширными приготовлениями. Корб, бывший на похоронах, живо описывает их как очевидец. Вынос был назначен в 8 часов утра. К нему приглашены были иностранные представители, явившиеся в траурных платьях. Пока все назначенные присутствовать на похоронах собирались, прошло значительное время, и солнце, по выражению Корба, поднялось очень высоко к полудню. Приходилось долго ждать. В залах дворца Лефорта «повсюду виднелись накрытые столы, уставленные кушаньями; всякого рода вино налито было в чашах, желающим подавалось и горячее [вино]». «Между тем явился царь, выражение лица его было печальное, – пишет Корб, – и обнаруживало признаки сильной скорби». Он не сразу овладел собой, чтобы поздороваться со встретившим его Л.К. Нарышкиным. «Когда Лев Кириллович покинул свое место и поспешил навстречу царю, этот последний благосклонно принял его приветствие, но помедлил несколько с ответом на него; наконец, собравшись с духом, наклонился он поцеловать Нарышкина». Когда с ним здоровались иностранные представители, «он ответствовал им с отменнейшею ласкою». Наступил тяжелый момент прощания с умершим. «Когда настало время выносить покойника, – пишет Корб, – то тут наглядно обнаружилось сожаление царя и некоторых других лиц и их прежняя привязанность к усопшему, так как царь залился слезами и на глазах народа, собравшегося в огромном количестве на погребальную церемонию, дал покойному последнее лобзание». Этот же момент последнего прощания отметил и Принцен в донесении курфюрсту от 16 марта. «Эта неожиданная смерть, – пишет Принцен, – очень удручила и огорчила царя… Свою нежную любовь к генералу и адмиралу он выказал при похоронах тем, что прежде, чем гроб был закрыт, не только сердечно поцеловал его со слезами на глазах, но и побудил к этому же разных русских бояр»[20].
Гроб с телом умершего был перенесен в реформатскую церковь в великолепной процессии. Москве дано было новое, невиданное дотоле зрелище. Всем шествием руководил полковник фон Блюмберг, ехавший во главе процессии на коне, покрытом блестящим, затканным золотом чепраком. Затем шли полки Преображенский, Семеновский и Лефортов. Перед первою ротою Преображенского полка шел сам царь «в темном платье с застывшим на лице скорбным выражением». За полками следовал всадник в латах на богато украшенной лошади, держа обнаженный меч острием книзу. За ним шли трубачи и барабанщики, игравшие похоронный марш. Далее вели лошадей умершего, несли знамена с изображением его герба, на пяти подушках несли его золотые шпоры, пистолеты, обнаженную шпагу, жезл и каску[21]. Полковники, переменяясь, несли гроб, покрытый черной шелковой тканью. За гробом шли слуги в трауре, за ними племянник покойного Петр Лефорт с послами цесарским и бранденбургским, к которым присоединился и боярин Б.П. Шереметев в костюме мальтийского рыцаря; это, по словам Корба, подало повод русским с насмешкой злоречиво спрашивать друг друга, не посол ли это от Мальтийского ордена? Затем шли московские бояре, думные дьяки и приказный персонал, наконец, вдова умершего в сопровождении иностранных дам[22]. Процессия поразила современников своей пышностью. Были составлены ее описания, которые потом пересылались за границу и там стали появляться в газетах.
В храме реформатский пастор Штумпф произнес надгробную речь на текст из книги Екклесиаст – «Несть человека, владущего духом, еже возбранити духу и несть владущего в день смерти». Проповедник говорил о бренности и мимолетности земной жизни, на что указывает этот гроб. «Светлейший господин, так неожиданно в полной силе лет от нас похищенный, свидетельствует истину слов Соломоновых, что человек не имеет власти над днем смерти своей». Отказываясь от пышных похвал усопшему, Штумпф сослался на сонм присутствующих, которые могут засвидетельствовать, что царь лишился в нем верного раба и служителя, войско потеряло великого вождя (?!), реформатская церковь утратила ходатая и покровителя. Все мы, восклицал проповедник, оплакиваем друга и приятеля любезного! Он умер в самом расцвете славы. Случается иногда и великим людям видеть затмение милости своих государей, подобно затмению солнца, – но солнце его жизни померкло в самый полдень славы. В речи есть указание, что она была сокращена по требованию Петра. «Не властны мы и над смертию, – восклицает проповедник, – много мог бы я привести тому примеров, но, повинуясь державной воле, не стану широко распространяться»[23].
При выходе из церкви порядок мест в процессии был нарушен; русские участники шествия заняли места у самого гроба, оттеснивши иностранных послов. «Бояре и прочие лица из их народа… – пишет Корб об этом инциденте, – перепутали порядок шествия, протискавшись к самому гробу», где перед тем шли иностранные послы; послы, скрыв обиду… заняли место с Петром Лефортом, утешая себя тем, что занимать место рядом с ближайшим родственником на похоронах считалось всегда наиболее почетным. При погребении произведен был троекратный залп из 40 орудий; каждый из участвовавших в церемонии полков произвел троекратный ружейный залп. С могилы царь и все бывшие на похоронах вернулись в дом умершего на поминальную трапезу. «Уже готов был обед, – пишет Корб, – всякому, бывшему на похоронах в темном платье, дано было золотое кольцо, на котором вырезаны были день кончины и изображение смерти»[24]. Трапеза ознаменовалась, по словам Корба, раздраженной выходкой со стороны царя. «Когда царь на время удалился, – пишет Корб, – все бояре с тревожной поспешностью стали быстро уходить из дому. Они спустились уже по нескольким ступенькам, но вдруг заметили, что царь возвращается, и вернулись в сени.
Поспешный уход бояр заставлял подозревать, что эта смерть принесла им утешение. Разгневанный этим царь в негодовании обратился к главным из них со следующими словами: «Неужели вы радуетесь его смерти? много вы выиграли с его смертью? почему не остаетесь долее? Может быть, потому что великая радость не позволяет вам более играть комедию с нахмуренным челом и притворно печальным лицом?»[25] Опечаленный тяжелой для него утратой царь был, по-видимому, в сильном раздражении в день похорон Лефорта, может быть, был раздражен также и тем, что церемония похорон, которую он, конечно, сам устраивал, не прошла в желательном для него порядке. Свое раздражение он сорвал на встретившихся ему боярах, слишком, по его мнению, поспешивших покинуть трапезу и идти домой. Гневное настроение царя сквозит и в рассказе Корба, записанном под 13 марта и передающем эпизод, сам по себе едва ли вероятный: «На вопрос царя, кому за его отсутствием поручить управление Москвою, один из бояр дал совет, что эту обязанность можно возложить на Бориса Петровича Шереметева. Так как царь знал, что этот советчик противится его начинаниям, то дал ему пощечину и спросил гневным голосом: «Неужели и ты ищешь его дружбы!»[26] Факт пощечины приближенному ничего невероятного в себе не заключает; но, чтобы это случилось по поводу того именно разговора, о котором говорит Корб, уверенным быть трудно: и это не более как долетевшая до иностранца молва.
II. Отпуск Бранденбургского посланника
13 марта Петр вновь выехал в Воронеж. «Сегодня после полудня, – писал Корб, – царь проехал в двуколке по слободе и прощался со всеми, кого удостаивал своим благоволением; в этот же вечер он отправился из Москвы в Воронеж». Перед отъездом он написал собственноручно письмо к бранденбургскому курфюрсту, отвезти которое должен был фон Принцен. «Мой господинъ, – писал в немъ Петр. – Писмо ваше особно писанное, чрезъ iзящъного вашего сълужителя Пренса принялъ i вьгразумълъ ваще весма благое нам i опществу склонение, которое какъ въ писмѣ, такъ i отъ сълоѳъ выщереченного Пренса, мы любезно прияли. Паче же персонѣ учиненную любоѳъ i союзъ памятуя, никогда мьгьлѣ забвению предадимъ; также надѣемся на вашу любоѳъ, что не толко сие содержати, но i ѳъ предбудущия i намъ вѣданию належащия дѣла отъ ващей любви i дружества не утаены будутъ, о чемъ пространнее донесетъ вамъ Пренсъ. Ващей любви охотно съкълонныыi другъ Piter. Съ Москъвы, марта в 13 д. 1699»[27].
Фон Принцен покинул Москву 16 марта. «Выезд бранденбургца, – пишет Корб, – отличался такою же торжественностью, как и его въезд. Ему дана была царская позолоченная колымага, а для чиновников кони, пышно украшенные. Конной роты не было, место ее заступили приблизительно десять писарей верхами. Подвод у посла было девяносто; еще большее количество их дожидалось в более отдаленных местах, где обыкновенно происходит смена подвод»[28]. Этот большой поезд посланника подвергся злоключению на дороге между Москвой и Тверью в селе Завидове. Случай по донесению пристава при посланнике, подполковника Ивана Афанасьевича Кокошкина, заключался в следующем. 17 марта, когда обоз посланника остановился в Завидове кормить лошадей, один из подводчиков, тяглец Новомещанской слободы, нанял вместо себя на дорогу до Твери крестьянина села Завидова, заплатив ему деньги за этот путь. Мужик, однако, раздумал и, не желая исполнять договора, с лошадью и с деньгами бежал. Тогда пристав велел его изловить. Произошла обычная в таких случаях сцена: «И того-де села Завидова прикащик с крестьяны, собрався многолюдством с кольем и с дубьем, вышед на дорогу, того вышеписанного посланника дворовых людей его иноземцев били и в колокола для скопу людей били ж и с тем кольем и с дубьем за теми иноземцы тот прикащик с крестьяны гнались в поля»[29]. Принцен писал об этом происшествии в Москву резиденту Задора-Цесельскому, и тот подал в Посольский приказ представление, рисующее эпизод подробнее. В представлении, переведенном в Посольском приказе, после указания на обман со стороны завидовского мужика говорится: «И того ради посланник приданного с ним пристава Ивана Афанасьевича Кокошкина с двемя при себе имеющими солдаты во двор того мужика послал и обещанную нанятую лошадь силою взять велел. И бабы на том дворе о сем великой шум и воп учинили. И в то время того села подьячий или, как иные называют, староста, собрався и взял 12 человек иных мужиков. И ждали на конце села, на пристава, которой проводил посольство и напереди ехал, напали с великими дубинами и лошади силою отнять хотели. А как тот с подьячим, при себе имеющим и солдатами противился, то они великими дубинами, в руках имеющими, их били, и именованный подьячий или староста села того дубиною в руках имеющею, к саням посланника пошел близко, но посланник пистолет ему показал и грозил ему, буде не отойдет. В то ж время в том шуму достальные посланнические люди доехали. Но покамест из саней собрались, мужики те на них напали, а когда б один локай не ускочил, то б дубиною до смерти убит был. А толмача с подьячим, как мужиков от посланника отогнать хотели, так чрез руки биты, что все персты в крови были и по се время зело больно ранены лежат. И так принуждены были посольства люди шпаги и сабли воспринять и не без того, что иным досталось такожде на противом (sic) бою. После того посланник хотел оттоле ехать, но иные от сих злобных людей сказали… что в селе на осталых двух санях и людех отомстятся и вовсе их изведут. И трижды в колокол в сполох били.









