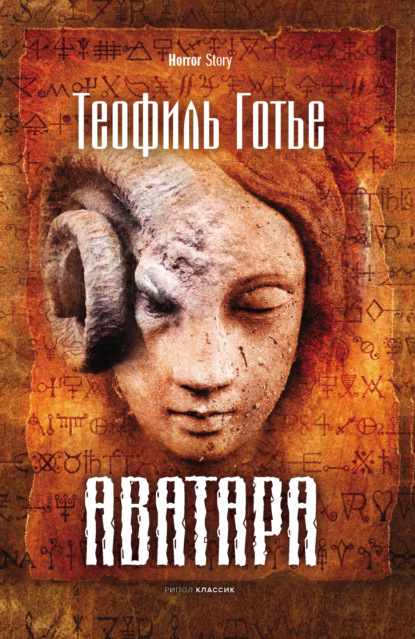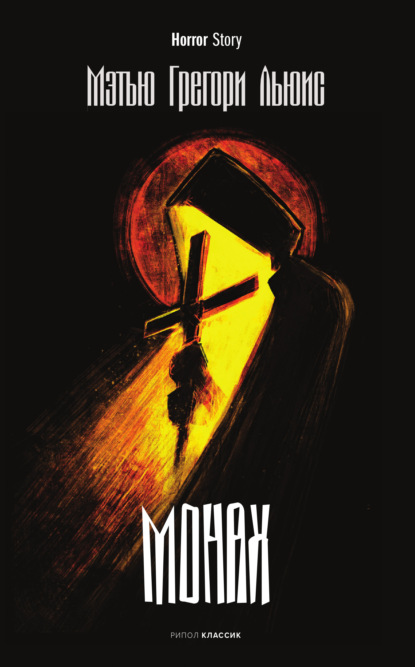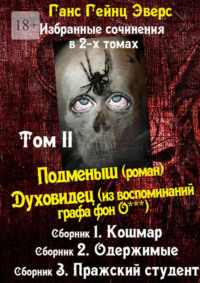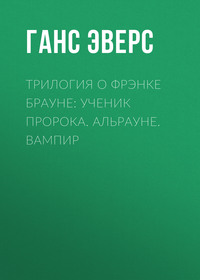Полная версия
Гротески
Герцог перебил его:
– Но не могли же вы работать свежим сердцем?
– Разумеется, нет. Но времени у меня было много! Слишком много – я должен был употребить сперва все другие сердца. Сердце вашего деда я забальзамировал и поместил на просушку длиной в целых тридцать шесть лет; оно дало великолепную краску. Она в моей последней картине – погодите, я вам покажу ее. – Он прыгнул за ширму и вытащил другой подрамник. – Вот, господин Орлеан! Часто, часто я слышал, как билось оно… на том самом стуле, на котором вы теперь сидите, – сердце вашего деда, герцога Орлеанского, Филиппа Эгалитэ.
Герцог невольно прижал руки к груди, чувствуя, будто должен крепко держать собственное сердце, чтобы ужасный старик не мог вырвать его. Еле решился он взглянуть на картину.
На заднем ее плане стальная решетка со множеством острых наконечников протянулась вдоль всего полотна. На переднем плане были воткнуты в землю сотни копий, и на всех тех копьях, как и на остриях решетки, торчали отрубленные человеческие головы. Копья были расположены в форме сердца, причем так, что решетка своими двумя полуокружностями представляла собой его верхнее очертание. Также и внутренность «сердца» была заполнена копьями, поэтому казалось, будто эти нечестивые цветы вырастают из бурого фона. Но над копьями, в серовато-желтом воздухе, парила расплывшаяся маска, представлявшая одну сплошную демонически смеющуюся гримасу. И эта маска, при более внимательном взгляде тоже отрубленная голова, имела, опять-таки, форму сердца – характерную грушевидную форму сердца членов Орлеанского дома. Герцог не знал своего деда, но сходство этой рожи с отцом его и даже с ним самим бросилось ему в глаза. Все более и более охватывал его томительный страх, он не мог оторвать взгляд от этой ужасной галереи гильотинированных голов.
И, точно издали, прозвучал над ухом его голос старика:
– Приглядитесь получше, господин Орлеан, это все портреты! О, мне немалого труда стоило получить их от всех этих господ. Вам угодно знать, чьи это головы, над которыми дед ваш вон там – вы только взгляните на него! – радуется всем своим сердцем? Это головы всех тех, кого он казнил, и Луи Капет, которого вы называете Людовиком Шестнадцатым, здесь же. А хотите полный список? – Старик порылся в кармане своего сюртука и вытащил пожелтевшую от времени книжечку. – Примите же, господин Орлеан, духовное завещание Филиппа Эгалитэ своему племяннику, наследнику французского престола. В эту записную книжку он аккуратно вносил имена тех лиц, которых возводил на эшафот. Таков был его спорт – благодаря ему дед ваш и сделался якобинцем. Вот-вот, возьмите эту королевскую исповедь. Я ее приобрел у его палача – заплатил ему целых пять ливров!
Герцог взял книжечку и стал ее перелистывать. Но он не мог прочесть ни одного слова – буквы сливались у него перед глазами. Тяжело опустился он в кресло.
Художник подошел к нему маленькими шажками и встал против него:
– Уже одно созерцание этой картины приводит вас в ужас? В таком случае тот, чьим сердцем я писал ее, был иной человек… сердце его рассмеялось бы, если бы он увидел ее, так же, как он теперь там смеется! Право, я соорудил ему великолепный памятник… Но теперь вы, может быть, поймете, господин Орлеан, что́ мне пришлось испытать. Видите ли, я сблизился с душою каждого из ваших предков. Вот тут, в этом старческом теле, которое вы видите перед собой, все побывали – Людовики и Генрихи, Францы, Карлы и Филиппы. Я стал одержим ими, как бесами, я должен был снова совершить все их преступления. Вот какова была моя работа. Вообразите только – я не как какой-то несчастный сумасшедший бессознательно впадал в свой недуг, а каждый раз чудовищным усилием воли искусственно вызывал в себе безумие. Недели и месяцы требовались мне, чтобы проникнуть в ад ваших королевских амбиций и фантазий, чтобы ринуться в бездны их мыслей, в их ядовитый дух. Едва ли существует средство, господин Орлеан, которым бы я не пользовался для этой цели. Я постился и умерщвлял свою плоть, чтобы пережить в себе религиозно-кровавые экстазы, столь бесконечно далекие нашим современным понятиям. Ежедневно напиваясь, я впадал в состояние безудержного амока, но в моем наиболее диком бреду всегда лишь отражалась незлобивая фантазия безобидного Мартина Дролина. Тут у меня явилась мысль попытаться сделать королевский табак, я истер небольшую долю каждого из моих сердец и пользовался ею как нюхательным средством. Вы сами нюхаете табак, господин Орлеан, вы знаете, как щекотание хорошей смеси действует на слизистые носа, как кажется, что смесь проясняет мозг, точно освобождая от какой-то тяжести, прочищая. Но наряду с этим исключительно приятным чувством я испытывал и нечто иное. Мне казалось, что душа короля, чье сердце я втягивал ноздрями, овладевала моим мозгом. Она крепко в нем укоренялась, загоняла в дальний угол дух Мартина Дролина и делалась новым владельцем тела. А мое маленькое «я» было лишь в силах наносить на полотно кровавые королевские причуды… цветами из королевских сердец. Да-да, господин Орлеан, вы видите во мне одновременно всех ваших предков вновь возродившимися в моем мозгу, всех – от вашего деда и вплоть до Филиппа Пятого, первого Валуа, окровавленными пальцами водрузившего на свою голову корону Капетингов. И вновь они проявили свою душу во мне, со мною, в моих картинах. Ведь я – художник! Я как бы прообраз женщины, которую все они бесчестили, с которой произвели на свет своих и в то же время моих детей, – вот эти картины. Да-да, художник – неопытная проститутка, он заманивает к себе мысли, отдается им, покоряется, а потом, не совладав с процессом вовремя, в чудовищных муках рождает свои ублюдочные произведения. – Голос старика звучал глухо, почти надтреснуто, но вот окреп и прибавил в горечи. – Я – живая наложница мертвых королей Франции. И вам, господину Орлеану, последнему отпрыску дома, я представляю счет за эти ночи любви… Возьмите себе взамен плоды их. Если они нехороши, то это – вина ваших отцов.
Он передал герцогу большой лист со списком картин и обозначением их цен.
Герцог сложил его и сунул в карман:
– Сегодня после обеда я пришлю вам деньги и вместе с тем прикажу захватить картины. Укажите моим людям все то, от чего бы вы желали освободиться. Благодарю вас, господин Дролин. Могу ли я на прощание подать вами руку?
– Нет, – ответил Мартин Дролин, – ибо вы есть Орлеан!
Герцог молча поклонился.
Тринадцатого июля 1842 года герцог Орлеанский выехал в Нейи-сюр-Сен в карете, запряженной двумя лошадьми. У Тернских ворот лошади понеслись галопом. Герцог, пытаясь спастись, выпрыгнул из коляски на мостовую и разбил голову. Его снесли в ближайшую бакалейную лавку, где он и скончался через несколько часов, окруженный членами королевской семьи.
По счастью, он оставил завещание, и в нем бросался в глаза один странный пункт, в котором герцог обещал свое сердце художнику Мартину Дролину, проживающему на Rue de Martyrs, 34. Вероятно, король Людовик Филипп, в силу предоставляемых ему законом прав, наложил бы вето на такое распоряжение сына, но это и не потребовалось, ибо старый художник преставился сам – за несколько месяцев до рокового случая.
По-видимому, картины его исчезли. В завещании герцога о них ничего не говорится, а в дневниках его адъютанта, господина Туайона Жеффрара, вырезано единственное место, в котором, вероятно, о них упоминалось.
Следовало бы сходить в Лувр и поискать сердца французского королевского дома. Их можно найти в картине Дролина «Intérier de cuisine», по каталожному номеру 4339.
Рагуза (Сицилия)Май 1907Господа юристы
Рыбам, хищным животным и птицам дозволено пожирать друг друга, потому что у них нет справедливости. Но людям Бог дал справедливость.
Исидор Севильский, архиепископ Гиспалы. «Этимологии, или Начала», том XX– Поверьте, господин асессор, – сказал прокурор, – юрист, который, скажем, после двадцатилетней практики не приходит к абсолютному убеждению, что всякий, без исключения, приговор – в каком бы то ни было смысле – позорно несправедлив… так вот, такой юрист – совершенный болван! Все мы знаем: уголовное право – самая реакционная вещь, какая только существует. Три четверти параграфов всех существующих уложений о наказаниях, уже со дня вступления их в законную силу, не отвечают более духу времени – они родились старцами, как сказал бы мой секретарь, который, как вам известно самый остроумный человек в нашем городе.
– Да вы явный анархист! – рассмеялся в ответ председатель суда. – За ваше здоровье, господин прокурор!
– Prosit[16], – отвечал последний. – Анархист, говорите? Что ж, пожалуй. По крайней мере, таковым считаюсь я в нашей компании, в среде представителей судебной власти. И я руку дам на отсечение, что все вы, господа, и в особенности вы, герр председатель, совершенно разделяете мои убеждения.
– Вот в Берлине в настоящее время готовят к выпуску новое издание, исправленное и дополненное, нашего уголовного уложения, – заметил с улыбкой председатель. – Вы тогда напишите письмо с предложениями – и пошлите в комиссию; быть может, от вас и в самом деле чего-нибудь путного наберутся.
– Вы уводите разговор в сторону, – сказал прокурор, – и тем самым доказываете, что согласны со мной. Предложения? А что толку от них? Ни ко мне, ни к кому-либо другому не прислушаются, вот в чем беда. Маленькие улучшения мы можем сделать – выкинуть два-три самых глупых параграфа, – но коренная переработка невозможна. Уголовный кодекс сам по себе есть неслыханнейшая несправедливость.
– Позвольте! – воскликнул председатель.
– Отвечу вашими же словами, – продолжал, не смущаясь, прокурор. – Вы вспомните, банкир, которого мы на днях отправили за злостную растрату на четыре года в тюрьму, при оглашении приговора воскликнул: «Этого я не переживу!» И достаточно было только поглядеть на него, чтобы понять – он говорит сущую правду, живым ему оттуда не выйти. По другому делу мы присудили к такому же наказанию пароходного кочегара, обвиненного в изнасиловании, и этот морщинистый нетопырь произнес совершенно довольным тоном: «Благодарю, господа судьи, такое наказание как раз по мне. Не так уж и плохо – поступить на полное довольствие». И вот вы тогда сказали мне, господин председатель: «Как же это несправедливо, что одному мучительная погибель, другому – устроение по жизни. Каков скандал!» Помните эти слова?
– Разумеется! – ответил председатель. – И я полагаю, что все присутствовавшие тогда в заседании разделяли это мнение.
– Не смею усомниться, – продолжил прокурор. – Вот вам скромнейший из примеров неизбывной несправедливости всякого наказания. Вы скажете – в обоих данных случаях я, в качестве представителя прокуратуры, а также господа судьи поддались влиянию, как это – тут буду откровенным – происходит каждый раз, пока мы окончательно не костенеем, пока не превращаемся в машины без воли, в живые параграфы. К банкиру, в доме которого нас гостеприимно принимали, которого в ином отношении мы уважали и ценили, мы старались отнестись снисходительно и все же не могли назначить ему менее четырех лет за преступление, разорившее сотни мелких состояний. С другой стороны, нас с первых же слов возмутило наглое, вызывающее поведение кочегара – другому на его месте присудили бы половинную меру наказания. И, несмотря на это, банкир оказался наказан несравнимо сильнее. Что для бесхитростного простолюдина краткосрочная высидка в тюрьме за кражу? Ничего! Он отбудет наказание и выбросит его из головы следующим же днем. Но адвокат или чиновник, совершивший ничтожную растрату и присужденный хотя бы к одному дню ареста, уже потерян для жизни: его извергнут из своего звания и в социальном отношении сделают погибшим человеком. И где тут справедливость? Могу привести еще более резкий пример. Что есть тюрьма для человека универсального образования и тонкой культуры, для того же Оскара Уайльда? Справедливо он осужден[17] или нет, относится ли осудивший его знаменитый параграф к Средним векам или не относится – все это совершенно безразлично. Главнее то, что такое наказание для него в тысячу раз суровее, чем для любого другого. Все современное уголовное право построено на принципе всеобщего равенства, которого мы не достигли пока и, быть может, не достигнем никогда. Вот почему почти всякий приговор при каких угодно обстоятельствах несправедлив. Фемида – богиня несправедливости, а мы, господа, слуги ее!
– Не понимаю вас, господин прокурор, – заметил один коротышка – земский судья. – Как же вы с такими взглядами не повернетесь к госпоже Фемиде спиной?
– Причина до боли проста – я человек несвободный, у меня семья. Поверьте мне, что даже то мелкое жалованье, которое мы все так браним, крепко привязывает к судейскому креслу большинство из нас. Помимо того, я и на другом поприще натолкнусь неминуемо на то же самое. Вся наша общественная система стоит на несправедливости.
– Допустим, что это так, – сказал председатель. – Но вы сами утверждаете, что тут ничего не изменишь! К чему тогда ковырять больную рану, какую мы не в силах залечить?
– Больная рана… как метко замечено! Но то, право, приятная боль, – ответил ему прокурор. – После каждого приговора я ощущаю во рту какой-то противный, горький вкус, а что вы также испытываете нечто подобное, доказывают те ваши слова, которые я только что привел… Я чувствую себя машиной, рабом жалких печатных строк, и вот, на свободе я, по крайней мере, хотел бы иметь право об этом думать… знаете ли, так вот, за кружкою пива! – Он поднес означенный сосуд к губам и опорожнил и после продолжил задумчиво: – Видите ли, господа, в следующий вторник мне опять предстоит присутствовать при смертной казни. От одной этой мысли становится жутко…
Референдарий навострил уши.
– Герр прокурор! – воскликнул он. – Не возьмете ли меня с собой? Мне вот страшная охота посмотреть казнь – прошу вас!
Прокурор посмотрел на него с горькой улыбкой.
– Ну конечно, – промолвил он, – конечно. Точно так же и я напрашивался в первый раз. Я скажу – отступитесь, не нужно это вам, но вы, конечно, встанете на своем. И пусть я даже и откажу – не сегодня, так завтра вас охотно возьмет с собой другой коллега. Хорошо, идемте – обещаю, вам будет так стыдно, как никогда в жизни.
– Спасибо, – сказал референдарий и поднял свой стакан. – Премного вам благодарен! Разрешите за ваше здоровье, господин прокурор?
Прокурор не ответил – он сидел погруженный в свои мрачные думы.
– Знаете ли, – обратился он к председателю, – то скверно, что преступление само по себе, даже самое жалкое и самое гнусное преступление, убеждает нас в том, что оно выше, о, много выше нас, «жрецов правосудия»! Что в своей глубочайшей низости оно выказывает величие, способное в пух и прах разнести все наши старые, захудалые формулы; что оно, как жар, расплавляет сковывающие нас панцирем законы и параграфы; что мы, как червячки, ползаем перед ним в грязи.
– Спорная мысль! – заметил председатель.
– О, я расскажу вам об одном таком случае, – продолжил прокурор. – Это – самое неизгладимое впечатление в моей жизни. Случилось это четыре года назад, 17 ноября, в Саарбрюккене, когда мне пришлось присутствовать при обезглавливании одного негодяя по имени Кощен… Мари, дайте еще кружку! – прервал он себя.
Толстая кельнерша стояла уже возле стола. Она давно прислушивалась, поняв, что разговор идет о гильотине и о разбойниках.
– Рассказывайте же! – понукал референдарий.
– Имейте терпение, друг, – осадил его прокурор. Подняв свой стакан, он произнес: – Пью за память этого самого жалкого из всех преступников, этого изверга рода людского, который, может статься, все же был героем!
Медленно, при всеобщем молчании, он опустил свою кружку на стол.
– За исключением вас, герр референдарий, – продолжал он, – все присутствующие здесь, вероятно, хоть раз наблюдали казнь. Вам известно, как ведет себя при этом заглавное действующее лицо. Такой герой эшафота, какого выписывает в своей «Песни о Ла-Рокéт» известный поэт Монмартра Аристид Бри-ан, очень редкая птица. Поэт вкладывает в уста преступнику следующие слова:
Спокойным шагом я пойду, с победной миной.Не дрогну я, не упаду пред гильотиной.Молчать? Молиться? Плакать? Нет!.. Не буду ждать яИ пусть услышит Ла-Рокет мои проклятья!Эти слова для разбойника весьма похвальны, но боюсь, что на деле происходило все несколько иначе. Боюсь, вел бы он себя точно так же, как его берлинский коллега, который у Ханса Гиана[18], в его «Последней ночи на земле», так заканчивает свой монолог:
Почти пропал луны рожок — и за окном уж утро всходит,Ну, Макс, готовься, мой дружок, ведь жизнь прошла, как сон проходит,Они идут… ну, что ж, пускай, взгляну в глаза я смерти прямо…Прощай, подлунный мир, прощай! Простите все… О, мама! Мама!Этот ужасный крик – «Мама! Мама!», – которого никогда не забудет тот, кто хоть раз его слышал, он весьма характерен! Конечно, бывают исключения, но они редки; прочтите мемуары палача Краутса – среди ста пятидесяти шести осужденных один лишь держался «мужественно», а именно Гёдель, покушавшийся на жизнь императора.
– Как вел он себя? – спросил референдарий.
– Вас это интересует? Ну, видите ли, он предварительно побеседовал с упомянутым Краутсом и обстоятельно расспросил его обо всем, что касается казни. Он обещал палачу хорошо разыграть свою роль и просил не связывать ему рук. Краутс отклонил эту просьбу, хотя, как оказалось потом, мог бы вполне удовлетворить ее. Гёдель спокойно наклонился, положил голову на плаху, поглядел вверх, подмигнул палачу левым глазом: «Так удобно, господин палач?», и Краутс, обомлев, ответил: «Лучше немного вперед!» Что думаете – на это Гёдель спокойно подвинул голову немного вперед и снова спросил: «Удобно ль?» Но ответа он не услышал уже – гильотина была приведена в действие, голова упала в корзину. Краутс сознался, что поспешил с совершением казни из страха. Он сказал, что, если бы еще раз ответил преступнику, не нашел бы у себя сил исполнить свою страшную обязанность до конца… Да, случай нетипичный; но стоит только поразобраться в свидетельствах об этом диком и безумном покушении, как сразу ясно: Гёдель – душевнобольной. Поведение его с начала и до конца было ненормально.
– А какое же бывает естественное поведение у человека, которого казнят?
– Вот об этом-то я и хочу сказать! Несколько лет назад я присутствовал в Дортмунде при казни одной женщины, которая при соучастии своего возлюбленного отравила мужа и троих детей. Я знал ее еще с процесса, в котором мне самому пришлось выступать против нее в качестве обвинителя. Это была грубая, невероятно бесчувственная дама, и я в своей речи не удержался от сравнения ее с Медеей… тем более что среди присяжных находилось трое преподавателей гимназии. Но дело в том, что в Дортмунде двор, где проводят казни, находится в новой тюрьме, несколько за городом, между тем как преступницу держали в городе, в старой тюрьме. Когда ее в пять часов утра перевозили, она кричала в своей карете как бесноватая – кажется, добрую половину Дортмунда поставили на уши эти ее вопли. Я следовал с судебным врачом в другой карете, мы затыкали себе уши пальцами – без особого толка, увы. Дорога казалась нам бесконечной; когда мы наконец приехали, бедному тому доктору сделалось дурно… Сказать по правде, и я был близок к этому!
В то время, когда эту женщину вели на эшафот, ей удалось освободить связанные сзади руки, и она обхватила ими свою открытую шею. Она знала, что удар падет на шею, так что ей хотелось инстинктивно защитить это место… Троица ассистентов палача – этакие циклопы, невероятно здоровенные детины, больше похожие на мясников, – кинулись на нее и стянули ей руки. Но как только ей удавалось высвободить хоть одну руку, она с отчаянной силой схватывалась за шею и дралась ногтями, как дикая кошка. Ей казалось, покуда она держит пальцы на горле, жизнь ее не прервется… Эта позорная борьба длилась пять минут – и все это время утренний воздух звенел от ее совершенно нечеловеческих воплей… И вот у одного из помощников палача, у которого она почти отхватила палец – доктору пришлось потом ампутировать его, – лопнуло терпение; своим кулачищем он хватил ее прямо в лицо. Она рухнула без чувств, и в таком виде ее отволокли на плаху и там свершили приговор. Это – естественное поведение осужденного на казнь.
– Ну и дьявольщина, – пробормотал асессор, прячась за кружку.
– Скажете тоже, «дьявольщина». – Прокурор хмыкнул. – Уверен, и вы бы вели себя не иначе. Были вместе со мной на последней казни? Помните ее? Как-то так повели себя те, кого созерцать имели несчастие остальные наши коллеги, и те четырнадцать человек, при чьей казни по долгу службы присутствовал я. Еле живые от страха, тащились они во двор. Они не шли сами – приходилось силой волочь их по ступеням к гильотине или виселице. Всегда одно и то же; исключения очень редки. И почти всегда этот отчаянный призыв к матери, как будто она может здесь чем-нибудь помочь. Помню одного парня, который сам и убил свою мать и, тем не менее, перед самым исходом звал ее на помощь исступленно. Из этого явствует, что палач имеет дело не со взрослыми людьми, а с напуганной детворой…
– Однако, – заметил председатель, – вы совершенно уклонились от темы.
– В этом повинен референдарий, господин председатель, – сказал прокурор. – Это ему непременно захотелось послушать о Гёделе. Но вы правы. Я должен вернуться к теме. – Он опорожнил свою кружку и продолжил: – Вы согласитесь со мной, господа, что казнь на всех присутствующих производит самое черное впечатление. Мы можем сто раз повторять себе: с негодяем поступили по всей справедливости; для общества настоящая благодать, что преступнику рубят голову… Но мы никогда не можем отвертеться от мысли, что отнимаем жизнь у совершенно беззащитного человека. Иррациональный зов к матери, живо напоминающий нам о собственной детской поре, о наших матерях, в конце концов, никогда не преминет указать – мы совершаем некое постыдное дело. И все доводы в собственную пользу на время казни кажутся нам самим дурной, бессодержательной риторикой и празднословием. Ведь верно это?
– Верно, – нехотя промолвил председатель.
– Рад вашей солидарности, – сказал прокурор. – Полагаю, что и остальные держатся того же мнения. Попрошу вас помнить об этом во время моего рассказа. Итак, четыре года тому назад мне предстояло передать в руки палача разбойника Кощена. Этот парень, несмотря на свои девятнадцать лет, судился уже предварительно не один десяток раз, и его преступление было одними из самых грубых и самых низких, какое когда-либо встречалось в моей практике. Странствуя по Эйфелю, он встретил в Готвальде другого бродягу, семидесятидвухлетнего старика, и убил его дубиной, чтобы отнять последние семь грошей. В этом, конечно, нет ничего необыкновенного, но, чтобы вы имели понятие о чудовищной низости этого животного, мне необходимо прибавить, что через три дня после совершения преступления, толкаемый тем непонятными чувством, которое так часто влечет убийцу к его жертве, он вновь проходил этой безлюдной тропинкой и увидел старика, еще живого и тихо хрипящего, в том самом овраге, в который его сбросил. Человек, имеющей в душе хоть искру совести, содрогнулся бы от этого зрелища – «бежал бы в ужасе, преследуемый фуриями», как говорит мой секретарь! Но Кощен просто взял свою дубину и хватил ею по твердому кум-полу старика. Потом он еще с половину дня оставался вблизи своей жертвы, удостоверяясь, что на этот раз он окончил свое дело, обшарил повторно его карманы – пустые – и преспокойно направился своей дорогой.
Спустя несколько дней он был арестован. Сперва отпирался, а когда все улики оказались против него, решил сознаться и с редким цинизмом изложил уже знакомые вам подробности. Ну, суд продолжался недолго и, понятно, закончился смертным приговором. Верховная власть даже не воспользовалась своим правом помилования. И вот, вскоре мне вновь предстояла обязанность подготовиться к лицезрению смерти.
Было темное туманное ноябрьское утро. Казнь назначили ровно в восемь. Когда я в обществе врача прибыл на тюремный двор, палач Райндл, приехавший накануне вечером с гильотиной из Кёльна, отдавал последние распоряжения своим помощникам. Как всегда, во фраке и белом галстуке, с трудом натягивая белые лайковые перчатки на красные руки мясника, он внимательно осматривал деревянный помост и машину, приказал вбить еще несколько гвоздей, распорядился, чтобы корзину для головы подвинули немного вперед, опробовал острие ножа пальцем. И, как оно всегда и случается при свершении казни, мне вспомнилась старая революционная песенка, которую сокрушители Бастилии сложили об изобретателе убийственной машины. И вот я стоял там и нервно напевал про себя:
Чтоб не помирали мы со страху,Громких не закатывали сцен,Жутко добродетельную плахуПреподнес монархам Гильотен,Но теперь монархов песни спеты —Мы без лести, страсти и любвиОтсекли главу АнтуанеттыИ башку Людовика-Луи.Тут меня перебили – старый начальник тюрьмы подошел ко мне и доложил, что все готово. Я отдал приказ привести осужденного, и вслед затем ворота отворились. Убийцу со связанными на спине руками ввели шестеро тюремных сторожей в сопровождении духовника, напутственные слова которого Кощен, впрочем, отверг в непристойных выражениях. Он шел вразвалочку, беспечной походкой, с тем же наглым и надменным лицом, какое мы видели при разбирательстве. Испытующе посмотрел он на помост, потом его острый взгляд нашел меня. И, словно угадав мои мысли, он как-то по-особому сложил губы и стал громко насвистывать: чтоб не помирали мы со страху…