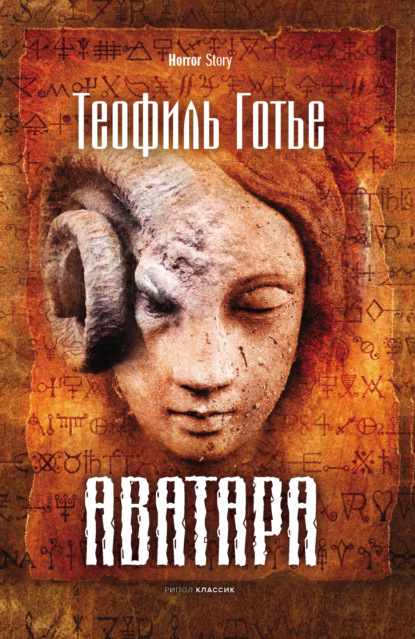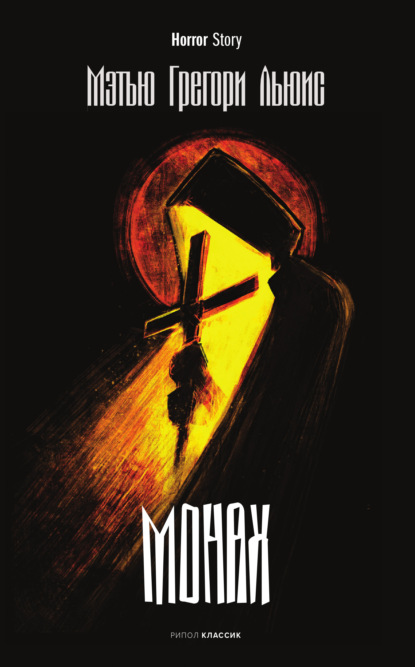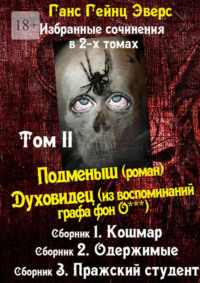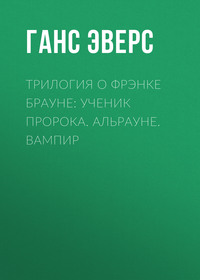Полная версия
Гротески
– «Утопленника»!..
Он не хотел. Но хозяйка дома стала упрашивать:
– Ах, пожалуйста, прочтите «Утопленника»!
Он вздохнул, закусил губы… но состроил рыбью физиономию и стал в три тысячи двести двадцать восьмой раз читать отвратительную историю. Он почти задыхался…
Но кавалеры и дамы аплодировали и восторгались. И вдруг он увидел, что одна старая дама поднялась со своего кресла, вскрикнула и упала.
Кавалеры принесли одеколон и смачивали обморочной даме виски и лоб. А поэт склонился к ее ногам и целовал ее руки. Он чувствовал, что любит ее, как свою мать.
Когда она открыла глаза, ее взор прежде всего упал на него. Она вырвала у него руку, словно у нечистого животного, и воскликнула:
– Прогоните его!
Он вскочил и убежал. Он забился в дальний угол залы и опустил голову на руки. И, пока они провожали старую даму вниз по лестнице к ее карете, он сидел там. Он уже знал все в точности. Он знал все это еще до того, как ему сказали об этом хотя бы одно слово.
Это было как бы исполнение предначертанного. Он чувствовал, что это должно было рано или поздно свершиться.
И когда они вернулись к нему со своими: «Ужасно!», «Невероятно!», «Трагедия жизни!», «Жестокое совпадение!», он нисколько не удивился.
– Я уже знаю это, – сказал он. – Эта старушка два года назад потеряла единственного сына. Он утонул в озере, и только чрез несколько месяцев нашли его неузнаваемый, ужасно раздутый и выцветший труп. И она, его мать, сама должна была опознать тело…
Они ответили утвердительно. Тогда поднялся молодой человек и воскликнул:
– Для того чтобы позабавить вас, обезьян, я, дурак, причинил несчастной матери такую боль… Так смейтесь же, смейтесь же!..
Он состроил рыбью физиономию и начал:
Бледнея тускло-бледным телом,Немой мертвец в тумане беломЛежал в пруду оцепенелом.Но на сей раз они не смеялись. Они были слишком хорошо воспитаны для этого…
БерлинДекабрь 1904Конец Джона Гамильтона Ллевелина
…и умер Сын Божий – это совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погребенный, воскрес – это несомненно, ибо невозможно.
Тертуллиан. «О плоти Христа»Несколько лет тому назад сидели мы как-то в клубе и беседовали о том, каким образом и при каких обстоятельствах каждый из нас встретит свою смерть.
– Что касается меня, то я могу надеяться на рак желудка, – проговорил я, – хотя это и не бог весть как приятно, но это – наша старая, добрая семейная традиция. По-видимому, единственная, которой я останусь верен.
– Ну а я рано или поздно паду в честном бою с двенадцатью миллиардами бацилл. Это тоже установлено! – заметил Христиан; он уже давно дышал последней оставшейся у него половиной легкого.
В той же мере драматичности лишены были и другие виды смерти, с большей или меньшей определенностью предрекаемые прочими собеседниками, – банальные ничтожные виды, за которые всем нам было весьма совестно.
– Я погибну от женщины, – сказал художник Джон Гамильтон Ллевелин.
– Ах, неужели? – рассмеялся Дадли.
Художник на мгновение смутился, но затем продолжал:
– Нет, я погибну от искусства.
– И в том и в другом случае – приятный род смерти.
– Точно ли?..
Разумеется, мы высмеяли его и убеждали его, что он очень плохой провидец.
Пять лет спустя я повстречал Троуэра; он тоже тогда был с нами в «Пэлл-Мэлл».
– Снова в Лондоне? – спросил он.
– Уже два дня.
Я спросил его, пойдет ли он сегодня вечером в клуб. Он ответил, что весь день занят в суде. Ну да, Троуэр вне клуба – кто-то вроде прокурора. Пожелаю ли я отобедать у него? Конечно. У Троуэра отличная стряпня.
Около десяти часов мы покончили с кофе, и слуга подал виски. Троуэр потянулся в кожаном кресле и положил ноги на каминную решетку. И начал:
– Ты встретишь в клубе лишь очень немногих из прежних знакомых.
– Почему?
– Многие поспешили оправдать свои предсказания. Помнишь, однажды ноябрьским вечером мы разговаривали о том, кто из нас и как умрет?
– Конечно. На другой же день я уехал из Лондона и только теперь вернулся.
– Ну так Христиан Брейтгаупт был первый. Спустя полгода он умер в Давосе.
– Ловко. Впрочем, ему было легко сдержать свое слово.
– Труднее было сдержать слово Дадли. Кто бы мог подумать, что его полк покинет Лондон? Он получил под Спион-Копом пулю в лоб[23].
– Он предрекал тогда, что умрет от ранения в грудь. Впрочем, это почти то же самое.
– Нас тогда было восемь. Пятеро уже готовы, и каждый – на собственный лад. Сэр Томас Уимблдон – третий. Разумеется, воспаление легких. В четвертый раз. Он не пожелал упустить случая поохотиться на уток и простоял пять часов по пояс в Темзе. Черт знает, что за удовольствие.
– А Боулдер?
– Этот еще жив. Ты его встретишь в клубе, здоров и свеж, вроде меня с тобой. Но надолго ли? А Макферсон тоже умер. От удара – два месяца тому назад. Он был жирен, как рождественский индюк, но все-таки никто не думал, что он так скоро окончит свои дни, ему было всего только тридцать пять. Совсем юноша.
– Остается художник. Что с ним случилось?
– Ллевелин сдержал свое слово лучше, чем кто-либо из нас. Он погибает от женщины и от искусства.
– Он погибает? Как понять это, Троуэр?
– Он уже десять месяцев как в сумасшедшем доме в Брайтоне. В отделении для неизлечимых. Его молодая модель, лет около двадцати тысяч от роду, превратилась в ничто от его горячего поцелуя. Это так подействовало на его мозг, что он впал в безумство.
– Я просил бы тебя, Троуэр, прекратить свои шутки. В особенности когда они так нелепы, как эта. Смейся, если хочешь, над толстым Макферсоном и бледным Христианом, над солдафоном Дадли или охочим до уток Уимблдоном, но вот Гамильтона оставь в покое. Над мертвыми можно смеяться, но не над живыми же, которые сидят в сумасшедшем доме.
Троуэр медленно стряхнул пепел с сигаретки и налил себе новую порцию виски. Затем он взял щипцы и поворошил пылающие поленья, оттопырив подбородок.
– Я знаю, художник был тебе ближе, чем остальные. Но это не мешает попробовать улыбнуться и тебе, когда узнаешь историю. Бывают трагедии, от которых отгородиться мы можем только шуткой. И где ты найдешь историю, которая не заключала бы в себе хоть толику юмора? Если мы, германцы, научимся галльскому смеху, мы станем первой расой в мире. Ты можешь прибавить – еще более первой, чем теперь.
– А что же Джон Гамильтон?
– Его история вкратце такова, как я уже сказал: молодая дама, с которой он писал портрет и в которую был влюблен, при первом же его поцелуе расплылась от блаженства в ничто. И он от этого сошел с ума. Даме же этой было от роду всего только двадцать тысяч лет. Вот и все. Если ты желаешь, я могу дать некоторые дальнейшие пояснения.
– Пожалуйста. Значит, ты знаешь эту историю в точности?
– Точнее, чем хотелось бы. Я производил по ее поводу официальное дознание. Ломал себе голову на все лады, соображая, в чем предъявить обвинение Ллевелину: в краже ли со взломом, в повреждении ли чужого имущества, или в надругательстве над трупом, или Бог знает, в чем еще? А его тем временем отправили в сумасшедший дом, и моему дознанию пришел конец.
– Какой странный поворот.
– Да уж, понадобится немало веры, чтобы эту историю принять.
– Рассказывай же!
– Джон Гамильтон Ллевелин работал в Британском музее. Насколько мне известно, он получил чрез посредство лорда Густентона заказ на стенную живопись в третьей зале заседаний. В общем, он едва ли справился только с одной стеной, и работа так и осталась незаконченной. Вряд ли скоро найдут кого-нибудь, кто мог бы заменить его. Ллевелин имел талант и фантазию. Они-то и привели его в сумасшедший дом…
Приблизительно в это же время Британский музей получил посылку неслыханной ценности. Ты, наверное, читал несколько лет тому назад про известие, которое обошло все газеты и привлекло живейшее внимание всего мира. Ламутские юкагиры нашли во льдах Березовки, в Колымском уезде, взрослого, совершенно сохранившегося мамонта, только хобот был немного поврежден. Якутский губернатор немедленно послал об этом извещение в Петербург. По рекомендации Академии наук русское правительство командировало на Крайний Север известного исследователя Отто Герца вместе с изготовителем препаратов из Петербургского зоологического музея Фитценмейером и его коллегой Аксёновым. После четырехмесячного путешествия и двухмесячной работы участникам этой экспедиции удалось доставить на берега Невы сибирское чудовище в полной сохранности. Этот мамонт является ценнейшим сокровищем музея и единственным из ископаемых этого рода, какие только известны нашему времени.
Я должен, впрочем, заметить, что вся та область изобилует этими чудовищами, хотя все они встречаются в виде отдельных кусков. Сибирское предание называет их маммату, что значит «землекопы», и утверждает, что это – чудовищные подземные звери, которые погибают, едва только увидят дневной свет. Китайцы, славящиеся работами из слоновой кости, уже тысячи лет пользуются для своих изделий исключительно клыками сибирских мамонтов, выкапываемыми из земли. Равным образом в 1799 году был найден в устье Лены довольно хорошо сохранившийся мамонт, который семь лет спустя был ввезен в Петербург Адамсом. Отдельные части этого реликта теперь рассеяны по музеям всего света.
Вскоре после того, как упомянутая экспедиция благополучно прибыла в Петербург, правление Британского музея получило некое секретное письмо, которое и побудило ее немедленно пригласить его отправителя в Лондон. Он оказался не кто иной, как знаменитый Аксёнов. Этот господин заработал своим гениальным воровством несколько миллионов и теперь спускает их в Париже.
Добывая вместе с тунгусами из сибирских льдов мамонта, Аксёнов сделал там еще одну драгоценную находку. Ни своим товарищам по экспедиции, ни своему правительству он не сказал об этом ни слова. Он оставил свой клад спокойно лежать на том самом месте, где тот пребывал уже не одну тысячу лет, и, как ни в чем не бывало, вернулся вместе с экспедицией и откопанным толстокожим зверем в Петербург. Сказать правду, он исполнил гигантскую работу за все это время. Понятно, он был страшно разозлен, когда его товарищи по экспедиции – конечно, немцы – получили солидную денежную награду и важный орден, а ему пришлось довольствоваться только четвертой степенью этого ордена. Кто знает, быть может, без этого обстоятельства Аксёнов и не написал бы письмо Британскому музею. Во всяком случае, он именно этим и мотивировал свое предложение. Правление музея охотно откликнулось: отчего не взять хорошую вещь, когда ее отдают? Нужно грести свое добро всюду, где его находишь, и не распространяться о том, откуда оно взялось… В особенности когда управляешь Британским музеем…
Аксёнов предложил музею вторую находку из сибирских льдов, которую он брался лично доставить в Лондон. За это он получил немедленно по доставке 300 000 фунтов. Риска для музея не было почти никакого, если не считать сравнительно небольшой суммы, которая требовалась Аксёнову для организации новой экспедиции. На всякий случай с ним, впрочем, отправили двух надежных людей из служащих музея. Экспедиция выдвинулась на английском китоловном судне в Белое море, высадилась где-то на побережье, и, оставив корабль крейсировать у берегов и ловить китов и тюленей, Аксёнов со своими английскими спутниками и несколькими нанятыми тунгусами двинулся в глубь континента. Этот поход для Аксёнова был не в пример опаснее первого; тогда у него был официальный документ, обеспечивающий протекцию и содействие, и находился он в обществе бывалых старших товарищей. Теперь же он должен был рассчитывать только на самого себя, и ему, кроме того, приходилось измышлять тысячу хитростей, чтобы не попасться в руки русского правительства. Роберт Гарфорд, сын лорда Уилфорса, который был посвящен во все тайны этой экспедиции, рассказывал мне о ней. Это была дьявольская история! Ловкий парень был этот русский… аккурат в назначенное время явился с компанией в укромное местечко, где его поджидал корабль, и спустя десять недель корабль уже входил в Темзу. Тайна была так хорошо сохранена, что никто из корабельного экипажа не знал, какой именно груз следует на судне. Между тем в музее потихоньку, без всякого шума и не привлекая ничьего внимания, приготовили особое помещение для драгоценной находки. Там она должна была покоиться целых тридцать лет так, чтобы ни один человек, за исключением узкого кружка посвященных, ничего не подозревал о том, какое новое сокровище таится в Лондоне. Через тридцать лет… ну, тогда можно было бы показать его всему свету: тогда уже умерли бы замешанные в этом деле люди и не было бы основания опасаться политических осложнений с Россией, так как нельзя было бы восстановить обстоятельств дела. Да что уж там, через тридцать лет эта кража превратилась бы в героический поход аргонавтов за Золотым руном!
Так рассчитало правление этого мирового дома сокровищ, и расчет его исполнился бы, вернее всего, если бы наш друг Джон Гамильтон Ллевелин не перечеркнул его резкой чертой. Он принадлежал к тем немногим смертным, что были удостоены чести привечать азиатскую принцессу на английской земле. Таинственная находка представляла собою не что иное, как колоссальную глыбу льда, внутри которой была заключена – быть может, уже в течение многих тысяч лет – прекрасно сохранившаяся нагая молодая женщина. Она попала туда, по всей вероятности, таким же способом, как и ее собрат по несчастью, мамонт из Петербурга. Как именно – ответить на это не так-то легко. И по поводу мамонта многие великие ученые тщетно ломали себе головы, а с нашей великой принцессой дело обстояло еще сложнее.
Комната, которая была предназначена для молодой девушки в качестве ее будущих покоев, была весьма примечательна. Она находилась во втором подвале и была высотой двадцать метров, а шириной и длиной – сорок. Вдоль стен стояли четыре аппарата для производства искусственного льда, закрытые высокими, в половину высоты всей комнаты, ледяными стенами. Для гостьи с далекого Севера было сделано и еще кое-что: подземная зала, посредине которой была поставлена глыба с принцессой, была превращена в самый настоящий ледяной дворец с постоянной температурой в пятнадцать градусов ниже нуля. Пол был покрыт гладким и ровным слоем льда, и то здесь, то там вздымались колонны изо льда, унизанные длинными ледяными сталактитами. Умно расположенные электрические лампочки освещали этот ледяной дворец.
Сюда вела единственная железная дверь, герметичная и прикрытая изнутри ледяной глыбой. Снаружи, за этой дверью, находилась уютно обставленная передняя, и там, у яркого камина, посетитель мог отогреться после своего визита к ледяной принцессе. Ковры из Смирны, турецкий диван, удобные кресла-качалки – все здесь было в такой же мере уютно и приветливо, в какой мере неуютно и неприветливо было там, в ледяном дворце.
Итак, красавица была благополучно водворена в ледяной дворец. Аксёнов получил из секретного фонда музея деньги и уехал. Первоначальное волнение по поводу сокровища понемногу улеглось. Два почтенных господина были единственными регулярными гостями ледяного дворца: лондонский антрополог и его коллега, профессор из Эдинбурга. Они производили измерения или, по крайней мере, пытались производить их, насколько можно измерить предмет, находящийся внутри ледяной глыбы в двенадцать кубических метров. Эдинбургский ученый, сэр Джонатан Ганикук, провел почти месяц в Петербурге, где изучал мамонта. Он давал нашей молодой даме столько же лет, как и мамонту, а именно: двадцать тысяч. Он клялся чем угодно, что и тот, и другая замерзли в один и тот же час. Эта гипотеза согласовалась с показаниями Аксёнова, который утверждал, что обе находки лежали одна от другой на расстоянии менее чем одного ружейного выстрела и что они находились обе в старом русле Березовки. К сожалению, гипотеза эдинбургского профессора не встретила сочувствия у его лондонского коллеги, славного ученого Пеннифизера. Последний находил чисто случайным то обстоятельство, что оба сокровища лежали на близком расстоянии друг от друга. По его мнению, дама была по меньшей мере на три тысячи лет моложе, чем мамонт, что показывала вся ее внешность. Человеческие современники мамонта должны были выглядеть совсем иначе. Он представил коллеге множество рисунков, изображающих этих человекоподобных. В самом деле, наша принцесса выглядела иначе. В актах того дела, которое было потом возбуждено против Ллевелина, находились целый ряд рисунков и один большой портрет работы Ллевелина. А он был единственный человек, который видел ее без ледяного покрова. Молочно-бледная, с розовым отливом нежной, словно персик, кожи, с глубокими синими очами, густыми темными локонами и стройным телом, она вполне могла служить моделью Праксителю. Пеннифизер был прав: ничуть она не походила на скуластых, низколобых первобытных женщин с его рисунков. Но эдинбургский оппонент не сдавался.
– Кто делал эти рисунки? – спрашивал он. – Как минимум люди, которые никогда в глаза не видели подобных существ. Жалкие теоретики, которые с помощью обезьяньих физиономий и невероятно неэстетичной фантазии продавили в научный обиход эти рожи… Первобытная женщина – это та, которая заключена в ледяной глыбе, и издатели научных книг не могут сделать ничего лучше, кроме как выкинуть из всех антропологических трудов все свои идиотские чудовищные картинки.
Пеннифизер на это возразил, что Ганикук – осел. Тогда Ганикук дал Пеннифизеру пощечину. Затем Пеннифизер стал боксировать Ганикука в живот. Затем Ганикук принес в суд жалобу. Пеннифизер поступил симметрично. Судья потом оштрафовал Пеннифизера, равно как и Ганикука, на десять фунтов, а дирекция Британского музея закрыла Ганикуку, равно как и Пеннифизеру, свои двери…
После этого маленького эпизода сибирская принцесса получила на некоторое время отдохновение от назойливых посетителей. Но потом явился тот, чей визит оказался столь же роковым для нее, как и для него самого.
Я уже говорил, что Джон Гамильтон был одним из тех немногих, кто присутствовал при вступлении принцессы в музей. Тогда ее несколько раз сфотографировали на память, но все снимки так или иначе не удались. Вследствие особенной преломляемости ледяного панциря на негативах получались такие пятна и размытости, что юная принцесса выглядела на них как в кривом зеркале. Тогда представители музея обратились к Ллевелину с просьбой попытаться нарисовать принцессу. Художник, сам очень заинтересованный всем этим, охотно пошел навстречу просьбе и сделал несколько рисунков. Сеансы проходили в присутствии служащих музея. Ллевелину, как видно, удалось найти удачное положение для созерцания нагой красавицы, потому что его рисунки в высшей степени точны и отчетливы.
Во время сеансов с Гамильтоном, очевидно, произошло нечто необычное. Служащие музея впоследствии на допросе показали, что они вначале не замечали ничего особенного, но на последних сеансах им бросалось в глаза, что художник целыми минутами пристально глядел на ледяную принцессу, оставив рисование. Как будто оцепенев от холода, он едва держал карандаш и лишь с большим усилием мог оканчивать рисунок. Однажды во время последних сеансов он велел служащим уйти в переднюю комнату. Они сначала не нашли в этом ничего необыкновенного и приписали это требование художника исключительно его любезности: он, по-видимому, просто не хотел, чтобы они зябли в холодном помещении. Однако им показалось странным, что он предложил им тогда чрезмерно крупные взятки за то, чтобы они оставили его одного в ледяной зале. Два-три раза после того, находясь в передней комнате, они слышали, как в ледяной зале кто-то говорил, и узнали голос Джона.
Около этого же времени Ллевелин явился к директору музея и просил предоставить ему ключ от помещения ледяной принцессы. Он собирался писать с нее большой портрет и поэтому желал иметь доступ к ней в любое время. При всяких иных обстоятельствах его просьба, наверное, была бы удовлетворена, так как Ллевелин все равно был посвящен в тайну. Но поведение художника во время этого визита и странная манера изложения своей просьбы были настолько необычайны, что у директора возникло некоторое подозрение, и он учтиво, но весьма определенно отказал Ллевелину. Тогда художник вскочил, задрожал всем телом и, не прощаясь, выбежал вон. Разумеется, это необычайное происшествие еще более укрепило инстинктивное подозрение директора, и он отдал строгий приказ всем служащим, чтобы отныне без особого письменного разрешения не пропускали в подземные помещения никого.
Спустя некоторое время в музее стал ходить слух, что кто-то пытался подкупить некоторых служащих ради проникновения в ледяное помещение. Слух дошел до директора. И так как последний был ответственным лицом во всей этой истории с принцессой, то он распорядился провести строгое дознание. Нечего добавлять, что таинственный «кто-то», пытавшийся подкупить сторожей, был все тот же наш друг, Джон Гамильтон.
Директор отправился в зал заседаний, где Гамильтон в то время работал. Он нашел его там в самом жалком виде: художник забился в дальний угол, скорчился на скамейке и спрятал голову в руки. Директор заговорил было с ним, но Джон Гамильтон весьма вежливо попросил его выйти как можно скорее из этой комнаты, в которой хозяйские права в настоящий момент принадлежат ему. Директор понял, что художник недоступен ни для каких слов и убеждений. Он пожал плечами и в самом деле вышел, лишь приказал повесить на дверь подземной комнаты три секретных замка, а ключи от них положил в денежный сейф в своем кабинете.
В течение трех месяцев после того все было спокойно. Два раза каждую неделю директор лично навещал замороженную принцессу, в сопровождении двух служащих, в обязанности которых входило присматривать за машинами, выделывающими лед. И это были единственные посетители у нее. Ллевелин каждый день являлся в зал заседаний, который он расписывал, но больше уже не работал: краски сохли на палитре, кисти лежали немытые на столе. Он целыми часами сидел неподвижно на скамейке или принимался ходить большими шагами взад и вперед по зале. Дознание установило с достаточной точностью все, что он делал в это время. Несколько странными и подозрительными были визиты, которые он тогда делал известным лондонским ростовщикам. Он пытался, впрочем без успеха, занять не менее десяти тысяч фунтов под ожидаемое в весьма далеком будущем большое наследство. В итоге он достал только пятьсот фунтов под большие проценты у Гель-плеса и Некрайпера с Оксфордской улицы.
Однажды вечером Гамильтон появился после долгого отсутствия снова в клубе. Как я позже установил, это было в тот самый день, когда он достал денег. Он поздоровался со мной в библиотеке и спросил, здесь ли лорд Иллингворт. Иллингворт, как ты прекрасно знаешь, самый отчаянный игрок во всех трех королевствах. Услышав, что лорд явится только поздно вечером, Ллевелин согласился поужинать вместе со мной, но был на таком взводе, что мы все обратили на это внимание. Потом мы беседовали в клубной комнате, где Ллевелин невольно заряжал своей нервозностью собеседников. Он поминутно смотрел на дверь, вертелся в кресле и пил виски одну порцию за другой. Около двенадцати часов он вскочил и бросился навстречу вошедшему Иллингворту.
– За вами мой реванш! – воскликнул он. – Вы играете сегодня со мной?
– Конечно! – рассмеялся лорд. – Кто еще с нами?
Разумеется, Стандартон был с ними, а также Крофорд и Боулдер. Мы переместились в игорную комнату. Когда служитель принес карты для покера, Иллингворт спросил:
– Ну, сколько же вы желаете сегодня проиграть, Гамильтон?
– Тысячу фунтов наличными и все то, что я вам задолжаю! – ответил художник и вынул бумажник. Очевидно, кроме денег, добытых у ростовщика, он принес и все то, что оставалось у него из своих запасов.
Боулдер хлопнул его по плечу:
– Ты с ума сошел, юноша? В твоем положении не ведут крупной игры!
Ллевелин сердито отошел в сторону:
– Оставь меня в покое! Я знаю, чего хочу! Или я выиграю сегодня десять тысяч фунтов или проиграю все, что имею.
– Удачи! – рассмеялся Иллингворт. – Не желаете ли перетасовать колоду, Крофорд?
И игра началась…
Гамильтон играл по-ребячески. В три четверти часа он потерял все свои деньги до последней кроны. Он попросил у Боулдера тысячу фунтов, и так как тот был в выигрыше, то не смог отказать ему. Ллевелин стал продолжать игру – и в четверть часа снова потерял все. На этот раз он обратился с просьбой о деньгах ко мне. Я не дал ему ничего, так как был уверен, что он все проиграет. Он клянчил и умолял меня, но я был тверд. Он вернулся к игорному столу, поглядел с минуту на играющих, а затем сделал мне знак рукой и вышел.
Так как игра перестала интересовать меня, я отправился в читальню. Я пролистал два-три таблоида и поднялся, решив пойти домой. И в это время, когда слуга уже подавал мне пальто, в швейцарскую вошел Ллевелин и бросил на вешалку свою шляпу. Он заметил меня и спросил: