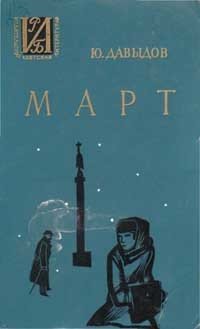полная версия
полная версияСоломенная Сторожка (Две связки писем)
У Герцена пробыл Лопатин весь день.
Александр Иванович утомился, раскашлялся, потирал горло, но Лопатин медлил откланиваться – не за семь верст пришел. Да ведь и заметно было, что Герцен как бы приник к нему: читают ли в России «Колокол»? Верно ли, что ожидается ужасный указ о казенных крестьянах? Ну а русские школы, что там и как? А русские студенты?..
Уже смеркалось, уже зажигали огни и крепче, чем утром, пахло йодистым морем. Лопатин стал благодарить и прощаться.
* * *
Удаляясь от Ниццы, но мыслью, ощущениями, сердцем обретаясь в Ницце, думал он о минувшем свидании. Многое высветило шире, яснее: и тщетность надежд смести российский политический балаган стрельбою в царя; и пагубную тину длительной эмиграции – за Россию держись до последней возможности и возвращайся в Россию при первой возможности. «Дельно! Дельно!» – вторил Герцен, когда Лопатин обозначал свой проект изучения народного хозяйства. Вот именно – изучения, отчеркнул Александр Иванович, а то ведь все повторяют «народ», «народ», а понимания нет.
Удаляясь от Ниццы, но все еще обретаясь в Ницце, читал Лопатин четвертый том «Былого и дум», последний том, выданный в свет эмигрантской типографией. Читал о торжестве мещан – прошли по трупам бойцов революции и упрочили свои нравы, упрочили свой уклад. Но печаль Герцена не печалила Лопатина: он еще не нажил ту мудрость, в которой много печали. Читал, наслаждаясь герценовской прозой – своевольной, неправильной, в родниковых соринках, бликах и тенях, выпуклой, как поток, когда приподняты заслонки плотины… Потом он незряче смотрел в окно на пажити Австрии, черные, с проплешинами первого снега, слышал и не слышал стук колес – он искал, ему хотелось найти слово, определяющее Герцена. И нашел: родной, совсем родной…
* * *Дорога в Петербург взяла несколько суток.
Дорога в крепость – несколько месяцев.
Кто-то неробкий ухитрился начертать на ее вратах: «Здесь временно помещается Петербургский университет».
После выстрела Каракозова петропавловские куртины приняли немало долговолосых юношей в клетчатых пледах. В Вольтеры им дали фельдфебеля, аудитории заменили казематом.
Герман сидел тогда в Невской куртине. Сидел, уликами не обремененный. Попался, что называется, по чистой случайности, если последнюю считать разменной монетой закономерности. Он полагал, что почти каждый порядочный русский рукоположен в государственные преступники. Солдату умереть в поле, матросу – в море, крамольнику – в тюрьме. Сверх того он полагал, и опять-таки справедливо, что на сей раз в куртине не засидится. И посему перемещение с университетского Васильевского острова на казематный Заячий остров принял с легкостью, оскорбительной для фортификационной науки.
Теперь, два иль три месяца спустя после поездки в Италию и пешего хождения из Флоренции в Ниццу, Герман продолжил свой тюремный искус.
Не потому, что дома, на Владимирской, нашли при обыске карту Итальянского королевства. И не потому, что в Москве, в Кривоколенном, у его приятеля Волховского нашли недавно изданный том «Былого и дум». География Апеннинского полуострова, заявил арестованный Лопатин Герман, не наказуется законами Российской империи. Мемуары Искандера, заявил Феликс Волховской, доставленный на казенный счет в Петербург, он-де купил у неизвестной личности, не ведая о цензурном запрете, вообще-то, по его мнению, весьма странном в эпоху обновления России, возвещенного с высоты трона.
Следственная по делам политическим комиссия, высочайше утвержденная, отложив географию и мемуаристику в долгий ящик, сосредоточилась на другом.
Начать с того, что молодые люди собирали сведения об известном Чернышевском. Далее. Они усиленно залучали сочленов в общество, наименованное «Рублевым». Хотя Лопатин Герман и объяснил, что именно рублевый предполагался взнос, однако название, вероятно, маскировочное, призванное ввести в заблуждение следствие.
Целию преступного сообщества являлось: а) издание книжек для народного чтения; б) получение статистических сведений об истинном положении низших классов.
Нравственная физиономия кандидата университета Лопатина Германа, уже попадавшего в сферу наблюдения и дознания, а равно и нравственная физиономия Волховского Феликса, в сферу дознания еще не попадавшего, оставляли желать лучшего. Несмотря на обширный круг знакомств, возникший благодаря сообщительности, свойственной обоим арестованным, удалось выявить лишь нити, связывающие:
а) Лопатина Германа с сослуживцами по частному Обществу взаимного кредита, как-то: Николаем Даниельсоном, а также дворянином Михаилом Негрескулом и его женой Марией, урожденной Лавровой, дочерью бывшего профессора артиллерийской академии, сосланного в Вологодскую губернию;
б) Волховского Феликса, проживавшего в Москве, – с тамошними студентами, в том числе и со студентом Лопатиным Всеволодом, младшим братом арестованного Лопатина Германа.
Из всего вышеизложенного проистекало то, что Следственная по делам политическим комиссия, высочайше утвержденная, не располагает достаточными основаниями для возбуждения судебного преследования, однако располагает достаточными основаниями для административного, внесудебного. Первое предпочтительнее. Посему надлежит продолжить разыскания, продлив меру пресечения, что никоим образом нельзя счесть несообразным с эпохой милости и правды, ибо арестованным дозволено чтение не только литературы духовной, но и светской: чрезвычайно полезной «Коммерческой энциклопедии» и чрезвычайно занимательного трактата «О комплектовании кавалерийских полков лошадьми».
* * *Петербург – Ростов отстучала чугунка. Из Ростова на Ставрополь побежала казенная тройка.
– Эй, служба, – сказал Лопатин, – не жмись, я не краля. Сообрази-ка: куда я в степи денусь? Побегу – стреляй, медаль получишь.
– Бе-е-ги, барин бедовый, пуля достанет, – ухмыльнулся унтер.
Осенний воздух пьянил, как прасковейское. Ярь уже убрали, озими еще не взошли. Рыжие пустельги, треща крыльями, зависали над пепельным шалфеем. Речки были затененные вербами, мосты отзывались глухим громом. В стороне от езжалого шляха, на вытоптанных прогонах мужики в высоких бараньих шапках гнали тесные гурты, в Москву гнали, в Питер.
Степь как воля: есть где разгуляться, да не на чем остановиться. Чары пространства расточаются в городах. Посреди степей они усыпляют и вместе бодрят. Ехать и ехать, чтоб версты, огни и дымы, звон-перезвон да конский топ. А-а, ну как же – птица-тройка! Что значит это наводящее ужас движение и почему, косясь, постораниваются другие народы и государства? И покосишься, и посторонишься, коли сломя голову гонит птицу-тройку жандарм с палашом и револьвером-бульдогом. А чего им, собственно, мозгами шевелить, этим оружным усачам? Все уж рассудила Следственная комиссия. Не гневи бога, усмехнулся Герман, не гневи бога. В общем-то обернулось не то чтобы к лучшему, но и не совсем худо. Феликса Волховского отдали под надзор полиции московской. Его, Лопатина, тоже под надзор, но полиции ставропольской.
Ставрополь он любил, да любил-то уже как бы отстраненно. И еще вот это: «Отче! Я согрешил против неба и пред тобою…» Нет, он не потупится, яко сын блудный. И все же скребли на душе кошки: опечалятся дорогие родители – кандидат университета, ученая карьера, надежда и гордость и вот не приехал – привезли.
* * *В высоком небе большими кругами плавал коршун.
Показался лес, распестренный осенью – заросли бука, крушины, граба.
В этот лес, от Ставрополя недальний, езживали Лопатины семейно. Веселые хлопоты: корзинки со снедью, самовар, одеяла, подушки… Потом тряские дроги, кучер Игнатий. На поляне, у мутной речонки, разбивали лагерь пираты и робинзоны. Мама тревожилась: «Не заблудитесь, дети! Герман, ты старший, пригляди за всеми!» И притворный испуг отца: «Ужасные дебри!»
«Ставропольская флора», – говаривал отец, иронически прищуриваясь. И прибавлял торжественно: «Невозможно сравнить с лесными хоромами нашего севера!» Мама подтрунивала: «А ты, Александр Никоныч, поди, и не помнишь, какие они, эти твои хоромы-то». Нет, помнил. Помнил он родные вятские края той памятью, что не в молодости сильна и даже не в зрелости, а на переломе к старости, и, чем круче под гору, тем живее и ярче.
Десятилетия минули, как беспоместный дворянин Александр Никонович Лопатин кончил курс вятской гимназии, потом – словесного отделения Казанского университета; в Казани и учительствовал. Ни усов не носил, ни шпорами не звенел, ни саблей не гремел, да вдруг и выказал спокойное мужество, хладнокровную распорядительность, поразив и лихого полицмейстера, и трубно-басистого брандмейстера: когда гигантский пожар гулко изничтожал приволжский город, учитель Лопатин спас гимназическую библиотеку.
Потом его определили в Нижний. Он уже был женат на Софье Ивановне Крыловой, он уже был отцом новорожденной дочки. В сорок пятом появился младенец мужеского полу – увесистый крикун, нареченный в честь гётевского героя Германом.
Александр Никонович возделывал педагогическую ниву, служил инспектором нижегородской гимназии, инспектором тамошнего дворянского института, но семья росла, а нива кормила скудно, и пришлось подаваться «с милого севера в сторону южную» – в той стороне были вакансии и привилегии.
В Ставрополе еще веяло бивуачной неукорененностью, эхом покоренья Кавказа, няньки пужали неслухов не бабой-ягой, а букой Шамилем. Оседал в городке-форпосте народ пришлый, что называется, наплывной, разноплеменный – и степняки, и кавказцы. Тон задавали мундиры чиновничьи, армейские, казачьи.
Астраханец – колючий ветер – порошил азиатской пылью. Летними вечерами под липами Николаевского бульвара играла полковая музыка. В Воронцовском саду, посреди каштанов и орешников, был пруд, его чистую гладь морщил плавный ход лебедей. Троицкий собор светлел пятью куполами. А вдали розовел двуглавый Эльбрус.
Александр Никонович с годами дослужился до председательского кресла, до чина действительного статского. Смеялся: «Когда я поступил в гимназию, меня аттестовали так: «Способности хорошие, поведение хорошее, успехи слабые и плохие». А я, вишь ты, в генералы вышел». Казенная палата ведала сбором налогов прямых и косвенных. Это сулило доходы и «прямые» и «косвенные». Александр Никонович довольствовался жалованьем. Вспоминал «Тимона Афинского»: «Человек может стать честным в любое, самое скверное время».
Честность глаза колет. К Александру Никоновичу братья чиновники относились так же, как Вольтер относился к богу: кланялись, но по душам не беседовали. Исключением был директор гимназии Неверов.
И по должности, и по имени – Януарий – надлежало ему глядеть январем, а у Лопатиных расцветали: «Нынче к нам Май Михалыч пожалует». Александр Никонович восхищался: «Идеалист и вместе практик!»
Неверов любил музицировать на гармонионе, подшучивал над своим гимназистом: «У тебя слуха не больше, чем у фаршированной щуки». Все смеялись. Герман тоже. Он понимал шутки. А директор понимал Германа – удаляясь из гостиной в кабинет Лопатина-старшего, Януарий Михайлович взглядом приглашал гимназиста.
Герман затаивался в уголке. Он готов был часами слушать собеседников. Не в обиду будь сказано, слушать Неверова было интереснее, чем отца. Тех, кого отец почитал «солью земли русской» – Станкевича и Грановского, Белинского и Тургенева, – Неверов знал коротко. Знавал и Бакунина, с ним вместе посещал некогда лекции в Берлинском университете. Переписка Станкевича была издана, книга стояла на полке в отцовском кабинете. Герман гордился Неверовым. Тот снимал круглые очки, отводил в сторону руку с очками и, умеряя восторги его, усмешливо сообщал: в кружке Станкевича двое оказали друг на друга особенное влияние – он, Неверов, удалил от кутежей будущего профессора истории Грановского, а последний удалил от беллетристических претензий будущего скромного педагога.
* * *В высоком небе плавал коршун.
Жандармская тройка летела в Ставрополь.
Будто дождавшись Германа, дождик стал сыпать не переставая. Не было отрады ни в голубом запахе свежего домашнего белья, ни в запахе вербены, маминых духов.
Поднадзорность сына больно огорчила Александра Никоновича. Герман рассказал про «Рублевое общество», про Екатерининскую куртину, а про Ниццу и Герцена не рассказал, не потому, что об этом не узнали жандармы, а как бы из нежелания смягчить отца, уважавшего Искандера.
Софья Ивановна очень сердилась на петербургское начальство – ее мальчика мучить в тюрьме, словно разбойника с большой дороги! Но в ее огорчении, в ее слезах не было страдания. Мальчика не отправили в сибирскую тьму кромешную, а дома и стены помогают. Вот ведь губернатор не оставил мальчика без призора, должность дал, какую не каждому дают, такие, как Герман, не валяются, пойди-ка поищи.
Ставропольский губернатор и вправду был добрая душа, не чуждая либеральным веяниям. Он определил ссыльного чиновником для особых поручений. Молодой человек владеет пером, и он, Властов, станет поручать молодому человеку составление докладных записок, адресованных кавказскому наместнику. И не будет докучать обыденной канцелярщиной. А шестьсот рублей годовых обеспечат юноше некоторую независимость.
Все было так. И все было не так. «Не осенний мелкий дождичек брызжет, брызжет сквозь туман, слезы горькие льет молодец на свой бархатный кафтан…» Будто маешься на каком-то разъезде, где не то что курьерский, но и пассажирский не останавливается. Книги валились из рук. Герман не писал ни в Питер – Негрескулам, Даниельсону и Любавину, ни в Москву – Феликсу. Маялся, как на мокром полустанке, пока осень не скончалась скоропостижно, пока не взыграла молодая метелица. Прошлась она наискось, будто перебеляя исчерканный дождями черновик, и повалил, повалил надежный снегопад.
Широкий путь перекрыт шлагбаумом? Но есть и «врата узкие». Отец служил когда-то, в Казанской библиотеке, соединяя благоговение перед литературой с прибавкой к учительскому жалованью. Здешняя библиотека помещалась на Николаевской, во втором этаже купеческого дома, занимала шесть комнат, хранила не бог весть какое книжное собрание, зато в комплекте едва ли не вся русская периодика.
Младший чиновник для особых поручений Лопатин находился в канцелярии не «от» и «до», а – спасибо начальнику губернии – сколько душе угодно. И потому библиотекарь Лопатин мог и в библиотеке обретаться тоже сколько хотел. В чиновничьих гнездах смотрели на него так, словно он не очень-то красиво нашалил. А сюда, на Николаевскую, слетались, будто на маячный огонь, гимназисты-старшеклассники той самой гимназии, где не столь уж и давно господин библиотекарь учился при Неверове, теперешнем попечителе Кавказского учебного округа. Но главное-то вот что: господин библиотекарь – кандидат университета, политический ссыльный, побывавший в заточении. И они спешили к Герману Александровичу, гимназисты-старшеклассники, а за ними и семинаристы тайной побежкой – увлечение светской словесностью не поощрялось.
Не так уж и много было книгочеев. Куда меньше, чем в петербургской императорской. Ну что ж, думал Герман, арифметика арифметикой, а ведь какая духовная жажда. Да и арифметика, ежели вникнуть, особенная. Не столица, а провинция поставляет рекрутов. Не из провинции ли и Белинский, и Чернышевский, и Добролюбов? У властей забота – взрастить для своих нужд неинтеллигентную интеллигенцию. Отчего бы и в этом смысле не противоборствовать властям?..
Противостояние требовало пополнения книжных фондов; мешала скудность средств, отпущенных на библиотечные нужды. Герман подумывал о займах у соседей: в том же доме помещался губернский Статистический комитет, располагавший солидной библиотекой. А в комитете главной пружиной был Бентковский. К нему-то и следовало обратиться.
Лопатин-старший сказал Лопатину-младшему: я поговорю с Иосифом Венедиктовичем; уверен, он согласится охотно – человек в высшей степени достойный, хотя и нелюдим. Впрочем, прибавил Лопатин-старший, ничего нет удивительного: не судьба, а судьбина.
* * *В здешних краях Бентковский появился задолго до переселения Лопатиных в Ставрополь. И появился не своей волей: он участвовал в польском восстании тридцать первого года. Бентковский долго тянул солдатскую лямку. Служил отлично, прослужил лет пятнадцать, а выслужил лишь сотника и подал в отставку. Вот уже лет шесть-семь был он действительным членом Статистического комитета. Начальство не жаловало: не умел и не хотел Бентковский составлять такие справки и поставлять такие сведения, каковые оному начальству были бы по душе. Польский гонор, сердилось начальство, эка штука малость подправить цифирь, так нет, хоть кол на голове теши.
Поджарый, с бритыми впалыми щеками, высушенными кавказским солнцем, вислоусый, был он хмуро-замкнутым, и его вострые, быстрые глазки улыбались лишь тогда, когда обращались на жену, кругленькую, моложавую хлопотунью. «Осенька, не желаете ли покушать?» – она всегда говорила ему «вы».
Отжив без малого сорок лет в изгнанье, давно присургученный к здешнему краю и вросший в здешнюю жизнь, он, случалось, задумывался, прикрыв веки и коротко, сильно подергивая длинный ус. В такие минуты Бентковский переносился мысленно в свою дорогую «ойтчизну».
За годы изгнания он встречал немало людей, мысливших честно и здраво, понимавших его оскорбленную тоску по родине, но даже они, как полагал Бентковский, не умели принять то, что он называл «польской идеей». Такие, как Дибич или Паскевич, покорители и разорители, были не в счет. Другое. Вот хоть это, русское: предназначение наше спасти мир. Или там, на Западе, устами мужей философии: германцы избраны возвести мир на вершины культуры. Предназначение – избранничество: две стороны одной медали. Он, Иосиф Бентковский, и теперь, после сорокалетнего изгнания, ощущал себя каплей польского ручья, не желавшего сливаться ни с каким морем.
«Польской идеей» не делился губернский статистик с младшим чиновником для особых поручений. Молодой Лопатин умен и честен? Молодой человек политический ссыльный? Собрат по судьбе? Да. Но он русский и потому не примет «польскую идею».
В библиотечных же заботах Герман стакнулся с Иосифом Венедиктовичем. И, поладив, уже, что называется, приватно наведывался на Госпитальную, в каменный дом, нижний этаж которого занимали Бентковские.
Ну что ж, Иосифу Венедиктовичу был интересен этот молодой человек. Герман Александрович, оказывается, сопрягал статистику с точными науками, усматривал в статистике инструмент познания основ народного уклада, то есть видел то, чего не видели и видеть не желали ни чиновники-кроты, ни насмешники-глупцы, и это было приятно и лестно Иосифу Венедиктовичу.
За какие прегрешения угодил в ссылку этот кандидат Петербургского университета, хмуро-замкнутый Бентковский не старался узнать. Он в свою душу никого не пускал и сам не любил вламываться в чужую. К тому же, не без некоторой презрительности, думал, что тут причиною какое-нибудь студентское буйство. Пошумят о корпоративных правах да и поплатятся административно, проклиная и себя, и своих коллег, таких же желторотых, как они сами.
Услышав о «Рублевом обществе», которое, по словам Германа Александровича, вовсе не намеревалось учинить буйство, а намеревалось заняться неспешливым и строгим изучением материальных условий низших классов, Бентковский глянул на молодого человека с еще большим интересом и симпатией.
Как бы даже и неприметно, тут-то, на Госпитальной, и возникло у них что-то похожее на отделение Ставропольского статистического комитета, а вместе и похожее на учебный кабинет, некое, стало быть, доморощенное учреждение, где один был внимательным, пытливым слушателем, а другой занимал профессорскую кафедру. При этом слушатель особенно усердно налегал на поземельные отношения и переселенческое дело (в губернию переселялись прибалтийские крестьяне), а профессор ради такой оказии не тяготился приносить из Комитета пухлые связки бумаг. Он даже сказал, что вот-де нет худа без добра: они его, то есть Германа Александровича, в ссылку угнали, а он, Герман Александрович, все же действует в духе «Рублевого общества». Лопатин нашел сей довод и приемлемым, и утешительным, прибавив, что он и сам порешил так в отношении своей должности при начальнике губернии.
Что же до «польской идеи», то Герману, честно сказать, очень было желательно потолковать о восстании, разразившемся несколько лет тому в Царстве Польском и повторившемся совсем недавно в сибирской дальней стороне. Да, желательно. Но Герман не решался. Нет, он не угадывал, не чувствовал отчужденности, укоренившейся в Бентковском, а попросту боялся бередить старые раны. Правда, он как-то помянул Герцена, поборника польской свободы, и сказал о Бакунине, осуждающем самодержавие, которое штыками своих рабов давит и гасит искры самосознания. Помянул и сказал, но Иосиф Венедиктович, прикрыв глаза и откинувшись в кресле, не проронил ни звука.
Между тем эта самая «польская идея» поздним зимним вечером постучалась в дом на Госпитальной. Увидев двух изможденных, замерзших и оборванных людей и тотчас признав компатриотов, Иосиф Венедиктович смешался: надо же такому случиться – у него был Лопатин.
Да, это были земляки, варшавяне, это были ссыльные, их нынче конвойно доставили в Ставрополь, но не из Царства Польского, а из Сибири, из Иркутска, доставили и отпустили, живите, мол, как бог даст. Вот они и пришли к пану Иосифу, про пана Иосифа им сказала молоденькая пани Чайковская. Иезус-Мария, они не попрошайки, нет, нет, но если пан Бентковский…
Как многих нерусских, служивших в русской службе, годы приучили Иосифа Венедиктовича к той особенной, внутренне для него болезненной, холодности, с какой он подчеркнуто держался с соплеменниками. Тут странно соединялась осторожность человека, не желавшего рисковать своим положением, с беспристрастием, которое, как ему казалось, скорее обратит милость начальства на его, Бентковского, земляка. А еще в этой холодности был яростный отпор шуточкам-прибауточкам на тот счет, что вот-де все они, полячишки треклятые, так и цепляются друг за дружку, один присосался, глядь, и второй рядышком прилип, шуточкам-прибауточкам далеко не беззлобным. Они оскорбляли Бентковского, его достоинство, честность, его безукоризненное отправление служебных обязанностей.
Замешательство Иосифа Венедиктовича не укрылось от Лопатина. Он не удивился, а подумал, что бывают такие обстоятельства, когда присутствие гостя нежелательно, и потому без всякой обиды решил откланяться, но Бентковский, как бы даже и приосанившись, удержал его. Удержал с подчеркнутой решительностью, давая понять, что ничего особенного не приключилось – землякам некуда деться, надобно обогреть, накормить и все такое прочее. И ему, Бентковскому, право, будет приятно, если Герман Александрович отужинает в компании скромных полячишек. Он нарочито выделил голосом – «полячишек», но эту нарочитость Лопатин пропустил мимо ушей, у него свое на уме было.
Братья Казимеж и Юзеф – белобрысые, остроносые, с большими плоскими подбородками – выросли за Вислой, в Пражском предместье Варшавы. Один работал по кузнечному делу, другой – по слесарному. И оба – по оружейному. Последнее – после разгрома восстания шестьдесят третьего года – ввергло братьев в четвертую категорию, то есть в категорию лиц, заподозренных в помощи мятежникам. Такового подозрения было совершенно достаточно для этапного путеследования с запада на восток. Сибирскую ссылку Казимеж и Юзеф отбывали на казенном чугунолитейном заводе.
Присутствие русского пана весьма стесняло кузнеца и слесаря, а то бы они напрямик выложили пану Бентковскому, что и там, в ссылочном своем положении, не только казенную работу работали, но опять-таки были в четвертой категории, пособляя тайному вооружению храбрых соотечественников, подъявших боевую хоругвь на сибирской кругобайкальской дороге. О-о, они бы порассказали пану Бентковскому, как наши дрались… Ну да, понятно, с кем это там, в тайге, дрались. Впрочем, всё, всё они потом непременно расскажут пану Бентковскому, непременно… Так вот, в последнее время они очень недурно пристроились близ Иркутска: от заказов не отобьешься, искусные руки в цене, там они, Казимеж и Юзеф, с русскими ладили. Иезус-Мария, они готовы поклясться на распятии: ничего злого и в помине не было. Так нет, господин Купенков, майор корпуса жандармов… Да простит пан Герман, господин не из лучших людей на земле… (Пан Герман изволил заметить, что он в этом ничуть не сомневается, хотя упомянутого господина не имел чести знать.) О-о, пусть небо убережет пана Германа от такого знакомства! Так вот, его высокоблагородие поставлен надзирать за всеми политическими, и он таки надзирает день-ночь. И он таки старается избавиться от тех, за кем поставлен надзирать. Казимеж – а говорил больше он, Юзеф кивал и поддакивал, – Казимеж стремительно соскочил на польский, кулаки его сжались, он побледнел… Иосиф Венедиктович, не отрывая от него глаз, объяснил Герману: от времени до времени этот самый майор прохаживается как метлой, выметая поляков из Иркутска и окрестностей, отправляя в самые гибельные углы, а иногда и вовсе долой из Сибири, вот так, как Казимежа и Юзефа.