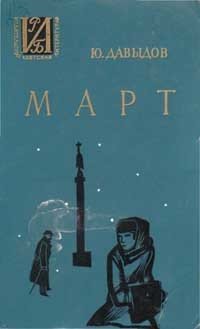полная версия
полная версияСоломенная Сторожка (Две связки писем)
Из Женевы Нечаев поехал в Москву.
Был август. Приспел яблочный спас. Над городом мягко светилось белое облако. В библейский день преображения из белого облака раздался глас повелительный: «Его слушайте!»
Патриархи – Бакунин и Огарев – благословили Нечаева. Витал над ним женевский глас: «Его слушайте!»
(Прощаясь, Бакунин обнял Нечаева: «Вот какие люди-то в России, а?» Огарев салютовал пенковой трубкой. У Нечаева был мандат: «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза». Мандат, подписанный Бакуниным. И была у Нечаева тетрадь: «Катехизис революционера». Тетрадь, начатая еще в Питере, законченная в Женеве. Нечаев был готов к созданию «Народной расправы». За его спиной неслышной поступью шли высыхающие мальчики. Время фразы кончилось, наступило время дела.)
С торжища у Сухаревой башни веяло антоновкой. И антоновкой веяло из садов и погребов Первой Мещанской. В мезонине у четы Успенских угощали Нечаева яблоками. Он надкусывал с хрустом, белый сок вскипал.
Ничего не скажешь, красивая парочка. Этот хоть сейчас на картину: «Ушкуйник». Или «Опричник». А Шурочка… Мимоездом, прошлой зимой, при первом знакомстве она показалась Нечаеву дурнушкой. А нынче-то разглядел! Лоб высок и чист, темные волосы густы и чуть вьются, нос тонок и прям, вся дышит отвагой. Ничего не скажешь, хороша. И можно было б позавидовать супругу, когда бы супруга-то не того-с, не брюхата. Наше дело прямое, страшное, беспощадное, а в этом чистеньком мезонинчике, где патриархально пахнет антоновкой, не сегодня завтра: «агу-агу».
На Успенского, приказчика книжного магазина, пристанище радикалов, Нечаев ставил свою первую московскую карту. Почин был дорог. И Нечаев встревожился, как бы Успенский не попятился.
Опасения усилились, мешаясь с желчью, когда тот не согласился с формулой: любить народ – значит водить народ под картечь. И не очень-то склонялся признать, что розы социализма расцветают, лишь орошенные кровью… Но вот глянул просвет в тучах: давно пора, полагал Успенский, давно пора упразднить словесный гомон в кружках саморазвития да и шагнуть широко в прямое дело. А прямое дело – вот оно, желанное! – прямое дело, поддакнул Успенский, в революционном заговоре.
Лицо Нечаева приняло отрешенное и жесткое выражение, он показал мандат: «Податель сего…» Объяснил кратко, но значительно: Всемирный союз есть не что иное, как Интернационал, Международное товарищество рабочих; русский отдел возглавляет Бакунин, а Нечаев уполномочен действовать в пределах империи. Успенский порывисто поднялся, Шурочка, притаив дыхание, смотрела на Нечаева.
– Теперь это, – сказал Нечаев. И медленно выпростал из внутреннего кармана тетрадочку. – Писано Михаилом Александровичем Бакуниным. Потом зашифровано. Называется: «Катехизис революционера». – Он осторожно опустил тетрадь на стол, прикрыл ладонью с растопыренными пальцами, нахмурился и стал отчетливо, как диктуя, произносить заповеди: если ты революционер, рви со всем образованным миром, с его нравственностью и условностями; если ты революционер, подави в себе все чувства родства и дружбы, не признавай ничего, кроме холодной страсти к нашему общему делу; если ты революционер не совсем посвященный, то есть второго и третьего разряда, гляди на себя как на часть капитала, отданного в безотчетное распоряжение революционера первого разряда; если ты революционер, соединись с диким разбойным миром, зубодробительной силой всероссийского мятежа…
Успенский выслушал стоя, как гимн. Нечаев понял: промаха нет. И не дрогнул, услышав:
– Обдумать надо. У меня, Сергей Геннадьич, правило: ежели приму в принципе, тогда уж хоть каленым железом.
– Конечно, – сказал Нечаев. – Я вижу, вы не из болтунов.
Он льстил, сознавая, что «Катехизис» уже принят Успенским. И, не колеблясь, прибавил:
– Это будет храниться здесь, у вас. Теперь вот что. Нам нужен человек… Коль скоро разбойный люд, преступный мир есть главный рекрут революции… Вы понимаете? Нам нужен вербовщик. Я его не знаю, но я знаю: он есть, должен быть.
* * *Иван Гаврилович Прыжов тихо и трезво отдохнул в кущах Кунцева, у издателя Солдатенкова, и теперь возвращался домой, на Мещанскую, в Протопоповский переулок. До Садового кольца извозчика подрядил – при деньжонках был, спасибо издателю Кузьме Терентьичу.
От Садовой-Триумфальной двинулся Иван Гаврилович пешей ногой: ласковый день выдался на яблочный спас, благодать. И, как на заказ, высоко и мягко светится белое облако… День ласковый, в кармане не вошь на аркане, в любое заведенье загляни: «А-а, – осклабятся, – Иван Гаврилыч, милости просим». Но именно потому, что волен он был спросить графинчик, и оттягивал удовольствие. И еще потому, что ах как желательно было предоставить своей благоверной все сполна. Благодушествуя, шел Иван Гаврилович Прыжов по родимой белокаменной, где прожил ни много ни мало – четыре десятка.
Отец его, ополченец двенадцатого года, служил в Мариинской больнице сперва швейцаром, потом – писарем. Больница была огромной, назначалась она бедным. Прыжов помнил ее вновь выстроенной, еще не воняла гнойными рубищами. Жили Прыжовы рядом со флигелем лекаря Достоевского. С лекарскими детьми он и в жмурки, и на салазках. Нет, не со всеми лекарятами, с Федором Достоевским дружбы не было. Коренастый, плотный, а лицо болезненное, бледное, этот Федор-то, видать, уж и тогда чего-нибудь да сочинял.
Летом отсылали Ванюшу в Середниково, по Петербургскому тракту. Они, Прыжовы, все были середниковские, помещика Столыпина тягловые души. Село лежало под горой. В нагорном доме с бельведером гостил юный Лермонтов. Много лет спустя Прыжов сумрачно сказал: кнут гулял по плечам моей тетки и моего дядьки. Ему было по сердцу лермонтовское: «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет». Думал: догрызть бы дворянскую кость, а тогда и помереть можно.
Бледный лекарский сын Федор Достоевский со двора Мариинской больницы до эшафота и каторги путь свой проторил. Ну а ты далеко ль уйдешь, отпрыск бородинского ветерана? «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» А может, и даром? Ах, промашку Бонапартий дал, вольную бы объявил, оно, глядишь, и не грянула, а?
Он был «самодельным». Не потому, что проюлил в регистраторы казенного присутствия, в канцеляристы частной железной дороги, а потому, что сам себя образовал. К крепким напиткам слабый, был он крепок в познаниях; Стороженко, профессор, высокого ума человек и сердечной задушевности, предрекал: «Вы, Иван Гаврилыч, одарены способностями послужить нашей бедной родине».
Предметом его были филология, история, этнография. Он не ходил «за три моря» – ходил по проселкам коренных, срединных губерний. Писал о нищих на святой Руси, о юродивых на святой Руси, о кабаках на святой Руси, писал грубо, отвергая святость Руси. И посему был нищим на святой Руси. В смазных сапогах и ветхой поддевке, стараясь не дыхнуть перегаром, кланялся издателю деревянно и высокомерно, в высокомерии таились застенчивость и надежда.
– Не купите ли у меня эту штуку? – спрашивал он, разворачивая тряпицу и покачивая на ладонях рукопись.
– Кому же она принадлежит, почтеннейший?
– Это мой труд, – отвечал он, выставляя ногу вперед: вот так-то, дескать, мой труд, да-с.
– М-м-м, – недоумевал издатель, всматриваясь в испитое лицо посетителя. – Хорошо, хорошо, оставьте, я посмотрю. Ваш адрес?
– А уж этого-то я вам указать не могу-с, – отвечал Прыжов не без вызова. – Не могу-с, ибо нынче в ночлежке, а завтра, извините, под забором.
Жизнь свою называл он собачьей: как на уличного пса клацали на него зубами псы домашние – цензура. Писал Прыжов одержимо, печатали Прыжова с удержом. Нынче-то вот пофартило: издатель Солдатенков, Кузьма Терентьевич, не только принял «эту штуку», но и денег наперед выдал. Ходи-гуляй, Иван Гаврилыч Прыжов, пропусти одну-другую и своих закадычных угости, они с тобою последним делятся, ну и ты не скаредничай.
Над Сухаревой башней реяли ласточки. Высоко в густо-синем небе стояло пухлое белое облако. Хорошо! Вот что, сказал себе Иван Гаврилович, навести-ка ты, брат, Успенских. Александра-то Ивановна не очень тебя жалует. Баба, будь она и трижды стриженная нигилистка, а не имеет снисходительности, понять не может – как честному литератору без кабака. Вот так-то, милая Шурочка. Об «темном царстве» читать – это пожалуйста, голытьбой очень даже жарко интересуетесь, а того смекнуть не умеете, что про нашу голытьбу натурально ничего не напишешь, коли от тебя хризантемой пахнет. Ладно, зайду к Успенскому, умственный малый Петруха.
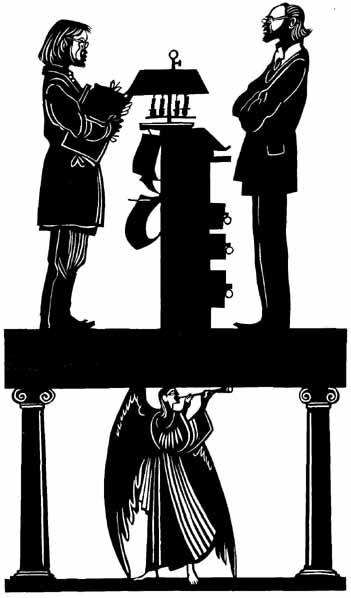
Экой, нашенский, рассиялся всеми морщинками Прыжов, увидев Нечаева. Тот сразу взял с ним тон младшего брата. Так не говорил ни с Бакуниным, ни с Огаревым. И хотя наперед сообразил, какая выйдет польза от Ивана Гавриловича с его обширными знакомствами в «низах», все ж не лукавил, а если и лукавил, подыгрывал, то как-то иначе, чем, бывало, с другими, – добродушнее.
Продолжительно и не однажды беседовали они уединенно. И здесь, на Шурочкиной кухоньке, и в прыжовской полуподвальной конуре, где мирно сосуществовали приблудные коты и дворняжки. Прыжов проникся к Нечаеву щемящим ласковым чувством, аж в горле першило. Вот, думал, до семнадцати годов аз да буки – Нечаев прилгнул, что совсем-де недавно грамоту одолел, нищетой-де был заеден – да-а-а, до семнадцати, а теперь хоть по Кантовой «Критике чистого разума» экзаменуйте, покажет кузькину мать. Фью-и, судари мои, шире рты разевайте: вот оно, дитя народа!
Иван Гаврилович молодел, заряжаясь его жаждой действия. Ну, ликовал, ни дать ни взять лейденская банка с электричеством. Когда ест, когда спит? Вечное движение! Спозаранку – в Петровское-Разумовское, затемно, глядь, опять в городе. И в чем только душа держится – хоть с ложки корми. Притулится в уголку, уронит голову, не то мгновенным сном сражен, не то потерей сознания, а рукою-то, рукою поводит, что-то шепчут запекшиеся губы.
Да, весь движение, весь энергия, Нечаев вербовал в «Народную расправу». Ему требовалось не просто пополнение, а геометрическая прогрессия. Он сознавал краткость отпущенного срока. Он физически ощущал утечку времени. Хотя на дворе был шестьдесят девятый, каждая неделя близила весну семидесятого, когда поднимется, непременно поднимется мужицкая Россия. Печать «Народной расправы» изображала топор; на печати «Народной расправы» была вырезана эта багровая дата: «1870».
Принципы «Катехизиса», те, что крушили ветхую мораль ветхого мира, он возвещать не торопился. Главным было сплотить и увязать организацию: пятерки-ячейки, замкнутые в отделения; отделения, подчиненные Комитету. Каркасы и скрепы держались на краеугольном: в тебе совесть жива – жми плечо к товарищу. Не лезь в наполеоны, обратись в нуль. Нули – колеса, а на колесах все катится. Делай, что велит Комитет. И ни при каких обстоятельствах не усомнись в правоте его и святости. Отсутствие сомнений есть присутствие веры.
Нечаев обладал логикой, которую называют железной. Топором «Народной расправы» он работал как плотник. И никого не умасливал, и никого не принуждал, никого не упрашивал. Только хлестнет, как нагайкой: «Эх, бары, все бы вам растабары! Не умеешь, сопливая душа твоя, быть солдатом революции, не можешь смирить барское своеволие, ну и отойди, и сгинь, и не мешай».
С яблочного спаса немного минуло, а в «Народной расправе» уже сыгрался квартет.
Успенский хранил «Катехизис» как ковчег завета. В книжный магазин наведывались неофиты и, честно кругля глаза, рекомендовались готовыми ко услугам. Успенский каждого словно на зуб пробовал, приглядывался, как ремонтер на конной ярмарке.
Прыжов не просил снисходить ни к годам своим, ни к занятиям. У знакомых писарей стибрить казенные бланки или вид на жительство? Можно. Настрочить зажигательную прокламацию и тишком у приятеля-типографа тиснуть? Извольте. Но самое важное… Сказано: «Соединимся с лихим разбойничьим миром, истинным революционером в России». Лихой этот мир знал Прыжов не плоше знаменитого сыщика Путилина. Прыжова привечали в харчевнях, в ночлежках, там, где клубилась забубённая отвага: «А! Гаврилыч, наше вам! Дай алтын на почин». Давал и сверх почина, а дело-то не шибко двигалось. Что ж прикажете рапортовать Сергею Геннадиевичу? А тот, спрашивая, как подсказывал: «Ну, дюжина, другая будет?» Прыжов вешал голову. «Будет! – твердо объявлял Нечаев. – И не тужите: лучше меньше, да лучше».
Алеша Кузнецов, студент Земледельческой академии, уж на что увлечен был своей диссертацией – нет, отложил, отставил. Какие, к чертям собачьим, «Низшие вредители в сельском хозяйстве», коли речь о высших? У своего батюшки, купца, денежки получал (наука жертв требует) и все до копеечки – «Народной расправе»: так, дескать, и так, велено было здешних толстосумов раскошелить, я и раскошелил. Был Алеша честный малый, а получался обман. Но ведь прав Сергей Геннадиевич, прав: ложь – не ложь, ежели ради организации, ради идеи.
А потом замелькал некий Колька. Откуда взялся губастый юнец? Нечаев аттестовал его ревизором Комитета. Чего он ревизовал, никто не знал и не дознавался. Он был тенью Нечаева, глядел на него с бессловесным обожанием.
Все дольше пропадал Нечаев в Петровском-Разумовском: четыреста с лишним студентов – это ль не котел, готовый взорваться?!
Вот уж лет пять как в старой, вельможной усадьбе учредили Академию земледельческую и лесную. И усадьба, и вся округа не уступали Кускову с Останкином. Но там – все в прошлом, а тут – новина.
Академия помещалась в бело-розовом здании с башенкой. Была какая-то лабораторная красота в больших окнах, разделенных на квадраты выпуклого стекла. Утреннее солнце золотило один фасад, вечернее багрянило другой, обращенный к цветникам, к широкой аллее.
Наука и практика взялись тут об руку: учебные аудитории и кабинеты в главном здании, окрест же – и опытное поле, и плодовый сад и ботанический, оранжереи и питомники, ферма, огороды, пасека. Обширные лесные дачи – здешняя, Петровская, и в недальней стороне Всехсвятская – обнимали огромное, ухоженное хозяйство, призванное поставлять России агрономов и лесничих.
Весь здешний уклад, весь строй ученья с его геодезией и технологией, ветеринарией и скотоводством, физикой и метеорологией, воздух полей и леса, дух пасеки, шум воды на плотине, житье за плотиной, на Выселках, в рубленых крестьянских избах, удаленность от города – все это придавало петровским студентам особенную корпоративность, независимость, сознание своей необходимости в том обыденном и великом деле, которым была занята большая и лучшая часть России – Россия пахарей.
Студент-петровец запускал бороду, харчился не жирно, был здоровехонек и умел работать любую крестьянскую работу. Но капитальное определялось не бородами и не дубинами, а нутряной причастностью к мужицкому миру и чувством долга, которому без нужды беллетристические гимны Микуле Селяниновичу.
Нечаев быстро смекнул все значение такого «котла». А петровцы не замедлили угадать в Нечаеве человека нелегального, конспиративного. Ему предоставили кров: в проулке у парка темнело бревенчатое строение – студенческие номера. Столовался он в общественной, артельной кухмистерской. Для бесед особливого свойства – через плотину, в Выселки, в закут трактира с дребезгливым грохотом музыкальной машины. Близ трактира всегда стояли извозчики; в случае чего мужики эти, студентам знакомые, умыкнули бы Нечаева либо в сторону Головинского монастыря, либо в сторону села Владыкина – ищи-свищи.
И в Питере, и в Москве, у студентов, Нечаев оттенял свое корневое мужичество. В Петровском помалкивал. Здесь это не произвело бы впечатления. Да и то следовало на уме держать, что вырос-то в красильне, среди кустарей, в поле не хаживал.
В Петровском Нечаев сошелся с Иваном Ивановым. Сближение стоило некоторого как бы щекотливого насилия над собою. Никто не подозревал в душе Нечаева желания нравиться. А желание это – казалось бы, невместимое в проповедь беспощадного разрушения – было ему свойственно.
С Иваном Ивановым очень хотелось сойтись поближе. Тот пользовался дружными, ласковыми симпатиями петровцев, натура у этого угловатого малого с чуть косящими ясными глазами была мирская, общественная, открытая и отзывчивая.
На Ивана взваливали кладь, он сбивал на затылок картуз собачьего меха: «Помилосердствуйте, братцы…» – и тянул, тянул: старшина кассы взаимопомощи, распорядитель студенческой кухмистерской, сборщик пожертвований в пользу арестованных или ссыльных, петровцам зачастую неведомых.
Все это брало время и силы. А Ивану Иванову никак нельзя было ученьем манкировать. Бедняк бедняком, жил он стипендией Лесного ведомства. Отпущено было двадцать, а давали семь: лишь тем, кто успевал по всем предметам. Имел Иван и частные уроки – пестовал в городе двух оболтусов-гимназеров. Стало быть, топай, брат, за десять верст. Бабьим летом еще ничего, а в дождь или метель?.. Но топал. И, получив рублевочки, тишком добавлял то в кассу взаимопомощи, то на артельный провиант.
Еще до очного знакомства он узнал о Нечаеве от Алеши Кузнецова. Услышал: посланец Интернационала, представитель Бакунина, Огарев стихи посвятил… И побег! Побег из Петропавловской крепости… Н-да, это тебе не наш брат доморощенный…
«Народную расправу» Иван Иванов сердцем принял. Недели не минуло – привел под знамена пятерку новобранцев. И тогда явился в Петровское «податель сего – представитель Всемирного революционного союза».
* * *Любил Иван парк и лес Петровского. Посмеивался: москвичам-дуракам Сокольники по сердцу. Побывал он там, праздник какой-то был. Тьфу! Толчея, пыль, смазливые арфистки с бесстыжими глазами. Бублики и чай, правда, отменные, да чайницы, грудастые бабы в малиновых сарафанах, так чадят самоварами – не продохнешь. Э, ни за какие бублики не променяешь Петровское-Разумовское.
Он дня не пропускал, чтоб хоть на четверть часа не забежать в парк и лес Петровского. Душа, говорил, к роднику припадает. Он любил эту громадную клумбу с розами. Запах роз, мешаясь с хвойным, не был тяжелопарфюмерным, был тонок и легок. Любил широкую мощную аллею, плавно ниспадающую в переплеск большого пруда, такого большого, что его хотелось называть озером и не хотелось думать, что пруд рукотворный. Любил дорогу от академической фермы, мимо пчельника и сторожки, через высокие деревянные ворота к изгибу ручья с бутылочным бульканьем, зыбкими пятнами солнца и плывущими ветками, к отороченному камышами прудочку, в двух шагах от которого темнел прохладный грот.
Грот – усадебная затея стародавних времен – был сырым, холодным. Студенты, слонявшиеся по всему парку с литографскими лекциями под мышкой, если и искали уединения, то не в гроте. Ивану же Иванову служил он как бы поворотным пунктом: пора, брат, возвращаться к заботам, к обязанностям.
Короткие прогулки, в некотором роде ритуальные, совершал он с весны до осени, а когда развозило дороги, вступало в силу то, что по-студенчески называлось «сапогов экономии для». А сапоги у Ивана просили каши; бойкая, широкобедрая, белозубая скотница Глаша, Иванова подружка, едва поспевала менять ему портянки. Обувке, просящей каши, и без прогулок доставалось – принадлежала она ходоку, человеку мирскому, к тому же произведенному Нечаевым именем Комитета в руководители нескольких конспиративных пятерок, то есть отделения «Народной расправы».
Но в один из ноябрьских дней Иван Иванов изменил «экономическим соображениям». Возвращаясь из города, где он по великой милости судьбы получил сразу с обоих оболтусов-гимназеров, Иван поддался давнему искушению – купил глубокие кожаные калоши на синей байке, с медными накладками поверх задников.
Он еще спал, когда Глаша все приготовила. Едва Иван проснулся, как ему бросились в глаза жаркие медяшечки на калошах. Вымытые и начищенные сапоги, вдетые в калоши, стояли посреди комнаты. И хозяину новеньких калош ужасно захотелось сделать им пробу. Он быстро оделся, нахлобучил картуз собачьего меха, потоптался на месте и пошевелил пальцами, ощущая, как ногам хорошо и приятно. Он и одну ногу выставил, и другую, рассмеялся, сказал калошам: «Служите честно».
Не шел он, а шествовал привычным маршрутом. Было холодно, с деревьев капало, пахло сыростью, не здоровой, грибной, как еще недавно, а уже простудливой, квелой. Иван миновал серую уснувшую пасеку, услышал шум ручья, но тут, словно бы ни с того ни с сего, словно бы беспричинно, овладело Иваном смутное беспокойство.
Неподалеку от грота он вдруг увидел худенькую фигурку Нечаева, очень удивился, но совсем не обрадовался. Нечаева он не окликнул. А тот, не заметив Ивана, не то чтобы пошел в другую сторону, нет, словно порывом подхваченный, так и полетел и вот уж исчез за черными деревьями. Все это произошло почти мгновенно. И вроде бы примерещилось.
То, что Иван не обрадовался, не окликнул Нечаева, показалось бы странным тем петровским студентам, которые знали Нечаева как комитетчика, а своего Ивана Иванова – одним из застрельщиков «Народной расправы». Но эти студенты не знали того, что знали в ядре «Народной расправы» – и Алеша Кузнецов, от которого у Ивана тайн не было, и Прыжов, и Успенский, и этот бессловесный ревизор Колька: черная кошка пробежала между «подателем сего» и руководителем петровского отделения тайной организации.
Да, кошка… Худого не замышляя, а лишь применяя к «Народной расправе» справедливое, по его мнению, обыкновение, Иван предложил Нечаеву от времени до времени извещать товарищей, на какие нужды расходуются денежные средства, хотя бы лишь те, что добывал именно он, Иван Иванов, именно здесь, в Петровском-Разумовском. Нечаев не вспыхнул, а холодно спросил, уж не подозревают ли его в чем-либо неблаговидном. Иван отвечал отрицательно. Нечаев иронически поклонился. Ежели так, строго заметил он, то я никаких отчетов никому, кроме Комитета, давать не намерен. Иван не обиделся, только пожал плечами. С того дня, однако, нет-нет да и призадумывался он об этом таинственном Комитете.
Вышло еще несколько подобных, не на больших камнях, преткновений, уже обозливших Сергея Геннадиевича, и он порицающе бросил: а вы, Иванов, самолюбивы, мнительны, склонны к пустым пререканиям. Это задело Ивана не шутя. Ни в малой степени не считал он себя ни мнительным, ни самолюбивым, ни пустословом. Поверки ради подступался к коллегам-петровцам с наводящими вопросами. Ответом ему были либо дружеская усмешливость, либо недоумение.
А потом схватились из-за кухмистерской.
Нечаев принес прокламацию с прямым призывом к немедленному бунту. И не ради академических поблажек, нет, определенно политическому. Нечаев – то бишь Комитет, Комитет, конечно! – глядел на бунт как на репетицию: смотр боевых сил. Ивану Иванову затея показалась не то чтобы вовсе несвоевременной, однако несколько преждевременной. Но схватились-то они по другому поводу. Нечаев велел вывесить прокламацию в общественной столовой, а Иван нашел сие непрактичным и вредным.
– Почему? – Узкие глаза Нечаева обратились в разящие лезвия.
– А потому, что нашу кормилицу враз и прихлопнут. Повод достаточный. И, надо заметить, резонный.
– Нечего думать о брюхе! – отрезал Нечаев.
– Верно, о своем брюхе думать нечего. – Иван натянуто ухмыльнулся.
Нечаев выставил кинжально:
– А коли Комитет прикажет?
Кинжальное нечаевское вышиб Иван резко:
– Ко-ми-тет прикажет? А я и Комитета не послушаю, коли вздор.
Нечаев будто пошатнулся от изумления, от гнева.
– Опомнитесь, Иванов, – сдерживаясь, но достаточно угрожающе сказал Нечаев. – Право, опомнитесь. Вам известны наши принципы, вы их приняли, а Комитет…
– «Комитет, Комитет», – в сердцах повторил Иван, пристально вглядываясь в Нечаева. – Ну а я вам так скажу: а не вы ль, Нечаев, и есть Ко-ми-тет?
– Это не так, – с внезапным спокойствием ответил тот. И презрительно спросил: – А ежели б и так, то что же?
Они стояли на плотине. Сек дождь. По выпуклому пруду ходила тяжелая короткая волна. Вода у плотины глухо шумела. Тучи были низкие, все вокруг казалось низким, плоским.
– Что же? – повторил Нечаев, скрещивая на груди руки.
– А то… Очень даже просто: не стали бы мы слушать ваш вздор, а пошли бы своей дорогой.
– Мы или вы?
– Мы, петровские.
– Надо понимать, вы объявили бы собственную организацию?
– Именно так.
– Вот теперь все, все понятно. Собственную организацию и себя главарем. На тех же основаниях, что и «Народная расправа».
– Не ловите на слове, Нечаев. Ловко это вы… Меня ж еще и заставляете оправдываться. А вы отвечайте: есть Комитет иль нет Комитета?
– Изменник, – отрезал Нечаев.
Все это прихлынуло к Ивану Иванову ненастным утром, когда у грота, среди черных деревьев, мелькнула щуплая фигурка Нечаева. Иван не стал гадать, чего он тут бродил, Нечаев, а почему-то сразу и бесповоротно понял, что никакого Комитета нет, лгал Нечаев, напускал туману.