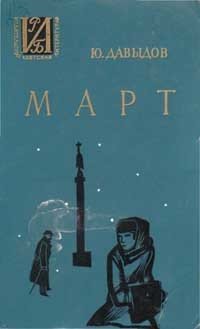полная версия
полная версияСоломенная Сторожка (Две связки писем)
Конечно, пан Чайковский мог бы добиться послабления и для них, тихих, ни в чем не повинных ремесленников, продолжал Казимеж, успокаиваясь, но не всегда и пан Чайковский, благослови его небо, не всегда и он в силах противостоять майору Купенкову уж такой вес имеет, такой вес…
Чайковский, о котором говорили поляки, был старым товарищем Бентковского, и тот слушал, опустив голову, прикрыв глаза и, по своему обыкновению, означавшему мысленный побег в «ойтчизну», крепко подергивая вислый седой ус.
Лопатин определил Казимежа и Юзефа на постой к бобылю Кузьме Косому. Мазанка отставного солдата белела неподалеку от дома Лопатиных. А пробавлялся бобыль справным сполнением двух должностей – истопника и сторожа в библиотеке на Николаевской. Теперь вот сделался вроде бы домохозяином: жильцов пустил. И пошло у тех ходкое дело: лудить-паять, замки починять, – пан Бентковский и пан Герман, не сговариваясь, каждый в отдельности, помогли мастерам обзавестись инструментом.
Раза два-три пан Герман приходил в мастерскую, но не ради заказов. Он заводил речь о некоем Николае Гавриловиче. Фамилия у Николая Гавриловича была польского звука, пан Герман, однако, заверил, что Чернышевский – русский из русских. Не слыхали? Пан Герман и портрет этого пана Чернышевского однажды принес. Не видали? Казимежу с Юзефом страсть хотелось ответить утвердительно. Но, клятвенно поднимая два пальца, мастера виновато и грустно повторяли: «То мы не знаем». И обрадовались, когда пан Герман, вдруг что-то сообразив, стал расспрашивать про пана Чайковского: они могли, наконец, хоть чем-то выказать молодому пану свою признательность, и они могли еще раз, заочно, заглазно, выказать ее старому повстанцу, доживавшему свой век вдалеке от родины, в столице Восточной Сибири. Казимеж с Юзефом готовы были часами говорить об этом Чайковском, и выходило так, что тот – хоть и ссыльный, давно, впрочем, получивший место исправника, – человек в Сибири значительный, с большими связями, чему Лопатин в глубине души не очень-то верил. Они могли часами говорить о славной семье Чайковских, старшая дочь которых принята в доме генерал-губернатора как родная, а младшая панночка… Но при имени этой иркутской Ниночки пан Герман словно бы уходил куда-то в сторону.
* * *Ниной звали и молодую вдову полковника фон Неймана.
Незадолго до знакомства с нею Герман, получив письмо от питерского приятеля, бурно взволновался его брачными проектами. Так взволновался, что решил не просто отвечать, нет, отвечать трактатом «О взаимном отношении полов». Кандидат университета уже определил, что именно подлежало строгому научному рассмотрению: а) брак как удовлетворение полового голода; б) брак как удовлетворение эстетической потребности; в) брак как близость с человеком одинакового образа мыслей. Кандидат университета уже определил и тезисы намеченных разделов. Половой голод? При уродстве общественных отношений его утоляют, встретив «предмет» на Невском или Лиговке. Эстетическая потребность? Изволь ухаживать, не переходя известных границ, за барышнями. Одинаковый образ мыслей? Последнее вряд ли достижимо, так как при любой эмансипации женщины en masse развиты значительно меньше мужчин.
Герман сознавал шаткость своих теоретических выкладок, клонившихся к железному выводу: нет никакого резона жениться. Сознавая эту шаткость, он, однако, уповал на иллюстрации из области физиологии и социологии, истории и литературы.
Изготовившись к бою за свободу и независимость петербургского приятеля, Герман и познакомился с Ниной Александровной – она пришла в библиотеку.
К удивлению, она не оказалась зауряд-вдовицей, скучающей штаб-офицершей: спросила сочинения философа Лаврова. Но она и не аттестовала себя «передовой женщиной», к коим наш библиотекарь питал чувства одного из персонажей Чернышевского: «Терпеть не могу синего чулка!» Ничего от «эмансипе», ничего «нигилистячьего». Пышные тонкие волосы она не стригла коротко и не прикусывала чистыми зубками мундштучок с пахитоской, а полные округлые плечи накрывала не пензенским платком – кутала оренбургской шалью.
Спроси Герман о ее замужестве, она не стала бы уверять, что влачила дни во мраке, а ответила бы, что покойный был добрым, рассудительным человеком, весьма твердых правил, хотя отнюдь не педант. Но ее прошлое не занимало Германа, да и ей вовсе не хотелось ворошить былое, а хотелось жить настоящим.
«Я вас люблю», – произнесла она негромко и повела ладонью по лицу, словно убирая вуаль, и Герман, как впервые, увидел это лицо, спокойное и вместе ликующее, смиренное и вместе решительное. На дворе лепил буран, в доме на Театральной свеча горела и остывал самовар.
Полюбив Германа, Нина очень хорошо понимала, что табель о рангах не предмет его забот и что «узкие врата» там, в библиотеке, ему тесны. Догадывалась: рано иль поздно, скорее рано, чем поздно, Герман совершит «самовольный отъезд». И это ее тревожило, это ее печалило, потому что она не знала, как он поступит с нею. О, хоть сейчас Нина фон Нейман променяла б пенсионное житье на бурную судьбину. И ей, право, без нужды троекратное хождение вокруг аналоя, с нее довольно быть женщиной, любящей и любимой.
* * *Даже и «узкие врата» сужались.
Дело было не в том, что губернатор от времени до времени подтягивал, как говорил Герман, служебный мундштук: пользовался пером кандидата университета или посылал в командировки для решения на месте административных «закавык», как вот недавно, на юг губернии, к переселенцам латышам и эстонцам, которым не давали строиться, где было удобно, и которых нагло обмишурили землемеры. Тут-то как раз Лопатин вроде бы отчасти исполнял программу несостоявшегося «Рублевого общества» – постижение глубинного, повседневного. Нет, «узкие врата» теснили там, где он находил свое, пусть не блестящее, пусть донельзя скромное, общественное поприще, живой материал для выработки интеллигентной интеллигенции, рекрутов крамолы.
Началось с того, что в библиотеку явился благообразный улыбчивый господин. Он не посягал на издания, цензурой дозволенные. Он не подозревал наличия нелегального, цензурой не дозволенного. Но, будучи местным цензором, он почел долгом обнюхать каталоги библиотеки.
А неделю спустя приходит жандармский обер-офицер и очень любезно спрашивает, кто эти молодые люди, уютной беседе коих с господином Лопатиным он столь нецеремонно мешает? Черт дери голубого любезника, он же прекрасно осведомлен, кто эти молодые люди! Ах, да, да, ну как же, как же… Молодые люди выключены из Московского университета – прискорбно, прискорбно, – и они так же, как господин Лопатин, водворены в губернский город Ставрополь. Так вот, господа, по долгу службы я вынужден не допускать разговоры лиц между собою в библиотеке… «Разговоры лиц между собою» – скотина, научись по-русски изъясняться».
Засим припожаловал инспектор гимназии, поклонник изящной словесности, особливо поэзии, отнюдь не ретроград и не гасильник разума; он берет Германа Александровича об руку и доверительно объявляет: получена сек-рет-ная инструкция, запрещающая гимназистам абонироваться в городской библиотеке. Казалось бы, совершенно вразумительно сказано: сек-рет-ная инструкция! А кандидат университета холодно возражает, что сия инструкция ему неизвестна, он и впредь будет допускать гимназистов, а ежели воспоследует соответствующее предписание, то посоветует гимназистам надевать штатское. Каков!
И наконец, для полноты картины, для того чтобы и бурсу не оставить без попечительного внимания, владыка посылает на Николаевскую, к этому атеисту Лопатину, очень строгого иеромонаха. Но строгий монах начал нестрогим попреком: отчего же вы, батюшка мой, даже и на великий пост не приступили к таинству покаяния? Атеист ответил: истинно так, не исповедовался, ибо не грешен, ибо праведен. Ну-ну, сын мой, насупился иеромонах, ну-ну, брат мой… И атеист насупился: ежели сын, так собственных родителей, а ежели брат, так соприсносущих по естеству. И тут уж разговор пошел на ножах. Иеромонах потребовал списки бурсаков, читателей библиотеки. Библиотекарь уперся: нет и нет. Иеромонах настаивал свистящим полушепотом. Лопатин подпустил еще несколько шпилек, но пора уж было унять эту черную рвоту. (Герман так и подумал словами Гарибальди: духовенство – черная рвота.) Он достал ведомость членских взносов и вручил иеромонаху. Ни одной бурсацкой фамилии там не значилось. Ревизор грозно встопорщился. Библиотекарь сокрушенно вздохнул. Где было догадаться посланцу владыки, что этот безбожник к тому же и великий хитрец: взносы семинаристов записывает он не в общей ведомости.
Можно было сколько угодно «сукиносынить» жандармского офицера, можно было сколько угодно разяще блистать очками на гимназического инспектора и потешаться над иеромонахом, эка тот злобно-то прошуршал рясой… Нельзя было избавиться от мысли, что самая мизерная, самая коротенькая работа на общественном поприще невозможна. И нельзя было избавиться от унизительного ощущения: сидишь будто в колбе, о тебе наводят справки, на тебя пишут доносы. Тут не страх был – унизительное ощущение наготы, невозможность оградить свое «я» от ежечасного похабного посягательства.
Еще на пути в Ставрополь Лопатин думал о путях из Ставрополя. Но не потому лишь, что не согласился с решением петербургской Следственной комиссии. О побеге он думал и здесь, дома, в Ставрополе. Но не потому лишь, что надеялся найти modus vivendi3, а нашел casus belli4.
В словах есть смысл, и есть в словах душа. «Свобода» и «воля» по смыслу тождественны, по душе – нет. Желанье свободы приобретается; с жаждой воли родятся, она – род тоски. Все это заключал Герман в прозаическое: «Я не могу сидеть на цепи, как собака».
Прозаизм вплетался в поэтическое – тяга на волю мечтательна. В иные минуты мечтательность достигала такого напряжения, что он почти физически ощущал маршрут и обстоятельства побега: бурый полуденный жар кавказской кручи, грубый запах водорослей, наметанных черноморским прибоем, упругий прогиб штормтрапа, сброшенного с борта турецкой кочермы; контрабандисты выбирали якорь, бушприт вспарывал ночь, нанизывая звезды, как бублики, и он уходил все дальше, дальше, и за какой-то тысячной милей вольная воля поднималась из волн, как солнце… Потом Герман отказался от южного маршрута, стал думать о северном, но суть не менялась – жажда воли, род тоски, свойство натуры.
Однако и реальное требовалось. Реальное, в свою очередь, требовало материального. Его питерский приятель издавал переводную литературу. Герман взялся за толстого немца, нашпигованного тяжеловесными цитатами, как колбаса салом. Чертыхаясь, подсчитывал, сколько выручит за перевод. Приналег на английский, читал Спенсера в подлиннике. Написал в Петербург все тому же приятелю: помните, мил человек, где припрятан мой револьвер? Пришлите. И в придачу сотни две патронов. Надо ж не только набить кошелек, но и руку.
А на дворе гуляли молодые метели, сменяясь туманами, ростепелями, гололедом. Опять зима, и опять в Ставрополе. «Я не могу сидеть на цепи, как собака». Но глупо бежать на зиму глядя. То ль дело в начале лета.
* * *Сторож Кузьма Терентьич корябал пальцем щетинистый подбородок. Засим, кряхтя, надевал видавшую виды шинель с широченным воротом, и это означало, что господину библиотекарю пора шабашить, потому как он, бывший нижний чин Кузьма Косой, пост принял и на часы встал. Их благородие отправлялся восвояси, то есть, ежели секретно, совсем недалече, к госпоже полковнице, барыня из себя, прямо сказать, первых статей.
Старый пластун был приметлив. Однако Кузьма Терентьич не угадал: «их благородие» колебался – идти на Театральную или взять прямиком к дому? Убыли своего чувства Герман еще не сознавал, но уже испытывал какую-то неловкость и неясную вину перед Ниной фон Нейман, что как раз и было признаком этой убыли.
На улице, совсем безлюдной и неосвещенной, ударил в лицо колкий, снежный вихрь, Лопатин едва перевел дыхание, как его рванули за рукав: «Герман Александрович, я к вам!»
Лопатин узнал московского студента, завсегдатая библиотеки, одного из тех троих, которых выдворили из Москвы в Ставрополь, узнал и обрадовался – нечего колебаться, куда идти, а надо пригласить славного малого на чашку чая, и баста.
Приглашение студент, кажется, даже и не расслышал. Он все еще дергал Лопатина за рукав и озирался, озирался. «Что случилось, коллега?» – участливо спросил Герман, машинально понизив голос и словно бы ощущая близость опасности.
Лопатин силком оттащил студента за угол. В затишке студент не то чтобы успокоился, не то чтобы взял себя в руки, а будто вынырнул из омута и заговорил, хрипло, отрывисто, теряя слова и комкая фразы. Потом внезапно точно бы онемел и вдруг вскрикнул: «Это невозможно! Это невозможно!» – и ринулся сквозь пургу, махая руками и едва не потеряв шапку.
Дома Германа не ждали, привыкли к поздним возвращениям; огня не зажигая, на цыпочках он скользнул в свою комнату, но постель не разобрал, не лег, а сел у письменного столика и стал впотьмах курить, жадно забирая дым.
Буран гудел ровным, сильным гудом, буран сотрясал ставни и подвывал в дымоходе, и Герман, думая об убийстве Ивана Иванова, думая о Нечаеве, не расслышал, как подкатили сани с подвязанными колокольчиками и сразу же, след в след, подкатили еще сани, тоже беззвучные.
* * *Его увели после обыска.
Александр Никонович выбежал на крыльцо и высоко поднял фонарь, стараясь удержать сына в бледном пятне света.
– Трогай, – негромко и, пожалуй, грустно приказал жандармский офицер кучеру-жандарму, и все быстро заволоклось мятущимся снегом.
Александр Никонович торопливо обтер фонарное стекло и опять поднял фонарь, не мирясь с исчезновением сына, понимая и не понимая, куда он делся.
Аресты мгновенно выстуживают дом. Не было конца этой декабрьской ночи. И не было слез в незрячих глазах Софьи Ивановны, уж лучше бы зарыдала.
Утром буран лег, звенели ведра, пахло дымом. В разрывах туч проглядывало солнце, возникали голубоватые тени на молодом снегу, но все это, направляясь на службу, видел Александр Никонович будто сквозь темные очки.
О матушка-провинция, проворен твой телеграф… Александр Никонович здоровался с надворными и титулярными, те отвечали; Александр Никонович, однако, тотчас ощутил, как что-то ему мешает, ощутил разреженное пространство и словно бы невидимую перегородку, отделяющую его от прочих чиновников, ему сделалось нехорошо, гадко, а вместе и стыдно, будто его уличили в чем-то неблаговидном, и от этого сделалось еще гаже. Большое бритое доброе лицо его приняло выражение замкнутое и, можно было бы сказать, надменное, если бы надменность хоть в малой степени была присуща Александру Никоновичу. Он поднял плечи и большими шагами, ни на кого не глядя, прошел в кабинет.
Он не притронулся к бумагам – долго сидел неподвижно, опершись локтями на стол и обхватив голову руками.
Устойчивый и строгий ревнитель законов, Александр Никонович ни разу не поскользнулся в своей контрольно-финансовой службе, но он очень хорошо сознавал, что никакой законностью не избыть несчастья, причиненного тайной полицией, и потому, как всякий россиянин, единственную надежду возлагал на протекцию.
С Властовым, статским генералом, считались не только в Тифлисе, в окружении великого князя, наместника Кавказа, которому подчинялась Ставропольская губерния, но и в Петербурге. Административная гибкость Властова припрягла к имперской колеснице Мингрелию. Административная твердость Властова возместила казне недоимки в сотни тысяч. Можно было подтрунивать над его увлечением тонкостями богословия, нельзя было не признавать его одним из лучших в России губернаторов.
Направляясь к статскому генералу, очень его ценившему, Александр Никонович, конечно, понимал, что Германа, как чиновника для особых поручений, не посмели бы арестовать без ведома губернатора. Это обстоятельство смущало Александра Никоновича. Оставалось уповать на какое-то заблуждение: господа из Третьего отделения горазды возводить напраслину.
Губернатор Властов, хрупкая, изящная внешность которого являла странное несоответствие с явственно ощутимой душевной энергией, вышел навстречу Александру Никоновичу и, пожимая руку давнему сослуживцу, участливо осведомился, каково здравие Софии Ивановны. Он не только, что называется, по-человечески сочувствовал горю Лопатиных, но и сам был искренне огорчен арестом молодого человека.
Сравнительно недавно полковник, представлявший в губернии Кавказский жандармский округ, имел с действительным статским советником конфиденциальный разговор, рекомендуя приискать ссыльному Лопатину какую-либо иную должность, не столь близкую к начальнику губернии. При этом полковник как бы вскользь упомянул о том, что некое важное лицо в Третьем отделении говаривало: этот Лопатин когда-нибудь доскачется до того, что его запрут в равелине. Властов, однако, не внял полковнику. Губернатор не усматривал поводов к неудовольствию своим чиновником для особых поручений. Напротив, находил в нем отличного помощника, умеющего вникнуть в сложные, путаные, противоречивые, неясные вопросы и найти им разумное решение. Жандармский полковник на своем не настаивал; сказал то, что считал должным сказать, а так-то, что ж, – полковник вовсе не желал «крови», хотя и получал сведения о подозрительном поведении молодого Лопатина.
И вот внезапный арест. Внезапный не только потому, что Властов и сейчас был уверен в невиновности своего чиновника, но и потому, что его, начальника губернии, не предварили об этом аресте. Он так напрямик и сказал Александру Никоновичу, прибавив, что не замедлит взять необходимые меры.
* * *Карьеру свою нынешний ставропольский губернатор начинал после смерти императора Николая, после Крымской войны и потому не унаследовал от предшественников пожизненного трепета перед голубым ведомством. Властов полагал, что все в равной степени, независимо от цвета мундира, служат престолу и отечеству, не обретаясь в крепостном состоянии у Третьего отделения. Разумеется, корпус жандармов, высшая полиция – существенная и важная часть государственного механизма, но лишь тогда, когда они не ставят палки в другие колеса этого механизма. Господам, озабоченным безопасностью государства, следовало, согласно закону или хотя бы из вежливости, предварить начальника губернии об аресте его подчиненного. Властов, конечно, понимал, сколь многое изменилось после прискорбной каракозовской истории, однако он знал и то, что в ведомстве графа Шувалова введен правопорядок, запрещающий произвол.
Первым движением было писать немедленно на самый верх – графу Шувалову, шефу жандармов и начальнику Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии.
Перо, готовое к бою, нависло над бумагой.
Властов призадумался. С одной стороны, оно конечно, надо бы адресоваться к его сиятельству Петру Андреевичу… Но, с другой стороны, он, Властов, лучше известен его императорскому высочеству великому князю Михаилу Николаевичу, наместнику Кавказа. Ежели Третье отделение объехало на кривой его, Властова, оно тем самым объехало на кривой и родного брата царствующего монарха. Стало быть, и великий князь должен восчувствовать оскорбление. И, стало быть, он, Властов, как бы передоверит протест великому князю. С одной стороны, это, конечно, некий уход в сторону, но, с другой стороны, эдак к цели ближе.
Перо, готовое к бою, уронило на бумагу фиолетовую слезу.
Властов взял другой лист.
Глубоко оскорблен, писал губернатор, арестом моего чиновника особых поручений Германа Лопатина, обращавшего на себя внимание усердием и блестящими способностями; глубоко обижен недоверием Третьего отделения, не предварившим меня о сделании подлежащих распоряжений; моя многолетняя деятельность не дает кому-либо право обходить меня при исполнении служебных обязанностей…
Написал быстро, без помарок, в порыве праведного негодования. Да, быстро, а вот подписывать… Подписывать медлил. Наконец выставил подпись. Однако бумага еще была без адреса. Его императорскому высочеству? Так-то оно так, да ведь все равно барона Николаи не миновать. Барон доложит, барон и ответит, нет, нельзя миновать Николаи… Итак, не погрешив против совести, поступив как должно, действительный статский советник Властов отправил пакет не в Петербург, а в Тифлис. И не наместнику, а правителю канцелярии при наместнике. И сам этот процесс писания, чтения и перечитывания, подписывания и надписывания, вкладывания в конверт, плавки и приложения золотистой сургучной палочки, – все это словно бы впитало, вобрало в себя губернаторскую обиду, и он ощутил что-то вроде сатисфакции. Он мог теперь прямо взглянуть в глаза почтеннейшему Александру Никоновичу: я сделал все, что в моих силах.
Неделю или полторы спустя губернатор Властов получил ответ барона Николаи. «Изложенный в Вашем письме образ действий Третьего отделения, – писал невозмутимый правитель канцелярии, педантичный барон шведского происхождения и долгой русской службы, – постоянно повторяется, особенно в экстренных случаях, что подтверждается следующим примером: недавно была заарестована в Терской области личность без всякого предварительного извещения не только начальника области, но и самого ГОСУДАРЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НАМЕСТНИКА, так что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО известилось об этом уже спустя несколько времени совершенно случайным образом».
Вот так-то, брат, сказал себе действительный статский советник, вот так-то, живи и помни. Живи и помни, где живешь.
* * *Арест не столько ошеломил Германа, сколько озадачил: во чужом пиру похмелье? Поди разбери затейников Третьего отделения – присобачат к заговору нечаевской «расправы» да и расправятся. Уж очень оно карьерно: не единицу прихлопнуть, а заговор обнаружить, к рождеству иль к пасхе крестами осыпят.
Нет, лопатинский арест стоял особняком – в Петербурге перехватили одно из его писем и поняли, что ссыльному осточертело сидеть на привязи. А коли так, отчего бы и не укоротить цепь? Ведь и без этого Лопатина забот хватало. Убийство в Петровском-Разумовском как завесу разорвало – дымился котел ведьм, Нечаев варил адскую похлебку. Но сам-то исчез. Зато пособников брали одного за другим. На Мещанской в доме с мезонином обнаружили списки «Народной расправы». И тетрадочку зашифрованную нашли. И уже корпели над нею дешифровщики Третьего отделения, и уже корчилось в «Катехизисе» такое, что хоть святых вон… Не времечко беспечно глядеть и на умыслы Лопатина Германа.
Обер-офицер корпуса жандармов, тот, что наведывался в библиотеку, тот, что произвел обыск и арестование, этот капитан, обходительный и даже снисходительный, отнюдь, как и его начальник, не жаждавший «крови», пожурил за почтовые откровенности и, предъявив письмо, перехваченное в Петербурге, убедительно просил ответить пункт за пунктом в соответствии с вопросительными подчеркиваниями Третьего отделения.
– Все, что лично ко мне, – сказал Лопатин, – изъясню откровенно. Все, что о других, – увольте! – И съязвил: – Господа на Фонтанке обойдутся без меня.
Сарказм Лопатина капитан пропустил мимо ушей. Главное, ублаготворить начальство – вот перо, вот бумага, пожалуйста, Герман Александрович, с полной откровенностью, вам же лучше будет.
«В письме моем, – разъяснял арестованный, – с совершеннейшею ясностью выставлены мотивы, побудившие меня к отъезду за границу. Я пишу, что уезжаю не с целью занять место между русскими эмигрантами где-нибудь в Женеве, не с целью конспирировать за границею против русского правительства, а просто потому, что подневольная жизнь в Ставрополе опротивела мне до последней степени. Я совершенно не привык и не желал долее сидеть в Ставрополе, как собака на цепи, лишенный права свободно располагать собою и не стесняясь высказывать свой образ мыслей. Конечно, я с гораздо большим удовольствием предпочел бы ехать легальным путем, если б не был уверен, что мне откажут».
Господам жандармам нужна правда? Они получат правдоподобие. А правда, его правда не для господ в голубых мундирах… В ту буранную ночь, когда студент-москвич сказал Герману про убийство Иванова, в ту долгую ночь, когда Герман курил и курил в потемках, а жандармы запрягали коней, в душе его резко и разяще отозвалась строчка: «Ты для себя лишь хочешь воли». Старый цыган осуждал Алеко, да Пушкин-то вроде бы и не осуждал, и эта строчка не звучала для гимназиста Германа так, как прозвучала буранной ночью, – беспощадно и уничижительно. Он вспомнил Ниццу, террасу, вспомнил Герцена, похожего на Сократа, багровую отметину на переносице, и все это вспомнилось лишь оттого, что Герман как бы внезапно, неожиданно для себя осознал сказанное Герценом в осторожном и трудном раздумье: громадные катаклизмы выжигают нравственность, как рощу… Что-то в этом духе, что-то в этом смысле было сказано, да он, Лопатин, словно бы и не придал этому особенного, корневого значения, нет, не придал, миновал не оглядываясь. И вот даже и не то чтобы вспомнилось – факелом начерталось… А Иван Иванов, уронив мертвую голову, ждал…