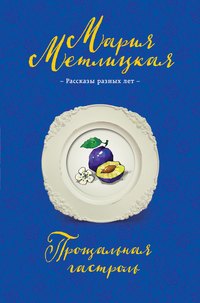Полная версия
Плохой хороший день Алексея Турова
Она смотрела на жующего мамины котлетки Вадика и с тоской думала: «Зачем? Зачем я здесь, рядом с ним? Да и вообще – зачем нам обоим все это надо?»
Но сбежать все же было неудобно. Неудобно перед родителями Вадика – хорошие люди и так стараются. Перед мамой – уж она-то не упустит прокомментировать! Да и перед мужем… Хороший парень, хоть и совершенно чужой.
И все же не выдержала. В конце концов собрала чемодан и ушла, оставив мужу записку: «Прости, дальнейшего смысла в совместной жизни не вижу. И дело тут не в тебе, а во мне. Еще раз прости».
Бывшей свекрови не позвонила – смалодушничала. Конечно, чувство неловкости перед ней испытывала еще долго. Но потом, как водится, и это прошло.
Развелись они тихо и мирно, совсем по-дружески. Вадик, кажется, и не удивился.
Спустя лет десять она встретила его на заправке. Вадик неспешно вылезал из новенького «мерса». «А хорош! – подумала она. – Заматерел, возмужал». За Вадиком, высоким, стройным, широкоплечим, в дорогих очках и модной дубленке, из машины вышла молодая женщина – худая блондинка в коротком норковом жакете, затянутая в узкие кожаные брючки. Ничего особенного, такая, как многие, но очень даже вполне.
На заднем сиденье Рина увидела детское креслице, в нем толстого и румяного малыша, утрамбованного в пестрый, нарядный комбинезон.
Рина выдохнула и поспешила отъехать – окликать бывшего и, кажется, успешного и небедного мужа ей не хотелось. Хотя к тому времени она сама стала успешной и вполне небедной – хорошая должность, большая зарплата. Да и выглядела она замечательно – ухоженная, со вкусом одетая женщина.
Только вот без семьи. Без мужа и без ребенка.
Эта случайная встреча предполагала много вопросов. Врать она не любила, а говорить правду не собиралась.
В институте началась их дружба с Маргошкой. Полгода поглядывали друг на друга в курилке, а заговорить не решались. А когда наконец разговорились, поняли: теперь они подруги на всю оставшуюся жизнь, без вариантов. Только не знали, что жить Маргошке оставалось не так много, увы.
С тринадцати лет она жила с отцом, Вениамином Михайловичем, которого называла Веник. Мать ушла к молодому парню, почти ребенку, своему бывшему ученику. Маргошка о ней никогда не рассказывала, лишь однажды жестко бросила:
– Пустая она, как жестянка из-под консервов: звону много, а внутри пустота. Что о ней говорить?
Маргошка была рада, что мать с новым мужем убрались с глаз долой, черт-те куда, под Новороссийск. Мать она не простила и видеть ее не желала. А вот отца обожала, с Веником они были большими друзьями. Тот так и не женился, чтобы у обожаемой дочки не появилась мачеха.
Веника обожала и Рина. Ах, как весело им было втроем!
– Зови меня на «ты», – повторял Веник. – Или я тебе не друг, Ринка?
Друг, конечно, друг, еще бы! Только вот на «ты» не получалось.
Во всем Рина с Маргошкой совпадали. Во всем. Всё видели с одного ракурса. Удивлялись: такое возможно? В крупном и в мелочах, в важном и в ерунде полное единение и единодушие. Не расставались ни на день. А по ночам болтали по телефону, пока раскаленная трубка не выпадала из рук. Первой обычно засыпала соня Маргошка.
После института было много терзаний – работа на кафедре, возможность аспирантуры, дальнейшая научная работа. Правда, с копеечной, как водится, зарплатой. Ушла. И тут ей, считай, повезло – попала в только-только открывшееся рекламное агентство, тогда это только начиналось – нелепо, непрофессионально, кустарно и грубо. Но, буксуя и тормозя, застревая и проваливаясь в тартарары, набирались опыта. И в конце концов развернулись и раскрутились – к тому времени Рина уже была профи.
Конечно, перетащила туда и Маргошку.
На квартиру зарабатывать не пришлось – квартира у нее была. Просто продала ее, доплатила приличную сумму и купила новую, на Кутузовском. Сделала там такой ремонтище, что, входя всякий раз к себе домой, тихо охала: «Ну неужели мое?»
А одиночество, как оказалось, Рину не угнетало. Работа в рекламе сделала ее жесткой, ответственной, решительной и в чем-то бескомпромиссной, а в чем-то куда более готовой на компромисс, чем была прежде. Разное было в их компании – и подсиживания, и зависть, обиды. И даже страхи. Сколько раз она думала о том, чтобы все бросить и уйти к чертовой матери! Но удержалась. Да и с годами все устаканилось, она приобрела вес и стала начальником отдела, ее уважали, с ней считались – сплетни обходили ее стороной. Работа занимала всю ее жизнь – без этого карьеры не сделаешь. Было, конечно, и все остальное, в том числе два серьезных романа. Первый – с коллегой, как это часто бывает у занятых людей. Но ничего не получилось по причине их невероятной похожести, одинаковости и помешанности на работе – две сильные личности, и, как следствие, расставание. Правда, замуж за него она хотела, что скрывать. Потому что очень любила. Все понимала, но любила и, честно говоря, надеялась. Даже спросила однажды:
– А почему ты на мне не женишься?
Он усмехнулся:
– Трудно жить с женщиной, которая умнее тебя.
– А ты попробуй, – смущенно пошутила она, – вдруг получится?
Он покачал головой:
– Не-а, не выйдет. Я себя знаю.
Слава богу, обоим хватило ума остаться друзьями – совместная работа, куда денешься. А через пару лет после их расставания коллега женился на молоденькой, хорошенькой, длинноногой и совершенно безмозглой курьерше. Про ее тупость ходили легенды – вечно улыбающаяся девица не могла разобраться даже в своей корреспонденции.
Два года Рина отходила от этого романа, с удивлением разглядывая бывшего любовника, – кажется, он, любитель умных, тонких, образованных женщин, был вполне счастлив. Он! Ничего, пережила с божьей помощью. А спустя четыре года познакомилась с женатым мужчиной, моложе ее на семь лет. Сразу расставили флажки: мы любовники, всё.
У него, кстати, месяц назад родился ребенок.
Нет, уводить его из семьи она не собиралась: дети – это святое. «Главное – не влюбиться, – твердила она, – тогда пропаду». Не получилось – влюбилась, как девочка.
Ну и началось все, что с этим связано, – страдания, ревность, истерики. Куда подевались мозги и жизненный опыт? Куда подевались ирония и сарказм? Вела себя как полная дура – ревновала, звонила по вечерам. Он, естественно, злился, психовал и срывался. Ну и в итоге ушел. Как же ей потом было стыдно! Кажется, такого ужаса она никогда не испытывала. Потом успокоила себя – это была не она.
Ну и итог романа – год лечения от депрессии у психиатра. Ничего, снова вылезла. Бабы – они сильные. Бей наотмашь – все равно поднимутся. Покачнутся, а поднимутся. Распластаются, размажутся по полу, а потом соберутся, вытрут сопли, заплетут косы – и вперед.
Кстати, Маргошка Ринин роман с женатым не одобряла, потому что сама уже была матерью малыша. Впервые не утешала, только хмурилась и скупо бросала:
– Ничего хорошего из этого не получится.
И оказалась права.
Личная жизнь не сложилась. Ну да бог с ней, не у всех она получается. По нынешним временам выходило так – или семья, или карьера. У нее получилось второе: нет семьи, зато есть любимое дело, в которое она ушла с головой. И без этой адской загруженности, дикого ритма, сумасшедшего драйва и нервов она уже просто не могла. Понимала: если остановится, то просто погибнет.
И жизнь эта, безумная, отчаянная, рискованная, ей очень нравилась.
Или она смогла убедить себя в этом?
* * *Встречи с отцом становились все реже – нет, он по-прежнему старался приехать в столицу хотя бы раз в год: «Скучаю, Ирка. Очень я по тебе скучаю, дочь!» Но часто свидания срывались из-за ее работы: то срочные съемки, которые отменить невозможно, иначе – колоссальные неустойки, то встречи с партнерами – тоже ни перенести, ни отменить, то внезапные командировки. А пару раз она просто забывала о его приезде и уезжала куда-то.
Однажды уехала в пятницу вечером, почти в ночь, после труднейшего дня в пансионат. Сорвалась внезапно, понимая: если не убежит из Москвы, не проведет пару дней в одиночестве, на природе, то к понедельнику ее просто не будет – физически не будет. А в субботу приехал отец. Что-то придумала, наврала. Противно, а делать нечего. И во время романа с молодым любовником, когда ей совершенно сорвало крышу, с отцом она тоже не виделась – да просто не подходила к телефону. Он, обеспокоенный, тогда прислал телеграмму: «Ира, волнуюсь! Ты в порядке? Ответь».
Ответила, конечно. Наврала с три короба про завал на работе – короче, опять отбрехалась. Отец обижался, хотя и пытался это скрыть, но расстроенный голос скрыть было трудно.
Ну а в последние годы, примерно лет пять или шесть, он вообще перестал приезжать в Москву. Говорил, что прибаливает, ехать ночь или целый день в поезде тяжело, домашние дела ну и все прочее. Рина охала, сочувствовала, спрашивала, не выслать ли денег. Отец твердо отказывался:
– Нам хватает: две пенсии плюс зарплата.
В гости он ее больше не приглашал.
Однажды пошутил:
– Ты теперь важная птица, Ирка! Куда тебе к нам?
Шурочка приезжала в Москву раз в год непременно, и тогда у них с Риной случались загулы: ежедневные походы в театры, рестораны, вернисажи и бесконечные гости. Рина мотала уставшую с непривычки Шурочку по своим новым знакомым, среди которых были и известные публичные люди. С той мгновенно спадала усталость, она начинала кокетничать, сверкать глазами и смеяться. Кстати, была она по-прежнему хороша, эта мадам Олсен, эта уже немолодая Брижит Бардо.
Два раза Рина свозила Шурочку в Ниццу и в Канны – она была счастлива и каждый день рвалась в казино.
Странное дело. С годами Рина, кажется, стала понимать отца. Кажется, он все сделал правильно – они с Шурочкой несовместимы. При дальнейшем совместном проживании дело бы непременно кончилось убийством – случайным или тщательно спланированным. Только кто бы отправился в тюрьму, а кто на погост – вопрос.
Рина полюбила свое одиночество и удивлялась Шурочкиному желанию тусоваться и быть среди людей. Хотя что удивляться: добропорядочной провинциальной домохозяйке московская суета только в радость. А Рина так уставала от людей и бесконечных встреч, что в пустую квартиру заходила с облегчением. Сбросив пальто и обувь, она блаженно выдыхала: «Какое счастье! Одна!»
Это и вправду было счастьем – родная, уютная, красивая квартира, где все, от полочки в ванной до коврика в спальне, тщательно продумано именно для нее.
Она шла в душ, долго стояла под тугой струей, чувствуя, что ее отпускает – опускаются, расслабляются плечи, оттаивают напряженные мышцы.
Потом теплый, пушистый, уютный халат, мягкие тапочки, крем на лицо и шею и – кресло! Дорогущее дизайнерское кресло мышиного цвета, которое ласково и нежно принимало ее в свои объятия, обтекало и убаюкивало. Блаженно откинув голову, Рина закрывала глаза и начинала приходить в себя. И не дай бог, чтобы в этот момент зазвонил телефон!
Кстати, даже в отпуск Рина уезжала одна. Заказывала дорогой отель, максимально удаленный от города, несколько дней валялась в шезлонге – как тюлень, по ее же утверждению, – и, немного придя в себя, брала в аренду машину и каталась по окрестностям, забираясь в самые глухие и отдаленные места – в горы или на дикие пляжи. Конечно, ей оказывали внимание – в ресторанах или в магазинах. Попадались и вполне приличные особи. Но она пресекала любые попытки. «Еще чего! Я на отдыхе, и этим все сказано».
* * *– Ира! Так что? Ты приедешь?
– Приеду. Завтра выеду и к вечеру буду. Что-нибудь нужно? Ну продукты там или что-то еще.
– О чем ты, Ирочка? – Валентина громко всхлипнула. – Что же мне может быть нужно? Теперь-то?
– Я поняла, – резко ответила Рина и повторила: – Завтра я буду. Всего хорошего.
Плюхнулась в кресло и горько усмехнулась – хорошее пожелание вдове накануне похорон: «Всего хорошего!»
Спала со снотворным, понимая, что ни за что не уснет – воспоминания обрушатся лавиной и потащат за собой. Она просто не доживет до утра – задохнется. Задохнется от чувства вины – страшной, непрощаемой. Пять лет – пять лет! – она не видела отца. Не собралась, не приехала хотя бы на пару дней. Не сказала ему то, что должна была, обязана была сказать. Опоздала.
Мы всегда опаздываем, всегда. Почему? На все находим время, а вот на главное – нет.
И почему она сейчас не плачет? Совсем заледенела?
Утром нервно вытаскивала из шкафа темные вещи – черную блузку, черные брюки.
Побросала все в дорожную сумку, резко закрыла молнию и глянула в окно – машина с водителем стояла под окнами.
Конечно, никакого СВ в поезде не было – еще чего! Важные персоны в К. ездили нечасто, а скорее всего, вообще не ездили – что они там забыли? Никаких крупных предприятий в уездном городке не было, значит, и интереса для бизнеса тоже. Чем жил городок, чем кормился? А бог его знает! Молодежь наверняка разъехалась, старики доживали. Собственно, так жила вся Россия, медленно погружаясь в небытие.
Но в поезде было чисто и тепло, проводница услужливо предложила чай или кофе.
– Растворимый? – спросила Рина.
Проводница искренне удивилась:
– А какой же еще? Поезд ведь, не ресторан какой.
Рина заказала чай, села к окну и – заплакала. Впервые за сто тысяч лет. Она давно позабыла, что слезы соленые, что они могут течь таким сильным и бурным ручьем и что они – чудеса! – могут принести облегчение. «Значит, – усмехнулась она, вытирая платком лицо, – надо срочно учиться плакать. Значит, не до конца, слава богу. Не до конца превратилась в Снежную королеву. Уже хорошо».
Нет, правда ее чуть отпустило, стало полегче. С удовольствием выпила сладкого чая и улеглась на полку, завернулась в одеяло и – снова чудеса – тут же уснула. Проспала ведь день – ничего себе, а! Проснулась за полчаса до прибытия – за окном уже наступили густые осенние сумерки. Наспех причесалась, умылась, морщась от густого запаха хлорки. В холодном, насквозь продувном тамбуре уже стояла проводница с хмурым и недовольным лицом, готовя ступеньки и дверь, распространяя сладкий запах дешевого вина. Рина поморщилась – скорее бы на воздух.
Платформа была мокрая от недавно прошедшего, видимо, сильного дождя. Но пахло свежестью, мокрой землей и травой, и еще чем-то сдобным и вкусным – кажется, свежеиспеченным овсяным печеньем.
В здании вокзала было пусто, дремала, уронив голову в пышных белых кудрях на пластиковую стойку, буфетчица.
Рина вышла на улицу.
Одинокий фонарь тускло освещал темную тихую улицу.
«А говорят, что есть жизнь на Марсе», – с тоской подумала она и оглянулась – в отдалении стояла одна машина, старые и помятые «Жигули», за рулем которых дремал водитель. «Сонное царство, – подумала Рина, – все спят. А всего-то полдевятого, в Москве жизнь только начинается. А здесь она, жизнь, похоже, остановилась. Впрочем, она здесь давно остановилась, лет двести назад».
Она постучала в окно машины. Водитель открыл глаза и с удивлением, словно увидев инопланетянку, уставился на нее.
– Вы свободны? – с усмешкой спросила Рина.
Тот растерянно кивнул.
В машине удушливо пахло бензином и старыми тряпками. Рина качнула головой и поморщилась – сервис, однако! – но промолчала. Назвала адрес, и наконец с божьей помощью тронулись.
– Доедем-то без потерь? – с опаской спросила она.
Водитель посмотрел на нее с удивлением:
– Зря беспокоитесь, дамочка! Доставим в лучшем виде, не сомневайтесь!
Рина смотрела по сторонам – в окнах почти не горел свет. Мертвое царство, городок спит, и даже экраны телевизоров не подсвечивали голубым, рассеянным светом.
– И что, – спросила Рина, – у вас так всегда?
Водитель глянул на нее с удивлением.
– Ну в смысле, девять вечера, и все на бочок.
– А, вы про это! – словно обрадовался он. – Так провинция! Село, можно сказать. Ложимся рано, встаем с петухами. Это здесь, в городке. А там, в деревне, – он махнул рукой, – там вообще в восемь темно. А вы, извиняюсь, из самых столиц?
– Из самых, – кивнула она. – Из самых что ни на есть.
– И как там у вас? – осторожно спросил водитель. – Ну в смысле в целом?
– В целом хорошо. А вот не в целом…
Водитель понимающе кивнул:
– Ну так везде! И там, и здесь.
– Наверное, – ответила Рина и подумала, что, хотя она целый день проспала, очень устала. Ломило тело, зудели ноги, разболелась голова. «Нервничаю, – подумала она. – Просто очень нервничаю. Папа, похороны. Ну и эта… Мадам, тетя Фрося. Как ни крути, а общаться придется. Приятного, конечно, мало. Но и это переживем».
Минут через десять выехали из городка, и дорога кончилась. Водитель посмотрел на нее, словно извиняясь: дескать, не обессудьте, ехать всего-то минут двадцать. Терпите.
Вдоль дороги густой и плотной армией стояли леса. «Глухомань, – вздохнула Рина. – Еще какая глухомань!» Впереди показались тусклые огни. «Раз, два, три», – пересчитала она.
Два фонаря и одно окно в доме. Наверное, наше. В смысле, тети-Фросино, Валентины. Водитель резко затормозил и обернулся:
– Приехали, дамочка. С вас двести рублей.
Она протянула деньги:
– Спасибо.
– И времечко провести хорошо! – Он, кажется, обрадовался, что она не стала торговаться.
Подхватив сумку, Рина взглянула на дом, у которого остановилась машина. В соседних домах было темно. А в этом горел тусклый свет. Значит, точно сюда – не ошиблась.
Толкнула калитку. Недалеко, кажется, на соседнем участке, залаяла собака. Рина поднялась по ступенькам и, собравшись с духом, наконец постучала. Послышались шаги, заскрипел замок, и дверь со скрипом открылась. На пороге стояла высокая, не по возрасту стройная женщина в теплом платке, накинутом на плечи.
– Иришка! – жалобно выкрикнула она и протянула к ней руки.
Рина чуть качнулась, отпрянула, но было поздно – крепкие сильные руки уже обнимали ее и пытались прижать к себе.
– Добрый вечер, – растерянно пробормотала Рина. – Добрый вечер, Валентина.
Женщина закивала, заплакала и чуть выпустила ее из своих объятий, чтобы получше рассмотреть.
– Ира, Иришка! Как же хорошо, что ты приехала! Как хорошо, что время нашла! Уж как бы Санечка был рад!
И тут заплакала Рина.
«Откуда столько слез? – подумала она. – Наверное, за последние двадцать лет накопилось». И она шагнула в прихожую.
– В сени, – сказала хозяйка. – В сени проходи, Ирочка!
Из дома пахнуло жильем и теплом.
Раздевалась Рина медленно, оттягивая общение с этой чужой женщиной, отцовской женой, которую столько лет успешно избегала. Но встретиться все равно им пришлось.
В прихожей – сенях, по словам хозяйки, – было тепло и пахло мокрой деревянной бочкой, смородиновым листом и укропом. В углу и вправду стояла большая темная бочка, из которой и доносились умопомрачительные запахи огородной травы и соленых огурцов. Рина непроизвольно громко сглотнула слюну и смутилась.
Она замешкалась с обувью и растерянно оглянулась – у двери в дом ровно, в ряд, стояли резиновые сапоги и обрезанные по щиколотку старые валенки.
– Чуни надевай! – предложила хозяйка. – По полу дует.
Влезать в разношенные чужие валенки совершенно не хотелось, но и отказываться было неловко. Рина скинула модные остроносые ботильоны и влезла в чуни, тут же ощутив блаженство – уставшие и замерзшие ноги попали в обувной рай. Им было свободно, мягко и тепло – вот тебе и чуни!
Хозяйка толкнула дверь в дом.
Комната – зал, как сказала хозяйка, – была довольно большой и, как ни странно, уютной: диван, два кресла, обеденный стол и журнальный, телевизор и книжный шкаф до потолка. На потолке висела знакомая люстра – Рина вспомнила, что точно такая же висела у соседки и называлась красиво и громко – «Каскад». Соседка ею страшно гордилась – прям как хрустальная, а? – и предлагала Рининой маме посодействовать в покупке «прям как хрустальной». Шурочка брезгливо хмурила носик и надменно фыркала:
– Господи, ну какой же плебейский вкус у нашего народа! Впрочем, что он хорошего видел, этот несчастный народ, – тут же снисходительно добавляла она.
На стене висел красный ковер в желтых разводах. «Классический интерьер семидесятых, – подумала Рина. – Из той, давно ушедшей жизни». Лет тридцать, как пришли времена евроремонтов, шелковых и виниловых обоев, навесных потолков, импортной плитки на любой вкус и всего прочего, без чего, казалось, жить нельзя и просто неприлично. А здесь все это было на месте, словно и не прошло тридцать смутных лет. И это нищенское, убогое, советское, с безусловным оттенком пошлости, вот что странно, было уютным.
– Садись, Иришка, – захлопотала хозяйка. – Чаю с дороги? А может, поешь? Ты уж прости, ничего не готовила. Санечка совсем не ел в последние недели. Даже бульон не хотел. А я что себе-то готовить? Приду из больницы, хлеба с молоком съем – и все. – Она всхлипнула и тут же встрепенулась: – Ой, картошка холодная есть! – В голосе ее послышалась радость. – Соседка принесла! Ее можно с грибами, с огурчиками, а, Ир?
Было неловко – только переступила порог, и на тебе. Но при словах «огурчики и грибы» засосало под ложечкой и рот наполнился слюной. В поезде Рина только пила чай с печеньем.
Грибы она обожала. Шурочка покупала только шампиньоны – других грибов она не знала и боялась. Отец же разбирался в грибах и обожал грибные походы – ясное дело, человек деревенский. Да и что такое шампиньоны? «Разве это грибы для русского человека? Так, суррогат, пародия», – усмехался отец.
Рина смущено кивнула. Дескать, извините, но поем. Валентина почему-то очень обрадовалась и тут же бросилась накрывать на стол. Принесла из погреба запотевшие банки с грибами:
– Вот тут, Ириш, грузди. Черные. Хрустят! А это масленки. Сопливые малость, но ты попробуй, тоже хороши!
Казалось, суета отвлекает Валентину от горя. Она умело, ловко и быстро собрала на стол, принесла разогретую на сковородке мелкую, с небольшую сливу, картошку, порезала хлеб и села напротив.
– Ешь, ешь, – приговаривала она. – Ты ж с дороги, я все понимаю.
– А вы? – спросила Рина.
Валентина покачала головой:
– Нет, не лезет. – И тут же всплеснула руками: – Как забыли-то, Ир! А помянуть? Санечку моего помянуть. – И она громко, в голос, разрыдалась.
Выпили водки из маленьких пузатых стаканчиков-шкаликов, Валентина сморщилась и лишь надкусила соленый огурец.
«Санечка»… В той, прежней жизни он не был Санечкой – он был Сашей. Конечно, повод для шуток – Александр и Александра.
– Как будем имя делить? – в начале знакомства осведомилась Шурочка. – Имей в виду, я Шурочка, и никаких вариантов вроде Саньки, Сашки или Альки! А ты?
Отец тогда рассмеялся:
– Да мне все равно, вот ей-богу! Хоть горшком назови! Только люби, – добавил он серьезно.
Решили, что будет Сашей, и он согласился. Хотя позже признался – мать звала его Шуркой.
От Валентининого «Санечки» Рина каждый раз вздрагивала, словно речь шла не о ее отце. Надо было привыкнуть.
Было так волшебно вкусно, что Рине стало неловко – ела она торопливо, словно боялась не успеть съесть все эти невозможные огурцы, крепкие, твердые, пупырчатые, в налипших ароматных травках, мелкие скользкие маслята с глянцевыми светло-коричневыми, цвета любимого молочного шоколада, шляпками и хрусткие, черные, лохматые шапки груздей.
От водки стало тепло и потянуло в сон. Выпили еще по одной. Ужасно хотелось лечь, вытянуть ноги и закрыть глаза. Но Рина видела – Валентине хочется поговорить. Поговорить про своего Санечку, потому что он был только ее, Валентинин. А Рине сейчас казалось, что этот Санечка и ее отец – два совершенно разных человека. Один принадлежал Валентине и был незнакомым и чужим, посторонним и непонятным, а другой принадлежал только Рине. И вот он был знакомым, понятным и когда-то самым родным. Правда, это было давно.
Валентина все говорила и говорила, а Рина еле сдерживала зевки и почти не разбирала ее монотонного, убаюкивающего голоса. Глаза закрывались от усталости, от волнения, от выпитой водки. Кажется, она уже дремала, но сквозь дрему все же слышала тихий всхлипывающий голос отцовской жены. Теперь уже вдовы. Сквозь дрему кое-что все же улавливала – что заболел отец полгода назад, резко стал худеть и потерял хороший прежде аппетит. Ел вяло, через силу, после длительных уговоров жены.
– Даже картошечку любимую не ел. А раньше мог тарелку умять! – И Валентина расплакалась.
Рина помнила, как отец любил жареную картошку. Жарил ее сам – мама, малоежка, любительница тортиков и конфет, перекусов в виде бутербродов, не признающая «пролетарскую еду» да и обеды вообще, категорически не ела отцовскую картошечку и с презрением и даже брезгливостью бросала взгляд на шкворчащую сковородку.
Картошку Рина с отцом жарили вместе, старались без Шурочки, когда ее не было дома. «Чтоб не портила аппетит!» – смеялся отец.
Рина картошку чистила и нарезала тонюсенькими, полупрозрачными кружочками – этому она научилась не сразу. Жарил, конечно, отец. И картошечка у него выходила сплошное объедение – отдельными лепестками, не слипшаяся, с хрустящей и ломкой корочкой.