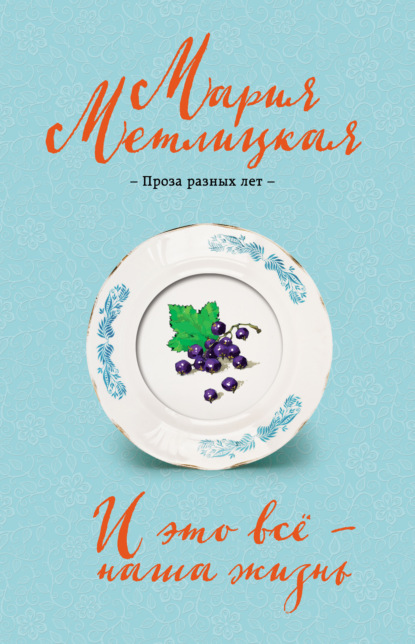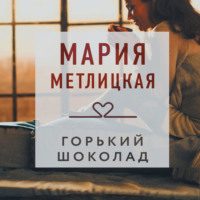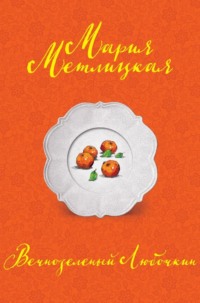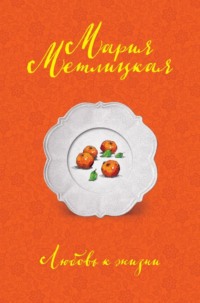Полная версия
Плохой хороший день Алексея Турова
– А как же я? – тихо спросила Рина. – Меня тут вообще нет, в этой сложной конструкции?
– Господи! – засмеялась бабушка. – Да что ты? Ты давно не ребенок, а взрослая девица, через два года можешь замуж сходить!
Как бабушка была права: и матери, и отцу после развода стало легче и проще. Ринина мать, легкомысленная Шурочка, пообижалась чуть больше месяца: «Ах, такой-сякой, бросил меня, умницу и красавицу», – а потом быстро выдохнула, освободилась, повеселела, еще больше помолодела и расцвела. А через пару лет и вовсе вышла замуж и укатила в Норвегию.
Отец к тому времени уже жил в деревне.
А Рина и вправду сходила замуж – аккурат на первом курсе. И здесь бабушка оказалась права. И кстати, формулировка ее оказалась очень точной – «сходить замуж». Сходила. Правда, неудачно сходила.
Ко второй бабушке, Ирине Ивановне, в честь которой Рина была названа, она попала впервые года в четыре. Бабушка Ира жила в деревне за Россошью. Называлась она Крокодиново. Конечно же, Рина тут же окрестила ее Крокодилово.
Деревня была живописная, красивая и, видимо, когда-то небедная. Но теперь молодежь тяжелым сельским трудом заниматься не желала и бежала в города. При этих разговорах отец хмурил брови, а мама посмеивалась: «А что же ты, крестьянин? Других осуждаешь, а сам убежал!» Отец еще больше хмурился и всерьез обижался.
Легкомысленная Шурочка полдня проводила на речке. «Я на пляж!» – утром радостно объявляла она. Рина видела, как недовольно хмурилась бабушка Ирина Ивановна. Кстати, Рина почему-то так и звала ее – Ирина Ивановна. Бабушка обижалась, но еще больше обижался отец: «Какая она тебе Ирина Ивановна? Зови ее бабушкой!» Пару раз получалось – Рина была послушным ребенком, – а потом снова переходила на имя и отчество. Получалось это само собой, машинально.
Кстати, и Шурочка звала свекровь по имени-отчеству. А на просьбу мужа называть ее мамой возмутилась: «Какая она мне мама, господь с тобой! Мама у меня одна, и живет она в Ленинграде!» Сказала, как припечатала. И к этому разговору никто больше не возвращался.
Даже будучи совсем ребенком, Рина понимала, что Ирина Ивановна невестку не любит – ни тебе объятий при встрече, ни пусть дежурного поцелуя при расставании.
Шурочка всегда привозила свекрови подарки – то духи, то платок. Но Ирина Ивановна всем была недовольна. «Одеколон? – презрительно усмехалась она, вертя в руке флакончик духов. – А на кой он мне, этот твой одеколон? Куда мне им мазаться?» Платок ей тоже не нравился: «Пестрый какой. Я давно не девочка».
Теплая кофта оказывалась велика или мала, туфли жали, панталоны были жаркими или «электрическими» – аж искры летят! Мама обижалась, но вида не подавала – такой характер.
А однажды все же не выдержала: «Да вам не угодишь! Ну как хотите. Могу соседкам раздать. Уж они-то наверняка будут рады!» Но подарки Ирина Ивановна не возвращала – быстренько прибирала и уносила к себе в шифоньер.
Правда, готовила она отлично. Ах, какие у нее были пирожки – с капустой, повидлом, картошкой и грибами. Вкуснотища! Курицу сама рубила и варила из нее бульон – янтарный, прозрачный и невозможно ароматный! К куриному супу ловко тянула домашнюю лапшу. И вареники с вишней выходили у нее замечательными, и варенья, и компоты, и соленые грибы.
Шурочка никогда и ни в чем Ирине Ивановне не помогала и на недовольство мужа отвечала: «Я в отпуске! Имею я право хотя бы две недели в году? И кстати, сюда мы приезжаем раз в два года. Или даже в три. И что мне, вставать к печи? Идти пасти коз? Или в поле, за навозом? И маме твоей, кстати, это должно быть в радость, а не в тягость – ухаживать за детьми! Разве нет?» После такой бурной тирады отец замолкал, махал рукой – дескать, что с тебя взять?
Рине в деревне Крокодиново решительно не нравилось. Или так – нравилось первые три-четыре дня. За грибами ходить нравилось. Купаться на речке тоже. Валяться на сеновале – неплохо. Есть бабушкины пирожки – даже очень хорошо. А все остальное – нет. И особенно сама бабушка Ирина Ивановна. Была она строгой, неприветливой и, кажется, не очень доброй.
Рина вспоминала Ленинград и любимую Мусеньку. Нет, никакого сравнения – и рядом поставить нельзя ее родную, любимую, веселую, легкую на подъем Мусеньку, вечную выдумщицу и путешественницу, и эту хмурую, молчаливую, смотрящую из-под бровей, вечно чем-то недовольную женщину. Абсолютно чужую, как ни крути.
Отец по матери и по деревне скучал, а вот длинных и задушевных разговоров с Ириной Ивановной у них не было – и мать, и сын были не из разговорчивых. А может, просто не получалось? Бабушка Ирина Ивановна вдовела. Обмолвилась об этом однажды между делом:
– Был муж, а как же? Но пропал. Пошел по осени на болото за утками и пропал. Затянуло, наверное. Молодой, сорока еще не было. Жаль, конечно. Хороший был человек, не алкаш и трудяга. Отец твой вылитый он. Но свое я отплакала. Не до слез было, сына надо было растить, да и хозяйство рук требовало.
По приезде отец сразу принимался за дело – латал крышу, поднимал стену сарая, чинил птичник. Договаривался о дровах и сене на зиму, оплачивал все это. Перед отъездом отправлялся в город и возвращался оттуда на такси – привозил мешки с крупами, банки с консервами, стиральный порошок, упаковки хозяйственного мыла, рулоны марли и большущий пакет с лекарствами.
Бабушка Ирина Ивановна любила лечиться. По вечерам, надев на нос очки, сидела за столом и раскладывала, перекладывала, надписывала коробочки с лекарствами – вертела в руках и почему-то тяжело вздыхала. На подоконниках у нее стояли банки с вонючими травами, повязанные темной, дурно пахнувшей марлей. Фельдшер Лида приходила два раза в неделю – померить давление и послушать «больную».
– Все хорошо, теть Ир, – устало говорила она. – Живите дальше.
Ирина Ивановна недоверчиво ворчала:
– Как же, дальше! Сколько там этого «дальше»?
– А вот этого не знает никто, – смеялась Лида. – Сколько отпущено!
Ирина Ивановна отмахивалась:
– Иди уж! Специалистка!
Еще Рина помнила высокую кровать с пышными подушками, залезать на которую ей категорически не разрешалось. «Приличные дети на кровати не прыгают», – строго говорила бабушка Ирина Ивановна.
Мама все время фыркала и стреляла глазами на папу, но папа взгляд отводил – матери своей он не перечил и в спор с ней не вступал, в деревне это не принято.
Родители в деревне часто ссорились – это тоже запомнилось. Впрочем, ссорились они всегда… Почти всегда, если честно.
Отец рвался на родину каждый год: «Только там я дышу полной грудью!» Мама иронично усмехалась: «Ну дыши, дыши! Что там еще делать?» Но каждый год ездить не получалось – Шурочка умела отстаивать свои права.
Конечно, позже Рина догадалась, что Ирина Ивановна выбором сына была недовольна – какое там! Столичная фифа, не приспособленная к труду. Легкомысленная, ветреная – все разговоры о тряпках и развлечениях. Никакой помощи от нее – ну разве так можно? Ладно, в огороде и в хлеву ей не место, это понятно. Но помочь с обедом и убрать со стола посуду? Красивая, что говорить. Но не жена. Не о такой снохе она мечтала. Да и Сашка парень серьезный, непьющий. Сам в институт поступил – да где, в столице! Золотой парень, таких сейчас нет. А вот такая жена. Да уж, хорошим парням всегда не везет – закон жизни, увы.
Рина отлично помнила лето, когда бабушка Муся попала в больницу. Путевку в лагерь было не достать, и пришлось ехать в Крокодиново. Уже взрослая, одиннадцатилетняя, Рина долго сопротивлялась, канючила и ныла, что не поедет в деревню, делать ей там нечего – коровам хвосты крутить?
Отец злобно зыркнул на мать:
– Твоя школа, узнаешь?
Та равнодушно пожала плечами:
– Подумаешь!
Но отец был непоколебим:
– Ты уже здоровая девица и изволь ехать и помогать бабушке. Точка. Ты моя дочь или нет?
Делать было нечего. Утешало одно – мама обещала, что через месяц они ее заберут и точно отправят в лагерь.
С местными Рина не подружилась – вечно орущие, грязные, матерящиеся и обсуждающие одно – пьянку родителей. Это было дико и непонятно.
Лена, соседская девочка, ее ровесница, поначалу набивалась в подружки. Была эта Лена хмурой, завистливой и вечно всем недовольной. Лена тоже жила с бабкой – так она ее называла – и ненавидела родителей, уехавших в город на заработки. Не могла им простить, что не взяли ее с собой. Бабку она называла и дурой, и сукой. Слушать это было невыносимо.
А однажды пропала Ринина заколка для волос – красивая французская заколка, подаренная на день рождения. Было сразу понятно, чьих рук это дело. Но объявить об этом Лене было неловко. Сказала бабушке Ирине Ивановне.
Та со вздохом ответила:
– Да прости ты ее, Ира! Несчастная она девка. Бабка поддает, родителям она не нужна – забыли, как не было. Что она видела в жизни? А что увидит? Может, хоть цацка твоя ее порадует.
– Как же так? – задохнулась от возмущения Рина. – Ведь это воровство!
– Воровство. Только знаешь, что ее ждет, Ленку эту? А я тебе скажу. Дояркой пойдет, в совхоз. А куда еще? Учиться не поедет – мозгов не хватит, да и ленивая она. Будет в коровнике ломаться, а к сорока годам инвалидом станет. Повезет – выйдет замуж. За Фильку или за Петьку. Родит ему парочку деток. И с ним тоже все ясно – запьет. Конечно, запьет, куда денется! Ну так и будет – тяжелая работа, брошенные дети, хозяйство и пьющий муж, и еще, сволочь, будет колотить ее. Вот и думай, девка. Ну что? Все еще жалко твою заколку?
Рина ничего не ответила – она не ожидала такой проповеди, не все поняла, но о справедливом возмездии больше не мечтала.
«Месяц, всего лишь месяц», – как заведенная твердила она и думала о Ленинграде. Но и этот месяц был невыносимым. Ирина Ивановна была ею недовольна: «Посуду моешь не так, дай покажу!» Но хозяйственное мыло так невозможно воняло! «Стираешь не так – три сильнее!» И снова невыносимое хозяйственное мыло – стиральный порошок бабушка экономила. «Картошку чистишь слишком смело. Ишь ты! Полкартофелины в помойку. Так-то я до зимы не дотяну! Подметаешь плохо, углы не метены! Лентяйка ты, неумеха!»
Однажды Рина не выдержала и разрыдалась – так все достало, так припекло. В эти минуты она эту Ирину Ивановну ненавидела.
Но, как ни странно, бабушка испугалась, оторопела и запричитала:
– Ирочка, Ира! Ты что, деточка? Обиделась, что ли? Да ты не сердись на меня, старую, я ведь как лучше хочу! Научить тебя хочу, чтобы хозяйка была, а не… – Бабушка Ирина Ивановна запнулась. – Да, научить! И убираться, и стирать, и готовить. Плохая-то жена никому не нужна. Ленивая баба – не баба, а… – Ирина Ивановна запнулась. – Ну ты и сама знаешь! И чтоб народ над тобой не смеялся, и чтоб муж был доволен, чтоб гордился тобой. Ты ж большая девка уже, а ни к чему не приучена. Вон картошку и ту почистить не можешь. Стыд, а не картошка! Увидел бы кто! А я в твои годы… – Но договорить не успела, Рина вдруг закричала:
– Да мне наплевать на картошку и на соседей. В городе соседи не проверяют, кто и как чистит картошку! И как подметает тоже! И вообще у нас пылесос! И стирает стиралка, а не корыто! Со стиральным, кстати, порошком! А не с вашим вонючим хозяйственным мылом! Меня от него тошнит, понимаете? И готовить я научусь, когда время придет! А может, и не научусь, наплевать! Моя бабушка Маша щи не варит, а счастлива! По улицам гуляет, в музеи ходит, в кафе. С подружками встречается! А вы? То в хлеву, то у печи, то в огороде. В резиновых сапогах и в ватнике – а что, красота! Вот жизнь, правда? – Она готова была и дальше выкрикивать все, что наболело, но осеклась и замолчала, увидев, что бабушка Ирина Ивановна плачет. Молча плачет, ни слова в ответ. Вытирает лицо грубыми шершавыми ладонями и молчит. Потом всхлипнула:
– Это ж деревня, Ира. Здесь по-другому нельзя – пропадешь.
И Рине стало невыносимо стыдно. Чуть сама не разревелась от стыда и жалости. Но подойти к бабушке и обнять ее не смогла. Не решилась. Просто проскочила мимо и прыснула во двор. А вечером между делом, так, походя, тихо и невнятно пробормотала короткое «извините».
Через пару дней за ней приехал отец. «Срок заключения», слава богу, закончился. Страшно смущаясь, она на прощание клюнула бабушку в щеку. Та на секунду прижала ее к себе и отпустила.
Больше Рина бабушку Ирину Ивановну не видела – та через год умерла. И если по правде, узнав о ее смерти, Рина испытала не только жалость и стыд за прошлое, но еще и облегчение – поездки в ненавистное Крокодилово, слава богу, закончились.
Когда родители развелись, Рина подумала, что кто был бы счастлив – это бабушка Ирина Ивановна: «Наконец-то избавились от этой фифы!» Но Ирины Ивановны уже не было.
Рина сидела на низеньком пуфике у журнального столика и вспоминала.
«Ириша, Ирочка». Господи! Да ее сто лет так никто не называл. И если бы ее так окликнули на улице, она наверняка бы не обернулась. Правда, отец упрямо называл ее Ирой. Когда был чем-то недоволен – Ириной. А если уж умилялся, то Иркой. С ним она не спорила. Во-первых, понимала, что не убедит, а во‐вторых… Во-вторых, она вообще с ним не спорила. Да и общение их, по правде говоря, после развода было формальным и довольно редким – отец навсегда уехал в деревню.
Рина помнила, что даже не сам развод родителей ее так потряс – а именно то, что отец оставил столицу и уехал в эту глушь. В дикую провинцию, черт-те сколько километров от Москвы. Нет, Рина там не была – еще чего, много чести! Хотя ее, разумеется, приглашали. Ехать за пятьсот верст, к черту на кулички, к чужой тетке?
Отец ушел, когда Рины в квартире не было. С Шурочкой они, «как цивилизованные люди», разумеется, все решили заранее. А объясниться с пятнадцатилетней дочерью отец решил на нейтральной территории. Так ему было легче – присутствие знакомых и родных предметов и привычный интерьер их общей квартиры, наверное, наводили тоску и вызывали воспоминания.
Был канун Нового года, страна готовилась к праздникам. Народ мотался по заснеженной Москве, бестолково толкался в очередях, хватал с прилавков все, что случайно попадалось, отстаивал дикие, нескончаемые очереди, транспорт ходил плохо – декабрь выдался холодным, метельным. Да и в квартирах было прохладно – топили в тот год отвратно, все болели, шмыгали носами и кашляли, но праздничного настроения все это не отменяло. Новый год по-прежнему оставался любимым народным праздником.
Конечно, Рина понимала, что в их доме не все хорошо. Родители по-прежнему ссорились, подолгу не разговаривали друг с другом, да и семейных посиделок, с гостями или просто втроем, давно не случалось. Как любой подросток, она старалась поскорее смотаться из дома, убежать в свою жизнь, заняться собственными проблемами и просто не замечать ситуацию – так было проще. Да и душевные разговоры, если честно, в их семье были не приняты. К тому же ее вполне устраивало, что родители, занятые своими делами и разборками, не лезут в ее личную жизнь, не контролируют ее, не интересуются ее успехами в учебе, в общем, не мешают. Вот и славно!
У любимой подружки Таньки предки развелись пару лет назад. Рина помнила, как Танька переживала, хотя всеми силами старалась это скрывать. Но потом все как-то образовалось – Танькина мать вышла замуж, а отец жил в гражданском браке с какой-то теткой, Танька говорила, что невредной и к тому же разъезжающей по заграницам, откуда и Таньке привозились подарки – и тряпки, и обувь, и косметика. Кстати, заколка, украденная деревенской соседкой, была оттуда же, от Танькиной мачехи. Танькина мать с головой ушла в новую семью, родила сына и тоже в жизнь дочери не лезла – не до того. В общем, Танька говорила, что от развода родителей только выиграла – мозг никто не выедает, настроение у всех замечательное, и все чувствуют свою вину – ребенку нанесена психологическая травма. Короче, ура.
Но Танька развод уже пережила, а Рине все только предстояло.
Так вот, в тот год в их доме приближения праздника не наблюдалось – за дефицитом мама не бегала, зеленый горошек, майонез и маринованные огурцы в стенку не прятала, рецептами новых салатов с подружками не обменивалась, покупкой подарков, кажется, не озадачивалась и не составляла список гостей. Не было в квартире ни елки, ни развешанных по стене серебристых гирлянд и колокольчиков. Квартиру к празднику мама не убирала, парадный сервиз и рюмки не перемывала и не протирала до зеркального блеска. В воздухе, как пар от кастрюль, висели тоска, заброшенность и какая-то неприкаянность, сиротство.
Несмотря на все это, Рина приготовила родителям подарочки. Маме – югославскую помаду, а папе – эластичные плавки пронзительного красного цвета с белой полосой. Он был заядлым пловцом.
А что праздника не предвиделось – так и бог с ним, решила Рина. Будет легче свалить из дома в компанию. А компания предполагалась – у одноклассника Димки Скворцова родители отвалили в Прибалтику.
Тридцатого, а это была пятница, вернувшаяся с гулянки Рина застала мать, сидящую на кухне за чашкой остывшего чая. В темноте. Сердце дрогнуло и, казалось, остановилось.
– Мам! – хрипло позвала она, замерев на пороге кухни. – Мам, что-то случилось?
Мать ответила не сразу, странным, не своим голосом, словно пребывая в каком-то полусне, протянула:
– А, это ты… – Помолчав, Шурочка добавила: – Вот и все, Ирка. Все закончилось. В смысле наша с твоим отцом семейная жизнь. Что ж, протянули мы довольно долго, пятнадцать лет. А это срок за убийство! – хрипло хихикнула она. С юмором, надо сказать, у матери было всегда хорошо. – Впрочем, все это предполагалось. С самого начала, если по-честному. Но все будет хорошо! Да и вообще – ничего страшного. – Она потянулась за сигаретой и неуверенно проговорила: – Все, все, Ир, расслабься! Все будет хорошо! Или ты сомневаешься?
Не зажигая верхнего света, Рина села напротив. В кухне было довольно светло – свет шел с улицы, от высоких, недавно наметенных сугробов, от фар проезжающих машин, от поскрипывающего фонаря. Мама была печальной и бледной. Рина увидела, как она осунулась, постарела, и с удивлением разглядывала ее – как, оказывается, давно она не смотрела на мать внимательно.
– Ладно! – Шурочка хлопнула ладонью по столу. – Хватит кукситься! В конце концов, Новый год у дверей! Что мы с тобой сидим тут, как две старые клуши! Мы ведь красавицы, Ирка!
Рина молчала. Значит, все. Они разошлись. Ничего страшного, мама права. Сплошь и рядом такие истории. Но…
Пока это не касалось ее, Рины. Ее мамы. Ее отца. Ну и вообще их семью.
– Он ушел от нас? – тихо спросила Рина.
– Ушел, – будничным голосом ответила Шурочка. – Он давно ушел, Ирка. Почти год назад. Уверена, у него появилась другая баба – по-другому никак.
И Рина заплакала. Другая женщина? Не может быть! После красавицы Шурочки? Потом, конечно, все подтвердилось –та женщина у отца появилась давно. Года два назад. Подцепил он ее – мамино слово – в санатории. «Помнишь, ездил туда со своей язвой? Ничего про нее не знаю и знать не хочу. Знаю, что его ровесница, разведена и бездетна. Работает, кажется, сестрой-хозяйкой в этом чертовом санатории. Ни имени, ни фамилии, как понимаешь… Ушлая наверняка – увела из семьи хорошего мужика, да еще с московской пропиской. Ну и вообще – не она, так другая! Мы же давно с ним… Ну, как соседи, понимаешь? Понимания давно не было. Да и было ли вообще? А черт его знает. Любовь – да, была. Но когда? В глубокой молодости. Мы были совсем детьми, неразумными и неопытными детьми. Что мы вообще тогда понимали? А уж в семейной жизни мы были полными профанами, идиотами даже. Студенческий брак – есть такое понятие. Ну а потом появилась ты. Если бы не ребенок, еще бы тогда разбежались! Ну в общем, как есть, так и есть, и это надо принять».
Принять… Как будто у Рины были другие варианты!
Кстати, потом она поняла, что такое студенческий брак, и, вспомнив Шурочкины слова, похолодела: получается, если бы у них с Вадиком был ребенок, они бы тоже жили и мучились? Какой кошмар… В ту ночь, уткнувшись носом в подушку, она горько плакала и заснула только под утро. Счастье, что в школу идти было не нужно – каникулы. А днем позвонил отец и сказал, что им надо встретиться. Зачем? Поговорить. Цивилизованные люди разговаривают при любой ситуации.
– Значит, я нецивилизованная! – закричала Рина. – И встречаться с тобой не хочу! Катись туда, в свою вонючую деревню! И встречайся там со своей новой женой! И жри там ее оливье и пляши под елочкой! С праздником тебя, дорогой папа! С наилучшими пожеланиями! – С силой и яростью швырнула об стену телефонный аппарат. Нате вам всем! Хрупкая красная пластмасса разбилась вдребезги. Ну и черт с ней – жизнь разбилась, что там телефон.
Отец не перезвонил. Да и слава богу, что не услышал того, что кричала его дочь в пустой квартире, самой себе, ну и, конечно, ему.
Зато позвонила Танька и, поняв сквозь рыдания подруги, что случилось, убежденно сказала:
– Ну и черт с ними! Живут своей жизнью, и на нас им наплевать! А значит, и нам на них! – И Танька матерно выругалась.
Странно, но эти слова Рину отрезвили и успокоили. И вправду, наплевать. И она позвала Таньку в гости. Та пришла с бутылкой коньяка, вынесенной из родительского бара.
В тот день Рина впервые напилась. Ну и подружка не отстала – вспоминать неохота. Еще лет десять Рина не брала в рот спиртного. Потом, конечно, забылось.
Тридцать первого она валялась в постели, невыносимо тошнило, кружилась голова, и вообще было плохо и мерзко. Ни в какую компанию она не пошла, хотя все звонили и уговаривали. А вот Шурочка ускакала, и правильно сделала, кстати.
Утром первого Рина подошла к окну – было так бело, снежно и красиво, что заныло сердце.
«Жизнь продолжается, – подумала она. – И она у меня впереди, такая длинная и прекрасная. Уж я распоряжусь ею не так, как вы! И ребенку своемутакого уж точно не устрою. Я не такая эгоистка, как вы!»
Впрочем, с ребенком у нее не случилось. А жизнь действительно оказалась длинной и даже местами прекрасной.
Отец объявился спустя пару месяцев, в марте. Она хорошо запомнила, как ее заколотило, когда она, спустя столько времени, услышала знакомый голос.
Говорить Рина не могла – слова застревали в горле, першило и саднило, как при ангине.
– Иринка! – удивленно повторил отец. – Ты меня слышишь?
– Слышу, – просипела она.
– Ну так что? Встретимся сегодня на Ленинских, а?
Ленинские… Ленинские горы было их местом.
Зимой в далеком и безоблачном детстве они ездили туда кататься на санках. Отец тащил санки, и Рина видела его сутулую спину в темно-синей болоньевой куртке и слышала тяжелое дыхание. Она же, как королевишна, развалясь, разглядывала окрестности – высоченный серый шпиль здания университета, маленькую желтую церквушку с ярко-зеленой крышей на краю обрыва. Храм Живоначальной Троицы, объяснял ей отец. Сквер, разрезающий улицу четко посередине, и голые черные деревья, присыпанные свежим, белейшим снежком. Запыхавшись, отец останавливался и поворачивался к ней.
– Ну ты и коровушка, Ирка! С прошлой зимы ого-го! Или я постарел? – задумчиво и грустно добавлял уставший отец. – Давай, давай, ножками! Ишь, расселась, барыня!
«Ножками» не хотелось. Неудобные жесткие черные валенки с блестящими калошами раздражали – нога в них была как будто зажата в тиски. Да и вообще – «ножками, ножками»! Зачем? Когда есть прекрасное средство передвижения – санки и папа! Санки были с жесткой, но все же вполне удобной спинкой, с цветными деревянными рейками – красная, зеленая, желтая. И, чтобы «было удобно попе», папа подкладывал перед прогулкой под эту самую попу вязаную попонку. «Попа – попонка», – смеялась она. Значит, пестрый вязаный коврик предназначался именно для этой самой попы?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.