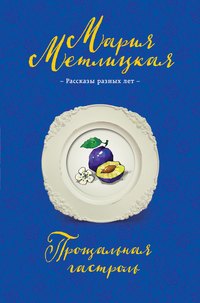Полная версия
Плохой хороший день Алексея Турова
Рина накрывала на стол: вареная колбаса, солености, огурец или помидор из трехлитровой венгерской банки, и апофеоз – отец ставил на стол шипящую сковородку с картошкой.
Это был их секретный пир. И как им было хорошо, господи! К приходу мамы все тщательно убиралось. «Заметаем следы», – шутил отец.
– А потом съездили в город на обследование, и все подтвердилось, – продолжала Валентина, и было видно, что рассказывать ей об этом трудно. – Слег он быстро, бороться не захотел, говорил, что все понимает, срок отпущен – врач в больнице просветил. Сейчас мода такая, – всхлипнула она, – резать правду-матку. Зачем? Когда человек правды не знает, у него есть надежда, и силы, и желание бороться. А когда понимает, что обречен… – Она утерла ладонью глаза и махнула рукой.
От химии отец отказался – к чему продлевать муки? Чтобы еще год-полтора задержаться на этом свете, лежа в постели без сил, мучая близких? Дальше Валентина перепробовала и травницу из соседнего села, и колдуна из другого. Ходила в церковь, била поклоны Господу. Понимала, что все зря. Но крошечная надежда в душе оставалась.
В сентябре начались боли. Уколы ставила местная фельдшерица Надя, но были перебои с лекарством:
– Времена сейчас такие, людей не жалко. Разве раньше, при советской власти, такое могло быть?
Это был вопрос, и Рина кивнула. А что оставалось? Поборницей советской власти она не была, но в словах отцовской жены была сермяжная правда.
– Словом, мучился Санечка, мучился. Вот только за что? Хороший ведь был человек, честный, порядочный. Никому зла не сделал. Но болезни безразлично. В кого пальцем ткнет, кого выберет, кого пометит…
– Послушайте! – возмутилась Рина. – А почему вы мне ничего не сообщили? Я же в Москве, с деньгами, со связями! Может быть, там, в Москве, ему бы помогли! Или, в конце концов, облегчили бы страдания!
Она подумала, что эта женщина ее раздражает. Двадцать первый век на улице, а она «знахарки, церковь». Глупость какая!
– А Санечка не велел, – тихо ответила Валентина. – Не велел тебя, Ирочка, беспокоить. Говорил, у тебя и так хватает и дел, и проблем. Да и зачем хлопотать – бесполезно. Жалел он тебя. И еще, – она помолчала, – всю жизнь ведь чувствовал свою вину перед тобой. Всю жизнь. Говорил: вот как получается – я ее бросил, а когда плохо – к ней? Нет, не имею на это права! Нет, и точка.
– Глупость какая! – снова возмутилась Рина, стараясь не обращать внимания на эту «всю жизнь». – Что значит «беспокоить»? У меня действительно большие возможности!
Валентина упрямо повторила:
– Это была его воля.
«О чем теперь говорить? – устало подумала Рина. – Дело прошлое. Отца уже нет. Но Валентина эта дура, ей-богу. Что значит «его воля»? Вчера же нашла телефон, позвонила! И раньше могла! Когда речь идет о жизни человека, при чем тут его воля?» – От возмущения сон прошел как не было. Валентина монотонно продолжала:
– Ну и дальше увезли его в больницу – он сам попросился, я отдавать не хотела. Хотя понимала – там хоть уколы. А потом догадалась – он в больницу ушел, чтобы мне меньше хлопот. Слава богу, хоть без болей – кололи по расписанию. Правда, уже был в забытьи – даже меня не узнавал…
Рина молчала. А что тут скажешь? Спасибо за то, что выхаживали отца? Спасибо, что не оставили? Глупость какая, она жена ведь. И прожили они лет двадцать с лишним. Больше, чем с Шурочкой, прилично больше.
– Во сколько похороны? – спросила она.
– Похороны в десять, морг при больнице, в городе, до больницы автобусом, если не поломается, минут сорок. Но выйдем пораньше, в девять. Мало ли что. Ты ведь не против?
Бред какой. Если не поломается. А если поломается? Судя по всему, здесь это часто случается. А заказать машину? Такси? Хотя какое такси – такси в городе. А здесь только автобус.
– А нельзя попросить кого-то из соседей? – раздраженно спросила Рина – Есть же у кого-то машина? Я, разумеется, все оплачу. И кстати, поминки! Надо же сделать поминки! Или у вас… – Рина осеклась.
Валентина захлопала глазами и, кажется, обиделась:
– Как же, конечно! Конечно, будут! Там же, в городе, недалеко от больницы, в кафе. Я вчера съездила, все заказала и оплатила, спасибо. Народу будет немного – две мои подружки, соседи наши, деревенские, ну и фельдшерица Надя, она всех своих провожает. – И Валентина утерла слезы ладонью. – А машина… – Она усмехнулась. – Какие у нас тут машины, Иришка? У кого? Народ нищий да пожилой. Машина есть у Мишки, моего старого дружка, да разве всех туда усадишь? А ехать одной на машине неловко. А там, на месте, конечно, нас всех подхватят – Пашка, сосед, Даши Нестеровой сын, на своем «пазике». – И тут же спохватилась и охнула, взглянув на часы: – Все, спать, Иришка, спать. Завтра рано вставать. Я тебе в горнице постелила. Ты не против?
– Не против.
Знать бы еще, что такое горница.
Горница оказалась маленькой и теплой. Жар шел от печки, выходящей одной стенкой в горницу. Комнатка метров в пять, с ковром на стене. «Машина времени, – подумала Рина. – Снова в семидесятые годы». Впрочем, такого у них в семье не было и тогда, в скудные семидесятые. Шурочка – и ковры на стенах? Увольте. Мещанский быт и безвкусица. Такие квартиры Рина видела у одноклассниц. А вот постель оказалась мягкой, уютной.
– Перину тебе постелила, – гордо сказала хозяйка. – Еще моя бабуленька стегала – жаркая! Будто на печке лежишь. Руки у нее были золотыми. Ну ты сама увидишь! – И тихо добавила: – Спи, Иришка, отдыхай. Завтра у нас с тобой тяжелый день.
Рина была уверена, что мгновенно уснет. Но нет – сон не шел, зато в голову лезли дурацкие мысли и наплывали воспоминания. Да и перина оказалась не просто мягкой и теплой – удушливо жаркой, душной и пахла лежалым бельем.
Рина с трудом раскрыла окно – рассохшаяся рама поддаваться не желала. Тут же пошел свежий воздух, и стало полегче. Но по-прежнему не спалось. Перед глазами стоял отец, молодой и здоровый, подтянутый, жилистый, спортивный. С густыми темными бровями и ямочкой на подбородке. Красивый мужчина, это все замечали. Да вообще они с Шурочкой были красивой парой.
Комплименты отец не выносил, как и повышенное к себе внимание. Недовольно хмурился:
– Во-первых, внешность – это не большая заслуга для мужика. А во вторых, заслуга не моя.
А Рине нравилось, когда восхищались отцом, еще бы! Конечно, он был красавец. Только вот густые отцовские брови, доставшиеся ей по наследству, приносили много хлопот – для мужика замечательно, а вот для женщины… Выщипывать их она начала с восьмого класса. Ну и до сей поры, естественно. Цвет глаз ей достался отцовский, серый. «Мышиный», – как смеялась темноглазая Шурочка. И ямочка на подбородке досталась. Только вот опять – для мужчины это бонус, мужественность. А для женщины, говорят, ослиное упрямство.
Да, красивой они были парой, ее родители, как из французского кино – высокая и стройная темноглазая блондинка Шурочка и темноволосый и сероглазый, высокий и стройный отец. Смотрелись-то здорово, а вот счастливыми не были.
А эта тетя Фрося, эта Валентина… Обычная заурядная тетка. Но тут же Рина одернула себя: «Не ври. Лицо у нее хорошее, отнюдь не простое. Такие лица называют иконописными – узкие темные брови, удлиненные темные глаза, прямой нос, высокие скулы. Правда, губы узковаты. Но зато волосы замечательные – толстенная, закрученная баранкой коса. И седины совсем мало. А вот руки деревенские. Крупные, рабочие, неухоженные, без маникюра. В земле человек копается, какой уж тут маникюр?»
Честно говоря, отцовскую жену Рина представляла другой – образ деревенской тетки, навязанный фильмами и книгами, стоял перед глазами. Да и сама она их повидала. Они почему-то были похожи между собой – крикливые, суетливые, вечно критикующие молодежь и современную моду. Располневшие, рыхлые, с опухшими ногами в густых реках вен, с распущенной химической завивкой, в вылинявших халатах или цветастых и ярких платьях, с обязательной самовязаной растянутой кофтой на пуговицах или в прямых темных юбках. На ногах сапоги со стоптанными каблуками или разношенные тапки. В руках огромные дешевые сумки из дерматина. Одинаковые коричневые или черные пальто с желтоватым песцом, одинаковые золотые сережки с прозрачными разноцветными камнями, дутые кольца из красного золота. И непременный атрибут – золотые зубы, в ряд или одиночные фиксы. И запах. Невыносимый запах дешевых духов и рабочего пота. Но на деле эти простецкие, замученные жизнью и бытом тетки оказывались душевно щедрыми и вовсе не злобными, готовыми поделиться последним. Но это еще надо было понять.
А Валентина даже одета была совсем не так, как представлялось Рине, – никаких заношенных халатов и старых, штопанных на пятках шерстяных носков. От нее не пахло духами – от нее пахло чистотой, стиральным порошком и свежим бельем. И не было на ней ни серег, ни колец. И химии на голове тоже не было. Она вообще была другой, не такой, как все. И не простотой веяло от этой странной женщины, совсем не простотой. А скорее загадкой.
Наверное, этим она и взяла отца, эта женщина. Зацепила и привязала к себе. О чем они с ним говорили? Чем делились друг с другом? И неужели после стольких лет в городе ему нравилось возиться в огороде, копать картошку, солить в бочке огурцы, резать кабанчика к празднику, колоть дрова, топить печь? Хотя как иначе? Это была его жизнь, он ее выбрал добровольно, без принуждения. А ведь Рина насмехалась над ним, не верила, так и не смогла этого принять. А отец ей не врал. Он вообще старался не врать, говорил, чтобы потом не выкручиваться. И все-таки… Как можно было добровольно выбрать все это?
Она не разговаривала с отцом об этом – была обижена, не хотела ничего знать. Да и он смущался, про новую семейную жизнь не говорил – рассказывал про необыкновенные закаты, серебристую застывшую речку, дымчатый теплый восход, рыбалку эту дурацкую, про грибные походы, болота, красные от созревшей клюквы. А еще про пение жаворонка, про желтое поле и малахитовый лес, про узкую снежную тропку и белок, садящихся на руку.
Но разве Рина его слушала? Разве хотела его услышать? Нет. Она только посмеивалась и раздражалась – ей хотелось поскорее распрощаться и убежать к подружкам или на свидание. Да куда угодно, лишь бы не слушать отцовские восторженные рассказы. Все эти красоты, «немыслимые закаты», «невообразимые восходы», ей, честно говоря, были до фонаря. Она и тогда была, и сейчас остается убежденным урбанистом. И не понимает коллег и друзей, строящих коттеджи и дачи, стремящихся убежать на природу «восстановиться и прийти в себя». Нет, она любит путешествия, горы и моря, спокойный и тихий отдых – дней пять, не больше. А потом начинает скучать – снова хочется в город. В сумасшедшую, такую родную, такую знакомую жизнь.
А уснуть все не получалось. Тревожили странные шорохи, как будто дом поскрипывал, постанывал, даже вздыхал. Вспомнила слова отца: «Знаешь, Ирка, дом – это живой организм, живущий своей отдельной жизнью. Он тоже болеет, дряхлеет, грустит или радуется, что-то вспоминает – а ему точно есть что вспомнить. Я часто слышу его вздохи, бормотание, шепот. А квартира, Ир? Точно нет. Квартира – это секция в улье!»
Она пыталась возразить:
– Глупости, у каждой квартиры свой дух и запах, свое лицо, сообразное хозяину.
– Не то, – качал головой отец. – Ты мне поверь. Эх, Ирка! С годами, надеюсь, поймешь!
Однажды, слушая его рассказы о деревенской жизни, Рина с раздражением сказала:
– Ох, пап! Вот они, крестьянские корни! Правильно говорила бабушка Маша – неистребимо! Все рвутся в город, а ты убежал в деревню.
Отец только пожал плечами:
– Ну а что тут странного?
Вспомнились и гостинцы отца, деревенские подарки – он называл их именно гостинцами: мед, соленые и сушеные грибы, кусок домашнего окорока – бледно-розового, с прозрачной слезой, с тоненькой резиновой шкуркой и нежнейшим, белоснежным жирком. Малиновое варенье – Ирка, не из садовой, из лесной малины. Нет, ты понюхай – совершенно другой аромат!
Домой, разумеется, она эти подарки не приносила, живо представляя мамину реакцию. Отдавала Таньке, чему та была страшно рада. Иногда съедали вместе. Та бурно восторгалась, восторженно чавкала:
– Ох, вкуснота! Да, Ир? Разве сравнить с нашей бумажной колбасой?
Было и вправду очень вкусно, но Рина с раздражением думала: «И зачем мне твои грибы и варенье? Лучше бы дал денег, вот что мне бы точно пригодилось». Хотя понимала – какие у него, у школьного учителя, деньги?
Однажды Рина попросила отца эти подарки не привозить:
– Мы не голодаем, пап. Честное слово. Не надо.
Тот обиделся, но ничего ей не сказал. Только вздохнул:
– Ну как знаешь…
Однажды, будучи почти взрослой, Рина спросила:
– Пап, а ты и вправду ни разу не пожалел, что уехал из города? Ну вот просто ни разу?
Отец посмотрел на нее с искренним удивлением:
– Ни разу, Ир! Вот честно, ни разу! Да и потом… Меня давно не было бы в живых, если бы я остался в городе и если бы… – Он на секунду осекся и продолжил: – Если бы не Валентина, жена. Она же меня выходила, дочь, спасла. И от язвы моей, и от душевной боли. От обиды на жизнь. Разве такое забудешь?
Рина ничего не ответила и с сарказмом подумала: «Ага, как же! Валентина эта, тетя Фрося! А здесь, в Москве? Где лучшие врачи? Да со всего Союза сюда едут больные! А он… Эта Валентина его спасла! Травками она его отпаивала, ага, язву его залечила. Нет, ей-богу, смешно».
Рина перевернулась на бок, кровать скрипнула, пружины жалобно запели, за окном что-то глухо шлепнулось наземь, и тут же тоскливо забрехала собака. «О господи, – вздрогнула она. – Поди тут усни».
Подушка была немного влажной. Рина вспомнила, как видела где-то за городом, у кого-то на даче, летом, в погожий денек, хозяйки вывешивали подушки и одеяла на просушку и проветривание – дескать, за зиму запревают и начинают дурно пахнуть.
Эту, видимо, не проветривали.
От настенного коврика пахло пылью, от деревянного пола – сыростью.
Из окошка поддувало – в общем, деревенский комфорт. «Нет, это не для меня, – в который раз подумала Рина. – Увольте! Ничего, два дня – и домой.
А может, уехать завтра, сразу после кладбища? Или не очень удобно? Кажется, на поминках надо присутствовать – не так поймут. Но не наплевать ли мне, кто и как это поймет и кто меня осудит? Кто они мне, эти люди? Уеду и никогда – никогда – не вспомню о них. И вправду, надо уехать завтра, сразу после кладбища. Здесь, кажется, оно называется погостом?
Только в каком я буду состоянии, вот в чем вопрос. Ничего, как-нибудь. В конце концов, не привыкать. Вся жизнь на сопротивлении, вся».
* * *Рина проснулась и глянула на телефон – полвосьмого. Ого, надо подниматься. Валентина сказала, что автобус в полдевятого. Если будет, конечно.
Было зябко. Попробовала бочок печки – остыл. Поеживаясь, быстро оделась.
Валентина сидела за столом и смотрела в одну точку.
– Простите, – кашлянула Рина, – я припозднилась.
Та вздрогнула, глянула на нее и попыталась улыбнуться.
– Ничего, Ирочка. Все нормально. Успеем. Чаю выпей, и поедем с божьей помощью. Сейчас подам тебе, садись.
Она вышла в кухню и через несколько минут внесла чашку с дымящимся чаем и тарелку, на которой лежали два куска хлеба, густо намазанные маслом.
– Вот-вот яичница будет, обожди пару минут. Слава богу, куры еще несутся.
– Да обойдусь, не беспокойтесь, – поспешила ответить Рина. – Я вообще утром есть не привыкла, так, чашку кофе, кусок сыра – и все.
– Сыра нет, – развела руками хозяйка. – Сто лет не была в магазине. Вот, Нина, подружка моя, хлеба вчера занесла, говорит, помрешь с голоду, Валька. А мне и вправду не до еды. Зато масло наше, деревенское. И хлеб вкусный, серый. В городе такого уж точно нет. Санечка всегда восхищался: «Какой у нас хлеб, Валя! Не хлеб – пища богов!» Хлеб с маслом любил больше всего – просто свежий хлеб и масло. Говорил, что на такой бутерброд не нужны ни сыр, ни колбаса – они его только испортят. Раньше-то вообще в деревне ничего не было, ни сыра, ни колбасы, – вот мы и отвыкли. Нет, в районе, конечно, можно было достать, только как-то мы обходились. Сейчас, конечно, всего навалом, даже в нашем, деревенском. Но говорю – отвыкли.
«Ну да, конечно, – подумала Рина, – испортят! Как можно испортить бутерброд настоящим французским канталем или, скажем, итальянской соппрессатой?» Рина глотнула горячий чай и откусила кусок хлеба. «А ведь правда, – удивилась она, – вкусно-то как!» Масло, нежнейшее, ярко-желтого цвета, сладковатое, таяло на языке. Хлеб, ноздреватый, чуть солоноватый, немного влажный, пах солодом – запах детства, запах твердых, чуть сладких бубликов по шесть копеек, теплого подового с плотной горбушкой, из-за которой они с Танькой ссорились. Делили так: верхняя горбушка тебе, нижняя мне. Только как они определяли верхнюю и нижнюю? Этого Рина не помнила.
Валентина поставила перед ней маленькую черную чугунную сковородку с шипящей глазуньей.
– Санечка со сковородки любил, – вздохнула она. – Говорил, так вкуснее.
Рина помнила, когда матери не было дома, и картошку, и яичницу они ели с отцом со сковородки. При маме, конечно, ни-ни! Заработали бы по полной. Но со сковородки было на самом деле вкуснее. Вот почему?
И у яиц вкус был другой. Вернее, так – у яиц был вкус, не то что у магазинных. Даже самых отменных и дорогих, на «натуральных кормах». «Везде у нее Санечка, – подумала Рина, – везде. При каждом слове его вспоминает, при каждом действии».
Через двадцать минут были готовы. Валентина, одетая в темное, – в длинном, до щиколотки, пальто и в черном вдовьем платке на голове, повязанном низко, почти по глаза. На ногах – резиновые сапоги. Из-под пальто – черная суконная прямая юбка.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.