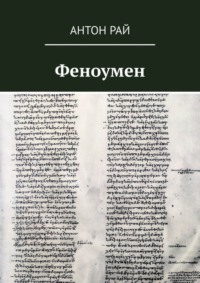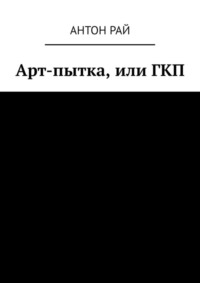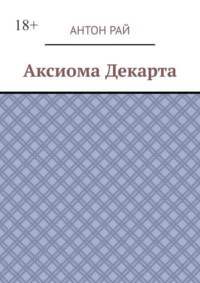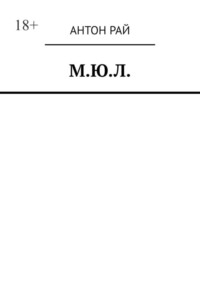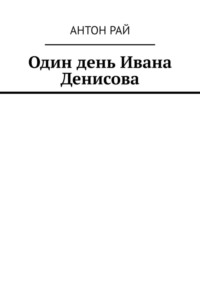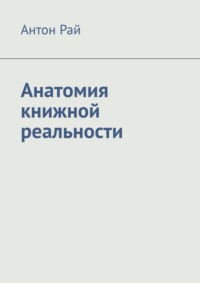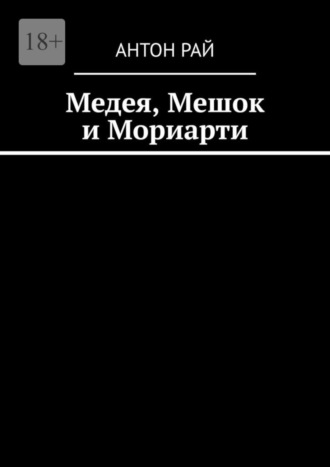
Полная версия
Медея, Мешок и Мориарти
– Чудо, конечно, чудо. А Шерлок Холмс тут при чем?
– А ты вспомни, что с тобой произошло.
– Не очень хочется и вспоминать.
– Ну, теперь-то уже нет смысла бояться, – вот и вспомни, чего ты испугался? «Перед глазами заклубилось густое черное облако, и я внезапно почувствовал, что в нем таится всё самое ужасное, чудовищное, злое, что только есть на свете, и эта незримая сила готова поразить меня насмерть». Это тебе ничего не напоминает?
– Постой-ка… Шерлок Холмс… «Дьяволова нога»!
– Конечно! Я думаю, дело обстояло так. Ты оказался в темноте, тебе стало не по себе, и ты вообразил себе самый сильный страх, который только мог вообразить – страх из рассказа «Дьяволова нога». Так что, можно сказать, ты сам себя напугал. Мне тогда и стало интересно – мог ли ты сам себя испугать насмерть?
– Слава небу, не смог.
– Слава Богу.
– Это всё равно.
– Не всё равно. Но не будем отвлекаться, будем развлекаться. Что бы ты сейчас хотел увидеть? Твое воображение в твоем полном распоряжении.
– Постой, дай собраться с мыслями. Я вот думаю – сюда бы стоило привести писателей и вообще художников – вот для кого по-настоящему существует это место!
– Я тоже когда-то так думала, но быстро поняла свою ошибку. Да ведь «писатели и вообще художники» и так живут в этом пространстве – оно у них в голове. Если бы выдуманные ими образы не были живыми – кто бы стал восхищаться их творениями? Нет, это место не для них, а как раз для нас – не для писателей, но для читателей. Только здесь мы можем увидеть образ во всей его первозданной силе и, таким образом, приблизиться к тайне творчества.
– Пожалуй.
– Не «пожалуй», а так и есть.
Спорить я не стал, хотя подозреваю, что и нетворческие люди могли бы вообразить нечто довольно ярко и отчетливо, хотя и вряд ли сюжетно. Какой влюбленный не вообразил бы себе несколько ярких сцен с объектом своей любви? Какой карьерист не вообразил бы себя на вершине карьерной лестницы? Но все воображенные не-творцами картинки, вероятно, были бы довольно одномерны и фрагментарны. Впрочем, откуда я могу знать, это только предположения, к тому же эти предположения пришли мне в голову только сейчас.
А теперь я опишу мои дальнейшие видения, осуществляемые под заботливым надсмотром Медеи. Но, пожалуй, главное, о чем следует сказать – это о природе видений. Выше я упомянул слово «экранизация», и я думаю, что у многих возникло впечатление, будто бы в пространстве оживающего воображения зритель смотрит что-то вроде кино. Но это, конечно, не совсем так, хотя и подобрать более точную аналогию едва ли возможно. Но есть нюансы… Вспомните, что вы видите, когда читаете книгу? Вы именно видите то, что читаете, хотя то, что вы видите и нельзя ведь назвать экранизацией прочитанного. И вместе с тем вы абстрагируетесь от букв и слов и погружаетесь в определенные видения. Это и есть постижение живого образа, – если же вы не можете абстрагироваться от читаемого и видите только то, что вы «что-то читаете» – значит, образ оказывается либо мертворожденным, либо он писан не для вас. Пока вы не воспарите от написанных слов к живому образу – чтение не превращается в магию. И всё же, какой бы прекрасно-сильной ни была магия чтения, видимый вами образ никак не может проявиться во всей его мощи – вы уже почти видите его, но всё же он оказывается в значительной степени скрытым от глаз. Всё равно вы слишком читаете, чтобы по-настоящему увидеть. Здесь же, в пространстве оживающего воображения, вы, наконец, можете УВИДЕТЬ. В общем, если, читая хорошую книгу, вы переживаете прочитанное как бы на самом деле, то здесь прибавка «как бы» совершенно испаряется, и вы видите всё как происходящее на самом деле. И если уж называть это видение «экранизацией», то это лучшая из возможных экранизаций, когда авторский замысел виден зрителю во всей его полноте. Вы буквально погружаетесь в произведение, оно становится осязаемым, подобно пережитому мною страху, когда-то образно воплощенному Конан Дойлем. Или взять ту же «экранизацию» эпизода из «Одиссеи». Конечно, мое описание увиденного слишком бледно по сравнению с тем, что мы тогда увидели. Но что же мы увидели? Представьте себе оживший слог Гомера – только тогда и поймете. Но, чтобы понять это, надо увидеть это. Увидеть собственными глазами. Что ж, приезжайте, место вам известно. Осталось только подсказать вам нужное слово… да вот беда, я его всё еще и сам не знаю. А вы еще не знаете, о каком слове я говорю – скоро я поясню.
Итак, я хотел рассказать вам о том, что увидел в этот день, но после всех сделанных пояснений не уверен, что это стоит делать. Всё равно мне пришлось бы в лучшем случае цитировать те или иные отрывки из книг – но о магии чтения вы, как читатели, имеете полное понятие и без меня. Скажу лишь, что я с удовольствием побывал в погребке, в котором Атос держал многодневную оборону, съев и выпив всё, что там находилось и почти совершенно разорив почтенного трактирщика. Этот отрывок (как и вообще весь обратный путь д’Артаньяна из Лондона в Париж) всегда был одним из моих любимых, правда, в последнее время я наложил на него табу (так как он разжигает аппетит, который я стараюсь по возможности гасить), но в сложившихся обстоятельствах я забыл обо всех табу и просто смотрел. После погребка Атоса я побывал на сеансе черной магии с полным ее разоблачением, а потом еще заглянул в гости к Ноздреву, чтобы посмотреть на знаменитую партию в шашки между ним и Чичиковым. Медея всё время стояла рядом со мной, держа меня за руку и просматривая вместе со мной мои видения. Потом мы смотрели ее видения. Сначала она пробудила к жизни эпичную битву между кем-то и кем-то – очевидно, из «Илиады»; потом мы перенеслись на остров Монте-Кристо, где таинственный хозяин острова, приняв имя Синдбада-Морехода, принимал неожиданно свалившегося ему на голову гостя – Франца д’Эпине, взявшего имя Алладина (тьфу, Аладдина, конечно же)24; наконец… но последнее видение Медеи было слишком ярким, и я должен постараться всё же как-то его описать.
Мы увидели… ее. Разве девушка, порывисто соскочившая с постели и быстро начавшая приводить себя в порядок, сначала причесав непослушные кудри, а потом натершись какой-то мазью, – разве это не моя спутница, держащая сейчас меня за руку? Нет, наверное, это всё же не она, но очень, очень похожа на нее. Вот она облачилась в некое одеяние, которое мне, за незнанием, трудно как-то точно обозначить (туника? хитон?) и вышла из дома. Там ее уже ожидала повозка, окруженная служанками; кажется, их было не менее десяти. «Медея» взошла на повозку и взяла в руки вожжи и кнут, две служанки последовали за ней и встали – одна слева, а другая справа от грозной и прекрасной возницы, остальные встали позади. Повозка тут же понеслась по улицам города. О, это надо было видеть! Несущаяся во весь опор повозка с управляющей ею «Медеей», бегущие вслед за повозкой девушки, одеяния которых колышутся на ветру, сторонящиеся люди, с удивлением, благоговением и опаской взирающие на повозку-метеор. Это надо было видеть – и мы это видели! У меня поистине захватило дух, а ведь я уже и так немало всего повидал за этот день.
– Что это за прекрасное видение? – спросил я у Медеи, как только мы вновь оказались на поляне.
– Неужели ты не узнал меня? – с улыбкой спросила Медея.
– Узнал. Но я не припомню такого эпизода в «Медее».
– Понятно. Ты читал «Медею» Эврипида, и ты наверняка читал «Мифы древней Греции». А читал ли ты «Аргонавтику» Аполлония Родосского?
– Нет.
– Теперь, можно сказать, что читал – и даже лучше, чем читал. Мы видели эпизод, когда Медея, проведя бессонную ночь, чуть не стоившую ей жизни (она хотела покончить с собой), всё же решилась (вопреки отцу) помочь Ясону и его спутникам. Мы видели момент пробуждения, и как она потом отправилась в храм Гекаты на встречу с Ясоном и со своей роковой судьбой. Её путь к храму – один из моих любимейших эпизодов во всей мировой литературе. А в «Легендах и мифах» этот эпизод описывается всего лишь так: «Позвала Медея рабынь и поехала в храм Гекаты. Радостно было на сердце у Медеи, она забыла все свои тревоги и думала лишь о свидании с Ясоном»25. Какое жалкое описание! Нет, только прочитав Аполлония, ты сможешь увидеть подлинную Медею – со всеми терзающими ее душу страстями. Впрочем, тебе и так повезло ее увидеть.
– Мне даже повезло и сейчас стоять рядом с ней.
– А ты, может, действительно считаешь меня воплотившейся Медеей?
– Ну а почему бы и нет? Если уж мы можем видеть воплощенные образы – почему бы, в качестве исключения, мы не могли бы встретиться с ними и воочию?
– Я не собираюсь тебя разубеждать. В жизни не так много чудесного, чтобы торопиться «объяснить» чудо какими-то прозаическими причинами. Хотя чудо – оно и есть чудо, как его ни объясняй. Ладно, на сегодня мы увидели достаточно. Пора возвращаться в реалии.
Я так не думал, но кто хотел знать мое мнение? Мы пошли к лодке и вскоре уже вновь плыли по озеру. На середине я затормозил, причем по собственной инициативе. Солнце, восходившее с утра, теперь заходило. Прекрасное зрелище.
– Неужели мы пробыли тут целый день?
– Едва ли. Здесь всегда так: когда плывешь оттуда сюда – восход солнца, а когда отсюда туда, заход.
– А почему?
– Понятия не имею.
– Кстати, а как ты сама открыла это место?
– Не сама.
– А кто…
– Толстой или Достоевский?
– Что?
– Я спрашиваю: Толстой или Достоевский?
– В смысле: кого я предпочитаю?
– Ты удивительно догадлив.
– А мой вопрос?
– Я больше люблю задавать вопросы, чем отвечать на них. А вот ты так и не ответил, а я очень не люблю, когда на мои вопросы не отвечают.
– Толстой.
– «Война и мир» или «Анна Каренина»?
– «Анна Каренина».
– Булгаков или Гоголь?
– Гоголь… хотя обоих люблю.
– Первая реакция самая ценная, значит, всё же Гоголь. «Ревизор» или «Женитьба»?
– «Ревизор».
– Платон или Аристотель?
– Ни тот, ни другой.
– Ни тот, ни другой не нравятся, или не читал – ни того, ни другого?
– Не читал.
– Знакомая и печальная история. Придется прочитать.
– А ты за кого: за Платона или за Аристотеля?
– Капитализм или коммунизм?
– Хм… Вообще, первым побуждением было сказать «коммунизм», вторым – «капитализм», а третьим – ни то, ни другое. Я вот недавно зубы лечил, в копеечку лечение влетело, но я как вспомнил бесплатно-коммунистическую стоматологию, подумал: нет, уж лучше капитализм.
– А почему первым делом подумал о коммунизме?
– Достаточно вокруг посмотреть – такой кругом капитализм, что с души воротит. Но это с любой системой так. Живешь при капитализме – мечтаешь о коммунизме, живешь при коммунизме – капитализм кажется землей обетованной.
– Мужчины или женщины?
– В смысле?
– В том самом смысле.
– Женщины.
– Запомним… Ален Делон или Бельмондо?
– Бельмондо.
– Почему же не Делон?
– Слишком гламурен. Особенно для мужчины.
– Ну, не все мужчины хотят выглядеть как неприбранная кровать26 (критически взглянув на меня). «Илиада» или «Одиссея»?
– Однозначно, «Одиссея».
– Почему так однозначно?
– А, все эти бесконечные битвы героев в «Илиаде» утомляют. Я вообще не люблю книги про войну, поэтому и «Анну Каренину» предпочитаю «Войне и мир».
– Слишком понятно. Когда нет мужества, то и читать о мужественных людях непросто.
– Да, я не герой, и очень рад этому.
– Ах, как современно это звучит! Славьте меня – я не герой! Я человек мирный. Вчера только ходил зубы лечить, а сейчас пойду в магазин за творожком со сметанкой27.
– Творожок со сметанкой – это очень даже неплохо.
– Угу. Лишь бы не было войны.
– А ты – за войну? Но ведь и Толстой в «Войне и мире» уже осуждает, а вовсе не воспевает войну.
– Верно, и это очень важно. На каком-то этапе всё, что есть в жизни героического, ушло в литературе в приключенческий пласт, а серьезная литература выбрала в герои или более-менее маленького человека, или в любом случае человека скорее рефлексирующего, чем действующего. Настоящий герой в искусстве – это, в лучшем случае, Шерлок Холмс, а в худшем – Шварценеггер с автоматом в руках. Вспомни, например, «Сталкера». Кстати, «Сталкер» или «Пикник на обочине»?
– «Сталкер», конечно.
– А почему, конечно? Хотя можешь не говорить – я и так знаю. Потому что герой в «Пикнике» – настоящий герой, а в «Сталкере» – почти юродивый, а это больше соответствует культурным представлениям о том, каким должен быть герой художественного произведения. Тарковский так и говорил Стругацким: «Чтобы и духу вашего бандита в сценарии не было». А я как раз куда больше люблю Рэдрика Шухарта, чем Сталкера, и кровожадность «Илиады» мне ближе миролюбия «Войны и мира». Вообще, я надеюсь и даже верю, что искусство будущего еще сможет вернуть героизм в «серьезную» литературу и кино.
– Не сможет.
– О, ты решил поспорить с Медеей?
– Да что тут спорить. Писатели – люди мыслящие, а мыслящие люди бесконечно далеки от всех этих ребят с автоматами. Писатель на войне видит прежде всего трагедию войны – и это правильно.
– И что же тут правильного? Война – трагедия для мирного населения, это несомненно. Но сама по себе война вовсе не является трагедией или, точнее, она является трагедией в том же смысле, в котором трагедией является сама жизнь… Для воюющих же – это просто их дело, и очень часто – дело любимое.
– Я и не сомневаюсь, что война в обилии плодит психопатов, влюбленных в войну.
– Ой, не смеши меня. Хотя твои слова опять-таки весьма характерны. Знаешь, у меня есть двое знакомых: один музыкант, а другой – военный; оба – очень известные в своих сферах люди. Так вот, музыканту когда-то довелось побывать в Чечне – во время войны, и он мне говорил, что после возвращения оттуда он несколько недель только плакал и бухал – больше ничего делать не мог. Так его шокировало всё увиденное. Когда я рассказала об этом военному (а он как раз воевал в Чечне), он только презрительно рассмеялся. «Ну, говорит, и психи эти гражданские. Я, говорит, ни на какой войне не видел столько истериков и психопатов, сколько в любом мегаполисе». И ты знаешь, я думаю, что он прав. В мегаполисе психов наверняка больше, чем на любой войне. Военные преимущественно люди уравновешенные.
– Не буду спорить.
– Капитулируешь?
– Ну, я же не герой.
– А я еще, может, превращу тебя в героя.
– Зачем это?
– Скоро узнаешь.
– Любопытно…
– Давай, поплыли дальше, а то солнце совсем зайдет.
И мы поплыли, и скоро уже снова выходили на берег. Какое-то время занял стыдный для меня ритуал помещения лодки обратно в рюкзак; Медея не упустила шанса в очередной раз поглумиться над моей «практичностью». Затем она отвернулась от меня, произнесла какое-то слово – какое, я не расслышал – и сказала:
– Всё, теперь можем выходить.
И мы пошли пролеском к дороге. Не знаю, в каком именно месте реальность изменилась, но, выйдя на дорогу, мы снова оказались поливаемы дождем и обдуваемы пренеприятнейшим ветром. Я спросил у Медеи:
– При выходе ты произнесла какое-то слово, или мне показалось?
– А как же – произнесла. И при входе тоже – еще при подходе к озеру. Волшебное слово, как и полагается. «Сезам, откройся», «Мутабор», и всё в таком духе.
– И что это за слово?
– Хочешь увидеть Медею за колдовством?
– Хотел бы и сам поколдовать.
Медея задумалась, внимательно рассматривая меня – вероятно, она взвешивала, насколько я достоин стать хранителем волшебного слова. Оказалось, нет, еще недостоин.
– Позже скажу, – и мои дальнейшие расспросы ни к чему не привели.
Дождь и ветер не ослабевали, но пережитый нами сегодня опыт был слишком удивителен и содержателен, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Правда, скоро обнаружилось, что идти обратно пешком нет никакой возможности. Слишком много машин, а тележку ведь, напомню, приходилось катить по краю дороги – очень неудобно, того и гляди, что какая-нибудь машина попросту сшибет ее. К тому же я снова почувствовал усталость, о которой в пространстве оживающего воображения совсем позабыл, да и у Медеи, похоже, не было особого запала пройти пройденное с утра еще раз. В общем, мы дошли до ближайшей автобусной остановки и сели ждать автобуса или маршрутки. Ждали недолго, потом недолго ехали и вот мы уже снова в Сосновом Бору. Эх, как же мне не хотелось идти домой! После всего пережитого – и возвращаться в свою квартиру к пререканиям с мамой? – это святотатство. Но вот уже и дом. Я остановился, Медея тоже. Я ждал, что она что-нибудь скажет, но она молчала. Вообще, за время, пока мы занимались совместными видениями, мне показалось, что она смягчилась и что между нами даже установилась какая-то связь (протянулись нити интимности), но теперь она стояла рядом со мной – холодная, чужая и пугающая.
– Чего стоишь? Беги домой к мамочке, а то она тебя заждалась уже.
– Ну, а мы как-то еще…
– Как-то еще – что?
– Встретимся?
– А зачем?
– Ну как, зачем? Мне хотелось бы еще раз…
– Понятно, что хотелось бы. А ты это заслужил?
– Не знаю. Нет, наверное.
– Продолжаем скромно самоуничижаться? Ладно уж. Встретимся, если ты этого хочешь, а если сильно хочешь, то мы можем встретиться прямо сейчас.
– Это как?
– Я тебя приглашаю в гости, хоть ты этого, по твоему собственному признанию, и не заслужил.
– В гости? В Питер, что ли, ехать?
– Да нет, зачем же. Я живу здесь, недалеко. Минут десять ходьбы.
– И с каких это пор ты здесь живешь?
– А вот с таких. Я недавно квартиру тут купила, – и уже месяца два как обживаюсь. Нравится мне здесь, так что я теперь буду жить на два города: на Питер и на Сосновый Бор.
Такие вот новости, вследствие которых уже через десять минут я нежданно-негаданно оказался в гостях у Медеи. И кто бы мог подумать, что, после всех чудес этого дня, главное чудо еще впереди! Но я забегаю вперед, хотя и совсем чуть-чуть. А пока что мы переступили через порог ее квартиры, и нам навстречу тут же выбежал большущий рыжий котище, смахивающий на маленького тигра.
– Тигр хочет есть, – ласково (да-да – ласково!) поприветствовала рыжика Медея (очевидно, имя «тигр» и ей показалось самым подходящим). – Сейчас, подожди немного, и ты получишь сочный кусок антилопы.
Я подошел к коту и погладил его. Медея посмотрела на меня с удивлением, которое, в свою очередь, немного меня удивило.
– Что-то не так? – спросил я.
– Да нет, почему…
Она ушла на кухню – кормить тигра антилопой, а я прошел в комнату. Комната была обставлена довольно аскетично и в этом смысле напоминала мою, на чем, впрочем, сходство и исчерпывалось. Даже аскетичность комнаты Медеи сильно отличалась от аскетичности моей комнаты. Я пренебрегал украшательством и удобствами из-за неряшливого равнодушия; она предельно функционально выстраивала свое жизненное пространство. Всё в комнате настраивало на рабочий лад, заставляло собраться-подобраться. Составив такое общее впечатление, я стал присматриваться к деталям. Три книжных стеллажа у стены: один, заставленный под завязку, другой – заполненный где-то на четверть, третий – пустой. На полу, в углу комнаты лежали гантели – очевидно, Медея тоже уделяет немалое время поддержке своего тела в должном состоянии. Телевизора в комнате не было, но это бы еще ладно, но не было даже и компа! Заместо компа на столе расположилась целая груда бумаг, впрочем, груда – неверное слово, оно подразумевает нечто хаотичное, а все бумаги на столе Медеи были разложены в идеальном порядке. Сразу чувствовалось, что вы находитесь в комнате большой аккуратистки: ни намека на беспорядок или на пыль – и горе тому, кто попытался бы внести беспорядок или немножко напылить! Рядом с бумагами лежала очень красивая черная ручка с изображением какого-то символа – если бы я разбирался в черной магии, я бы смог вам сказать, какого. С края стола лежал блокнот, я позволил себе раскрыть его; на первой странице четким и красивым почерком было выведено:
«Независимо от величины кошки или ее внешнего вида, все они созданы для одного – убийство».
Очевидно, в этот блокнот Медея записывала свои мысли. Интересно! Я перелистнул страницу и прочитал:
«Величавый же – это, по-видимому, тот, кто считает себя достойным великого, будучи действительно этого достойным».
Ниже шла запись на непонятном мне языке, скорее всего греческом – вероятно, дубль фразы про величавость на русском, а еще вероятнее – оригинал фразы. Вообще, не очень похоже на мысль, выраженную современным человеком – скорее всего цитата из какого-нибудь древнего автора. Цицерон-Платон какой-нибудь. Я хотел было продолжить занимательнейшее чтение блокнота, но тут в комнату вошла хозяйка.
– А, уже роемся в чужом чистом белье, – сказала она, но, кажется, беззлобно.
– Узнал, кто такой величавый человек.
– Величавый же – это, по-видимому, тот, кто считает себя достойным великого, будучи действительно этого достойным, – Медея с явным удовольствием произнесла только что прочитанную мною фразу вслух. – Чудесная формулировка, верно? Только греки умели так формулировать.
– Отдает высокомерием.
– Нисколько. Это опять-таки современность в тебе говорит. Современность предписывает скромность как добродетель, впрочем, слово «добродетель» сегодня употребляется редко.
– Мир настолько погряз в грехе, что даже и о слове «добродетель» позабыл, – сказал я с улыбкой.
– Неплохая формулировка, – без всякой улыбки ответила Медея. – Беда только в том, что и понятие греха в современном мире безнадежно искажено.
– Каким же образом?
– Мы еще как-нибудь поговорим об этом.
– Хорошо, – ну а чем все-таки плохо быть скромным?
– По нынешним меркам как раз-таки хорошо быть скромным, плохо быть высокомерным. Или, бунтуя против навязываемых воспитательных норм, хорошо быть высокомерным, плохо – скромным. Заметь, сегодня типаж «высокомерной сволочи» оказывается достаточно востребованным, но это не более чем эпатаж. Бунт ребенка против родителя, бунт студента против учителя. На самом деле, высокомерие как противоположность скромности – такая же глупость, как и сама скромность. А вот что такое величавость сегодня и знать никто не знает – именно потому, что и быть, и признавать себя достойным великого – слишком уж это нескромно. И что это такое – великое? – кажется, все позабыли об этом… Между тем высокомерный человек может быть дурак дураком (и в большинстве случаев таковым и является), а вот величавый – никогда. А ты мне лучше вот что скажи – кто автор определения величавости?
– Наверняка какой-нибудь грек – из самых древних.
– Конечно, но я тебе и так уже сказала о греках, так что ответ не засчитывается даже как приблизительный. Так кто?
– Я не знаю.
– Я тебе даже немного завидую. Ты еще почти ничего не знаешь, а это значит, что тебе суждено так много узнать! Ладно, в моих бумагах ты уже покопался, остается сделать ревизию моих книг. Хочешь посмотреть?
Я, конечно, хотел, так что мы подошли к книжным стеллажам, – к тому стеллажу, который был заставлен до отказа.
– А ты я вижу не прагматик, – сказал я, имея в виду, что она всё же отдает предпочтение книгам в бумаге:
– Прагматик. Просто однажды я читала «Илиаду» в оцифрованном виде и там, после слов:
Боги, у Зевса отца на помосте златом заседая,
Мирно беседу вели; посреди их цветущая Геба
Нектар кругом разливала; и, кубки приемля златые,
Чествуют боги друг друга, с высот на Трою взирая.
…следовала приписка: «буржуи проклятые!» Видно, тот, кто оцифровывал текст, сделал собственную пометку (выразил свое собственное отношение к олимпийским богам, так сказать), да и забыл стереть – и «проклятые буржуи» так и остались в электронном тексте. Нет, думаю, спасибо, лучше я буду читать научно подготовленные издания, со всем сопутствующим отсылочным аппаратом и с минимумом опечаток и всякой отсебятины. Я не хочу засорять свой мозг – чистая прагматика.
– Ну, тут ты неправа. Сейчас к оцифровке книг подходят вполне ответственно, а ты просто какой-то самопально-пиратский вариант «Илиады» читала. А уж что касается ссылок, то их намного удобнее читать именно в электронном варианте. А что до «буржуев», то тебе с таким же успехом мог бы попасться и печатный текст с чьими-то пометками – у меня, помню, было полно таких книг, со всякими подчеркиваниями и комментариями, сделанными бог знает кем. Так что нет – прагматично именно погружение в электронный текст, а бумага – это чистая романтика.
– Не буду спорить.
– Капитулируешь?
Медея взглянула на меня, и я сразу понял, что позволил себе слишком много и, чтобы избежать возможного наказания за свою дерзость, стал рассматривать содержимое полок. Одна из полок была как раз заставлена исключительно «Илиадами» с «Одиссеей». Тут были не только все русские варианты переводов, но и оригинальные тексты, и тексты на различных языках: на английском, немецком, французском и, кажется, даже японском.