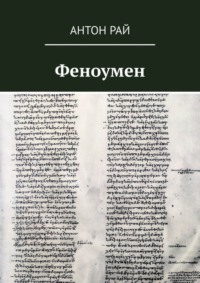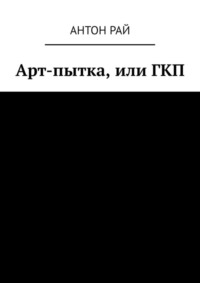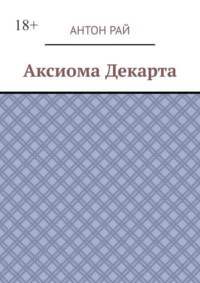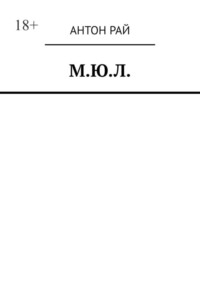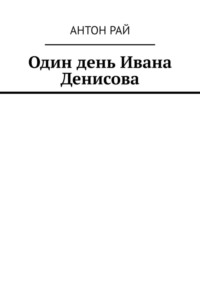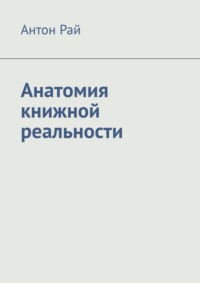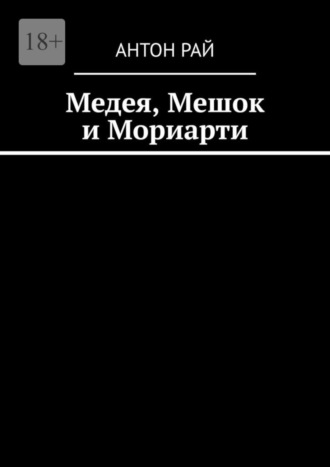
Полная версия
Медея, Мешок и Мориарти

Медея, Мешок и Мориарти
Антон Рай
© Антон Рай, 2022
ISBN 978-5-0059-0977-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая. Медея и Мешок
Глава первая. Мешок
Миша по прозвищу «Мешок», в сопровождении своей мамы, у которой не было никакого прозвища, вышел из дома. «Мешком» Мишу называли по двум причинам – во-первых, псевдо-ласково (а на самом деле ернически) коверкая его имя – «Мишок», но главным образом Мешком его обзывали потому, что он и был мешком – большим, вместительным и бесформенным. Да, его все-таки именно обзывали, а не называли Мешком. Миша рос классически непопулярным жиртрестом, живущим в основном для того, чтобы давать поводы для глупых и жестоких шуточек своим более утонченным сверстникам. Так, во всяком случае, обстояло дело в детстве и юношестве. Во взрослом состоянии Миша-Мешок никому не давал повода шутить над собой – просто потому, что он ни с кем и не общался. Ни с кем, кроме мамы, но мама всегда была на его стороне, холя и лелея любимого сыночка.
Сыночек в итоге закономерно вырос избалованным социопатом. Социопатом, но не психопатом1, хотя внешне Миша и вполне себе походил на маньяка, которые, как известно, очень часто проживают (во всяком случае, в кино и книгах) со своими гипер-опекающими мамашами. И все же Миша не ожесточился на людей, но попросту избегал их. Его миром стал мир его комнаты, где он и проводил почти всё свое время. А как же работа, спросите вы? А он не работал. По этому поводу мама как-то попыталась поговорить с великовозрастным сыночком всерьез, но он ей сказал прямо, что работать не будет, – и ей пришлось с этим смириться. А что она могла сделать? Не кормить сына? Выгнать его из дома? Что еще? Нет, ей оставалось только смириться. Конечно, она зарабатывала не так, чтобы много, но на двоих им вполне хватало, а больших трат у них и не было. Потом, с некоторых пор Миша перестал просить у нее деньги, сказав, что он и сам достаточно зарабатывает в интернете. На вопрос: «Как именно он зарабатывает?» – он ответил, что она всё равно не поймет; что ж, пришлось смириться и с этим. Так же ей пришлось смириться и с мыслью о том, что ей никогда не дождаться внуков – Миша не делал никаких поползновений в сторону брака и вообще к общению с противоположным полом. Впрочем, эта мысль (об отсутствии внуков) как-то не сильно угнетала ее. Зачем ей внуки, если у нее есть сын, а раз сын дома, то есть всегда под рукой, значит, всё в порядке. В общем, как и всегда бывает в подобных случаях, ненормальная ситуация живущим в ней вовсе не казалась ненормальной, а, напротив, представлялась вполне естественной.
Правда, опять-таки отмечу, что, как мать, несмотря на гиперопеку, не стала для Миши скрытым или открытым деспотом, так и он, несмотря на избалованность, не превратился в капризного тирана своей матери – в монстра, высасывающего из нее все эмоции и деньги. В целом, я бы сказал, что они сосуществовали как довольная собой старая супружеская пара, вот только такое заявление сегодня моментально будет истолковано во фрейдистко-инцестуозном ключе. Что же, пусть так; доля истины, вероятно, будет и в таком толковании, хотя я бы ни в коем случае не делал его ключевым. Мама любила Мишу, Миша любил маму. Они жили вместе. Дальнейшее додумывайте сами. Что касается фигуры отца, то однажды Миша задал маме неизбежный вопрос: был ли у него отец и кем он был? Мама сказала, что отца у него не было, а следовательно, кем он был, совершенно неважно. Что ж, Мише тоже пришлось смириться с этим парадоксальным ответом. Не всё же одной матери смиряться.
Итак, как уже было сказано, Миша в сопровождении своей мамы вышел из дома. Куда они шли, спросите вы? Отвечаю: в поликлинику. Вообще-то, Миша не хотел никуда идти, но даже он вынужден был признать, что сходить к врачу необходимо. Его чертово тело с некоторых пор всё больше и больше досаждало ему. Оно давно уже перестало быть его союзником и источником приятных ощущений, превращаясь во все более отягощающий груз, превращаясь в… мешок – физиологический мешок с непонятным и опасным содержимым и даже своим собственным автономным сознанием, осознающим лишь необходимость своего беспредельного роста, хотя бы и ценой саморазрушения. Что поделать, у Миши была зависимость. Нет, его не интересовали всякие глупости вроде секса и алкоголя, а вот еда – это другое дело. Без еды он жить не мог. Преимущественно, без вредной еды, а именно без всяческих чипсов, шоколадок и курочек в гриле. Мать не видела в его, как она говорила, «хорошем аппетите» ничего дурного, хотя, как и всякая мать, предпочла бы, чтобы он ел побольше фруктов и овощей, а вовсе не шоколадок с чипсами, но если уж сыночек просит шоколадку – как ему откажешь? Никак. В вопросах еды Миша привык чувствовать себя абсолютно свободным – он получал всё, что хотел, и, как и все люди, культивирующие подобного рода свободу, довольно быстро оказался в рабстве. Он бы уже и хотел кое чего не хотеть, но его хотения больше не подчинялись ему, навязывая свою волю помимо его воли. Физиологический мешок требовал своего, причем его аппетиты всё разрастались, а требования становились всё более категорическими, и Миша ничего не мог с этим поделать, хотя иногда и пытался выказывать робкие признаки неповиновения.
В общем, время разделилось для Миши на две совершенно различные половины: благословенное «до» и невеселое «после». «До» – это когда можно было взять и просто так, походя, съесть сникерс, баунти или еще какой-нибудь шоколадный батончик. «До» – это когда он мог беззаботно слопать пачку печенья за чаем, а потом еще забросить в себя некоторое неопределенное количество пряников. «До» – это когда он спокойно поднимался на свой четвертый этаж. Но всё это было «до», а теперь настало «после». «После» – это когда съев пару сникерсов, он уже довольно скоро начинал чувствовать тяжесть в желудке, и это чувство портило ему впечатление от предстоящего обеда или ужина. «После» – это когда он вынужден был выбирать между печеньем и пряниками, и, даже если он выбирал пряники, то и те он уже должен был считать, говоря себе: «Я съем не больше десяти пряников – надо держать себя в форме». «После» – это когда поднявшись всего лишь на третий этаж, он вынужден был немного постоять и перевести дух. Четко выделить момент, когда наступило «после», превратившееся для него также и в «теперь», он не мог. Подступало, подступало, да и наступило. Как говорят ученые люди, количество перешло в качество; в его случае – в нечто злокачественное.
Плюс вчера он «сорвался» и объелся (что случалось с ним нечасто – не чаще одного раз в день), и ему стало просто физически очень плохо. Ничего нового – подобные происшествия случались и раньше, но раньше, опять-таки, ему все-таки было терпимо плохо, а теперь стало плохо нестерпимо. Речь уже было зашла и о скорой помощи, но он как-то очухался и всё же был вынужден согласиться с матерью – сходить к врачу совершенно необходимо. Вообще, это, похоже, любимый женский спорт – женщины ходят к врачам (и еще – в церковь), как мужчины – на футбол. Эта мысль скорее всего неверна, но пусть уж остается, раз родилась.
Пока я таким образом предавался различного рода размышлениям и пояснениям, Миша со своей мамой уже дошли до поликлиники и даже подошли к искомому кабинету. Здесь я опять-таки нахожусь в некотором затруднении. Стоит ли описывать всю, как бы ее и назвать, подноготную жизни поликлиники? Стоит ли описывать очередь, в которой те, кто записался по талону, спорят с теми, кто пришел без талона; стоит ли описывать злость пациента, пробившегося к врачу и обнаружившего, что у того нет его карточки, а потом спустившегося в регистратуру, чтобы узнать, что и в регистратуре его карточки тоже нет. «Где же моя карточка?» – вопиет пациент. Пропала, испарилась, потерялась, канула в лету. Но вы не волнуйтесь, дорогой пациент, может быть, ваша карточка когда-нибудь и найдется, а пока что на вас заведут новую карточку, с тем, чтобы впоследствии перепутать ее с найденной старой. Стоит ли описывать высококонцентрированную напряженность, всегда витающую вокруг одних кабинетов (например, около кабинета терапевта или травматолога) и почти всегдашнее отсутствие очереди у других? Стоит ли описывать всё это? Стоит или не стоит, но я всё уже и так описал.
Но что, пожалуй, всё же стоит описать отдельно, так это очередь в кабинет флюорографии, по сравнению с которой всякая прочая очередь является, так сказать, лишь прелюдией, лишь тенью очереди, чем-то таким, чем, например, жалкая реальная вещь является в сравнении с полноценной идеей этой вещи. Очередь в кабинет флюорографии – это именно что воплощение самой идеи очереди. Подобный подход может показаться вам слишком философским, но оказавшись в этой очереди, немудрено стать философом, ведь каждый человек, отстоявший флюорографическую очередь до конца, неизбежно становится или, ура, стоиком, или, увы, истериком. Даже и просто занять очередь в этой очереди оказывается далеко не так просто, потому как каждый кандидат на роль «последнего» прибавляет: «Но за мной еще занимала женщина, только она сейчас отошла», – а пришедшая минут через двадцать женщина говорит, что за ней еще занимал мужчина, который скоро подойдет, но которого она плохо помнит, ввиду чего она не ручается – а стоит ли вообще новоприбывшему занимать очередь? – «всё равно и за этим неопознанным мужчиной стоит еще человек десять». Ох уж эта флюорография! Неужели все-таки возможно пройти тебя?
Кстати, в скобках замечу, что я могу дать вам неплохой совет – по поводу пребывания в различного рода очередях, даже и в такой безысходной, как флюорографическая очередь. Всегда носите при себе томик хороших стихов, и, увязнув в очереди, просто начинайте учить наизусть наиболее приглянувшиеся вам строки. Способ проверенный – только сегодня, когда я основательно увяз в очереди, я заучил наизусть несколько стихов Эмили Дикинсон, плюс еще одно очень забавное, приписываемое Пушкину стихотворение о поэте, канувшем в Лету. Только-только заучиваемое начало отскакивать от моих зубов с четкостью, позволяющей говорить о вполне удовлетворительной заученности, как уже подошла и моя очередь. А я, можно сказать, и пролетевшего времени не заметил, и полезное дело сделал, а точнее сказать – хорошее, потому как не уверен, что знание стихов наизусть может считаться чем-то полезным, а вот что это хорошо – в этом сомнений нет. Впрочем, я понимаю, что совет мой не слишком практичен, и всякий продвинутый чел, увязнув будь то в очереди, будь то еще где, попросту открывает инет на своем телефоне и начинает – как это там говорится – сёрфить в инете. Что ж, сёрфить тоже дело неплохое – могущее быть неплохим, если вы сёрфите инет в поисках всё тех же самых стихов, к примеру.
Но вернемся к Мешку. Поварившись некоторое время в специфической атмосфере поликлиники, он наконец-то вошел в кабинет врача. Врач оказался довольно-таки молодым человеком; очевидно, именно по причине своей молодости он еще не вполне утратил профессиональный энтузиазм и не без интереса встречал каждого нового пациента. Он внимательно выслушал историю Миши («желудок почти не варит, под ложечкой тяжесть, изжога замучила, дышать тяжело…»), после чего приступил к профессиональным расспросам.
– Дайте руку, – сказал доктор, прощупал пульс и закрыл на минуту глаза. – А кашель есть? – спросил он.
– По ночам, особенно когда поужинаю незадолго до сна.
– И часто вы едите на ночь?
– Довольно часто, хотя и не каждый день (на самом деле Миша ел на ночь почти каждый день, но какой пациент хоть немного да не соврет доктору).
– Гм! Биение сердца бывает? Голова болит?
Доктор сделал еще несколько подобных вопросов, а потом весело сказал:
– Если вы еще года два-три проживете в таком режиме, да будете всё лежать, есть жирное и тяжелое – вы умрете ударом2.
Мешок, до сих пор довольно апатичный, встрепенулся.
– Умру?
– Умрете, конечно, а что вас так удивляет?
– Я еще довольно молод, мне нет и сорока.
– На свете очень много людей, не перешагнувших рубеж сорока лет.
– Спасибо за утешение.
– Пожалуйста. Не так давно (я тогда еще в Питере работал, в скорой помощи), меня вызвали – сердечный приступ у одного почти молодого человека – и тот, кто меня вызвал, буквально требовал, чтобы я чуть не оживил преждевременно усопшего – на том основании, что «этого, мол, не может быть»3. Но люди умирают – с этим ничего не поделаешь.
– А я думал, девизом врача должно быть скорее – «люди выздоравливают…».
– Иногда и выздоравливают – и такие аномалии случаются. Нет, я, конечно, сейчас выпишу вам всякие лекарства и направления на самые разные анализы, но чудес, знаете ли, не бывает. С вашим образом жизни вы непременно угробите себя, какое лечение к вам ни применяй.
– Что же делать?
– Вы и сами прекрасно знаете – что. Меньше есть, больше двигаться – и улучшения не заставят себя ждать.
– Вы хотите превратить меня в антипода лорда Генри?
– Что еще за лорд Генри?
– Лорд Генри Уоттон!
– Что за лорд Генри Уоттон?
– Лорд Генри Уоттон из романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».
– А, читал, читал. В школе читал… кажется. Ничего не помню. Помню, что этот Дориан вроде как плохо кончил. Или это был Мартин Иден? Нет, плохо помню… А лорда Генри не помню вообще. Так что с ним?
– О, это прелюбопытный персонаж. Он наговорил кучу всяких парадоксов, которые теперь всем приходится за ним повторять. В частности, он говорил: «Чтобы вернуть свою молодость, я готов сделать всё на свете – только бы не заниматься гимнастикой, не вставать рано утром и не вести добродетельный образ жизни». А вы именно хотите, чтобы я начал вести добродетельный образ жизни.
– Добродетельный – слово-то какое. Сто лет его не слышал. Ведите здоровый образ жизни – этого достаточно. Можете даже слишком рано не вставать, – но гимнастику делайте обязательно. А то отправляйтесь в путешествие. Вы ведь знаете, что земной шар давно уже превратился в шарик. Один день – и вы на другом конце света.
– Где можете созерцать те же самые гипермаркеты и Макдональдсы.
– Вы сначала снимитесь с места, а потом уже иронизируйте. К тому же у нас Макдональдсов вы уже созерцать не можете. Что до гипермаркетов… Поезжайте в Антарктику – там нет никаких гипермаркетов, гарантирую.
– Да я вовсе не возражаю против гипермаркетов. Гипермаркет – единственное место, которое я регулярно посещаю.
– О, тогда я придумаю для вас нечто вроде мантры. Всякий раз, когда вы будете заходить в гипермаркет, говорите себе: «Слово «еда» и слово «смерть» для меня синонимы. Слово «еда» и слово «смерть» для меня синонимы». Слово «еда» и слово «смерть» для меня синонимы».
– «Остров сокровищ», я вижу, вы читали внимательнее, чем «Портрет Дориана Грея».
– Простите?
– А вы и не заметили?
– Чего?
– Вы только что использовали, хотя и слегка в измененном виде, цитату из «Острова Сокровищ». «Запомните, слово „ром“ и слово „смерть“ для вас означают одно и то же» – это слова доктора Ливси, а сказал он их пьянице-пирату Билли Бонсу4.
– Правильно доктор сказал. А что этот Билли?
– Билли плюнул на совет доктора и…
– И?
– И вскоре умер.
– Что и требовалось доказать, – ликующе подвел итог доктор.
Миша между тем смотрел на него и думал: «Вот ведь бедняга, и каждый-то день мимо него проходят десятки бестолковых больных со своими болезнями, и ничего-то он больше в своей жизни не видит. Как там у Чехова: «И думать только о поносах и читать только о холерах»5.
Впрочем, это раньше врачу приходилось думать о поносах, чахотках, холерах и всем прочем в совокупности, а современный специализированный доктор должен думать исключительно о поносах или только о содержании мочевого пузыря и прочих интереснейших вещах, но о каждой – по отдельности6. Прогресс! О, где ты – пламенная вера в прогресс? Нет ее. Прогресс превзошел все мыслимые ожидания, но никто более в него не верит. Интересно, а во что верит этот молодой доктор? Сейчас он еще хотя бы смотрит на свое дело с интересом, но надолго ли его хватит? Вряд ли… Нет, грустная эта профессия – быть врачом; еще грустнее, пожалуй, разве что быть учителем. Впрочем, все профессии грустны – выбирай на вкус».
– А ведь я знаю, о чем вы думаете, – вдруг сказал врач, да так уверенно, что Миша невольно смутился. – Вы думаете: «Дурак этот доктор. Советует изменить образ жизни, но изменить образ жизни – дело почти неподъемное»7. Более того, вы и немного встрепенулись только потому, что я вам сказал, что вы умрете, но даже и это не слишком вас расстраивает, потому что я прибавил – через два-три года. А сказать человеку такое, всё равно что сказать – вы умрете в неопределенном будущем. Больные поразительны. Вы думаете, мне в первый раз приходится говорить подобные вещи в подобной ситуации? Я их твержу людям изо дня в день. «Не ешьте так много – умрете, не курите так много, не пейте, не работайте вы так много – умрете!» Никто не слушает. Совсем недавно актера одного ко мне привезли – известный актер, Генич его фамилия, слыхали? – чуть живой. Я ему говорю: «Будете так себя загонять – загнетесь», – а он только улыбается в ответ. Почти загнулся уже, а всё ему весело8. А знаете почему? Потому что я не прибавляю слово «завтра». Так вот, я с полным основанием говорю вам – очень может быть, что завтра вы умрете. Ну что, какова перспектива?
– Вы просто-таки Джул Сегал.
– Кто-кто?
– Еще один доктор из мира литературы. Репутация у него была сомнительная, но врачом он был совсем неплохим. А пациентов он запугивал точь-в-точь как вы…9
– Вы бы лучше о сути моих слов подумали, а не о том, на чьи слова из книжки они похожи.
– Ну, это ведь всё преувеличение. Вы просто хотите меня напугать.
– Очень хочу, но вижу, что и тут я потерплю неудачу. Что ж, дело ваше. Хотите жить, меняйте образ жизни, не хотите – отправляйтесь на кладбище. Выбор за вами.
– Выпишите мне лучше какие-нибудь лекарства.
– Непременно. Я выпишу вам все полагающиеся лекарства, которые немного отсрочат неизбежное. Мементо мори, друг мой, мементо мори. Следующий.
Миша вышел из кабинета, и врач, хотя бы на одно мгновение, остался наедине со своими мыслями. Рабочий день постепенно подходил к концу, а в это время даже и чисто профессиональный энтузиазм молодого доктора начинал иссякать. «Еще больной, а потом еще и еще. И так каждый день. И так день за днем. Язвы, катары; катары, язвы. Ладно, это моя профессия, я сам ее выбрал, и дал себе обещание, что, раз уж я доктор, то буду хорошим доктором. Но… но весь этот нескончаемый поток больных, в котором ни больному нет дела до доктора, ни доктору – до больного. Больной мечтает о волшебной таблетке, которая мгновенно излечит все его недуги, а врач мечтает, чтобы в коридоре уже, наконец, оказалось пусто. Я лечу болезнь, но не лечу больных. Лечу… Чем я помог этому увальню? Именно, что надо лечить его самого, а не его желудок. Психологом, что ли, стать? Да ну их, те еще шарлатаны… Вернусь-ка я к чему-то вещественному: к язвам и катарам. Как там у Чехова: „И думать только о поносах и читать только о холерах“. Ха-ха! Так и есть… Надолго ли меня хватит? Вряд ли…».
Мы же оставим доктора наедине с его мыслями и пациентами, а сами проследуем за Мишей, который, в сопровождении всё той же мамы, шел домой. Мама пыталась втянуть Мишу в подробное обсуждение выписанных ему лекарств, но он не втягивался. Он был согласен с доктором – не лекарства ему нужны, а в первую очередь перемена образа жизни. И вдруг эта перемена предстала перед ним как наяву. Он увидел себя на пробежке, поднимающим гантели, растирающимся полотенцем после интенсивного купания. Вся жизнь открыта перед ним, а он сидит в своей комнате. В это время подул легкий ласковый ветерок, и Миша с удивлением посмотрел вокруг себя. Стояла прекрасная летняя погода – было очень тепло, но совсем не жарко. Стоят дома, растут деревья, куда-то идут люди, из-под машины вынырнул кот… и тут же нырнул под другую машину. Миша вдруг понял, что он уже сто лет как элементарно не обращает внимания на то, что происходит вокруг. Выходя на улицу, он просто перемещается из пункта А в пункт В. И пунктов-то всего два: дом – магазин; магазин – дом. Реальность уже давно превратилась для него в некое расплывчатое пятно на периферии его сознания. А ведь он живет в одном из красивейших городов России – Сосновом Бору; городе, буквально утопающем в зелени! А ведь он может каждый день просто гулять, причем в любое понравившееся ему время – роскошь, доступная далеко не всем. Он даже может съездить куда-нибудь, – деньги на поездку у него имеются. Он всё может. Он всё изменит. Начать, пожалуй, стоит с гантелей. «Или нет – начну с того, что завтра же схожу на залив и искупаюсь. Сначала пробегусь, а потом – искупаюсь». Миша испытал большой эмоциональный подъем, такой, что с трудом подавил желание прямо сейчас пойти на залив. «Впрочем, сейчас ведь я как раз гуляю, следовательно, уже осуществляю план по изменению жизни», – успокоил он себя. Между тем они с мамой уже подошли к дому, и тут между ними состоялся весьма, если не примечательный, то показательный диалог. Показательный для «прошлой жизни» Миши. Диалог начала мама, вдруг остановившись у самой входной двери:
– В магазин-то я и забыла зайти! – чуть не с отчаянием воскликнула она. – Хотела ведь зайти в магазин – и забыла!
Миша, поднявшийся в облака мечтаний, нехотя спустился к прозаическим материям.
– Забыла, и ладно – завтра сходишь, – резонно заметил он.
– Завтра… И хлеба у нас мало…
– Хватит, – заверил маму Миша, но она отказывалась так быстро успокаиваться.
– Не хватит. Мало хлеба.
Со стороны может показаться, что мама Миши в этом диалоге выступает как рупор озвучивания суетных желаний, тогда как сам Миша пытается дистанцироваться от прозы жизни – в известном смысле так оно и есть, но примем во внимание, что обеспокоенность мамы имела под собой многолетние основания – не раз и не два (и не три, и не четыре; «и даже не пять и не шесть», – как может добавить какой-нибудь добродушный шутник; «и не семь, и не восемь» – с ухмылкой добавит совсем уж распоясавшийся тролль), так вот, вернувшись к маме, скажем, что не раз и не два она сталкивалась с проявлениями крайнего сыновнего раздражения – раздражения, связанного с (чаще всего) мнимой нехваткой тех или иных продуктов. Это не она, а Миша мог прийти на обед с кислейшей физиономией, – и лишь оттого, что она забыла купить его любимые чипсы или из-за того, что он, Миша, «не желает думать, хватит ему пяти кусков хлеба или не хватит, а нужно, чтобы хлеба всегда было с запасом; а нужно, чтобы…» – красноречиво-раздраженное бурчание Миши в таких случаях могло длиться достаточно долго. Наученная такого рода эмпирикой, мама Миши естественно беспокоилась – а хватит ли того или этого, всегда делала запасы, и, конечно, Миша всё равно всегда находил повод к чему-нибудь да придраться. Но и его можно извинить: если уж человек избалован, то должен же он капризничать? Должен. А кем он избалован? – всё той же мамой! Круг замкнулся. Но вернемся к разговору:
– Не хватит. Мало хлеба. Сам же первый начнешь ругаться.
– Не бойся – не начну, – заверил маму полный мыслей о всестороннем обновлении Миша.
– Масло! – вновь воскликнула успокоившаяся вроде бы мама.
– А что масло? – несколько обеспокоенно спросил Миша. Он не мог представить себе завтрака без бутерброда с толстым слоем масла и хорошим куском сыра, и если слой масла оказывался слишком тонким или сыр недостаточно вкусным, он мог считать утро загубленным, – а то и весь предстоящий день. Были дни, когда бутерброд портило масло, были дни, когда бутерброд портил сыр, были и такие дни, когда бутерброд портил хлеб – дни же, когда хлеб, масло и сыр сливались в бутербродной гармонии случались относительно редко. Но – чтобы совсем без масла! – он уже и не помнил дня, когда бы его утро обошлось без этого спорно-полезнейшего и бесспорно-вкуснейшего продукта.
– Да вот не помню – вроде сегодня с утра пачка закончилась. То есть точно помню, что закончилась, но не помню – есть ли у нас еще одна пачка. Должна быть, но – точно не помню.
– Ну как же, мам – масла всегда должна быть дополнительная пачка, я ведь сколько раз говорил…
– Говорил, говорил… – немного раздраженно пробурчала мама, вроде как – «столько раз говорил, что охота и теперь еще повторять».
– Так давай сейчас поднимемся домой, посмотрим, есть ли масло и решим – идти в магазин или нет.
– Нет, если мы зайдем домой, я уже в магазин не пойду. Надо сейчас решить.
И они решали, минут пять решали – и не могли решить. И идти не хочется, и без масла оставаться тоже никак нельзя. И тут Миша отчетливо вспомнил: незадолго до того, как они вышли в поликлинику, он зачем-то заглянул в холодильник и увидел в холодильнике пачку масла – и даже две пачки. Поделившись с мамой этим радостным воспоминанием, он подумал, что на этом их содержательная дискуссия завершится, но не тут-то было.