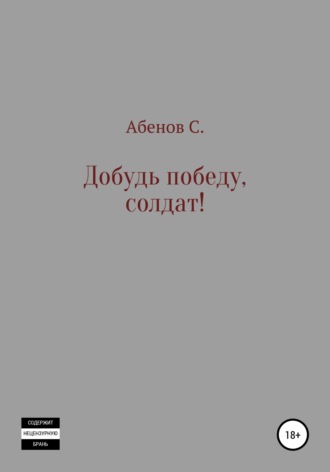 полная версия
полная версияДобудь Победу, солдат!
* * *
Арбенов, прыгая, держал Ольгу за руку и увлек ее за собой, но ее рука выскользнула из его руки, и он, развернув корпус вправо, ударился плечом о край траншеи. Он бросился вперед мимо остановившегося Чердынского, подхватил оберста и толкнул его вперед. Чердынский смотрел за спину Камала и взгляд у него был застывший, а впереди уже белело лицо Студеникина с разинутым ртом, но крика его не было слышно, потому что немцы открыли ураганный огонь. Старшина оглянулся и увидел спину Чердынского, и за ней ничего не было видно, а Студеникин бежал впереди и кричал, оглядываясь:
– Быстрей! Давай быстрей!
– Что там случилось? – крикнул ему Арбенов, но тот не слышал и они свернули в боковой ход и Студеникин все торопил его. – Кого-то зацепило! – крикнул старшина, и капитан махнул рукой, – Потом! Давай быстрей! Их уже ждали две машины и пленного немца тут же запихнули на заднее сиденье стоявшей впереди «эмки» и, когда Арбенов оглянулся назад, Студеникин схватил его за руку и увлек за собой во второй автомобиль.
– Куда мы едем? Зачем я-то вам? – спросил Арбенов, когда машина тронулась.
– В штаб фронта, – сказал капитан, отдуваясь, – командующий ждет.
– Я-то там зачем?
– Вдруг понадобишься, затребуют отчет. Да мало ли чего. Вся контрразведка фронта на ушах. На повороте прошла фальш-колонна, они пробились с большими потерями.
– Мне кажется, кого-то из наших зацепило, – сказал Камал, – надо бы выяснить.
– Позвоним из штаба фронта, – успокоил его капитан. – Все-таки ты все правильно рассчитал, а, старшина! Молодец! Сверли дырку под орден, дорогуша!
«Делегата» после короткого допроса сразу же увезли на аэродром, и кто-то из дивизионного начальства предположил, что, скорее всего, его самолетом отправят в Москву, и это тут же стало достоверным слухом, породившим надежды на высокие награды. Студеникин привел Арбенова в какой-то кабинет и усадил писать подробный рапорт, потом то же самое пришлось писать для контрразведки, которая заинтересовалась сведениями о Хохенштауфе. Оперативный отдел тоже запросил рапорт – их заинтересовала информация о танковой дивизии, появившейся у противника, и вся эта круговерть с писаниной закончилась только под утро.
Когда Арбенов еще раз напомнил Студеникину о его обещании позвонить в дивизию, тот нехотя направился в узел связи. Вернулся он быстро и сел напротив, не поднимая глаз.
– У нас потери… – сказал Студеникин.
– Кто? – спросил Арбенов, чувствуя мертвенный холод, расползающийся от сердца по всей груди.
– Ольга! – сказал капитан и закрыл лицо руками. – Шальная пуля… или снайпер.
Глава 20
Ее похоронили ранним утром на высоте 20,5. На самой вершине. под молодой березой, которая уже сбросила листву, и лишь один, последний листок держался на гибкой, подрагивающей на ветру ветке, но вскоре и он, не выдержав напора ветра, сорвался и улетел. Николай Парфенович соорудил небольшой крест и к навершию его прикрепил вырезанную из жести звезду, и сокрушался, что нечем выкрасить ее в красный цвет. Прощальный залп вспугнул стаю птиц, и они с шумом взлетели с деревьев и долго кружили над высотой.
Старшина Камал Арбенов поднялся на высоту ночью. На холмике уже подсохшей сверху земли лежал ее берет с красной звездочкой и на нем граненый стакан, и сверху ломоть черного хлеба, щедро посыпанный крупной солью. Кристаллы соли тускло мерцали, отражая свет далеких и равнодушных звезд. Он снял фуражку, положил рядом с ее беретом и сел на землю возле могилы.
Бывает и так, что в голове нет ни одной мысли. Бывает и так, что голова пуста и нечего в ней выудить, сколько ни старайся. Прости, что так случилось! Есть ли в этом моя вина, я не знаю. Наверное, есть, но я не знаю, где допустил ошибку. Судьба планирует, а мы допускаем ошибки.
Он откинулся на спину и лежал с закрытыми глазами, не ощущая холода земли. Прости меня, длинноглазая девочка, сказал он в черную пустоту перед глазами. Прости, если можешь. Только знай, что свет твоих серых глаз останется в моем сердце, и я передам его своему сыну, а он своему и поэтому ты всегда будешь на этой земле, которую любила беззаветно, как дитя любит свою мать. Когда-нибудь мы встретимся, и я расскажу тебе, о чем вздыхает море в штиль, и какой цвет и запах у этого вздоха. Я расскажу тебе, как растворяются розовые блики на крыльях фламинго в подсвеченной зелеными водорослями синей морской воде. А как пахнет прозрачная вода Байкала и его прибрежные скалы, мы узнаем вместе. Прости, сероглазая. И вы простите меня, те, на кого я держал обиду в своем сердце. Сейчас в моем сердце нет ничего, только черная пустота, но обиды в нем нет. И ты прости меня мама. Если ты меня слышишь. Я тебя простил, потому что таков был план, и каждый действовал по обстоятельствам. Я помню тот день, когда ты пришла в детдом, чтобы проститься со мной. Или попросить прощения. Я не помню, какой это был день, солнечный или пасмурный, было ли жарко, или, наоборот, сыро и холодно. Мне было девять лет, и я стоял на воротах, потому что мой лучший друг Энгельс Джанабаев опоздал на игру, а это была очень важная игра, и мне пришлось встать в ворота вместо него. Мы проигрывали, когда он пришел и подозвал меня, и я готов был сжечь его взглядом, так я был зол на него. Он сказал: – Там женщина, там твоя мама пришла, и в моей голове как будто взорвалась черная пустота, или ее пронзил яркий луч. Но я погасил его в одно мгновение и сказал ему – пусть уходит, и снова встал в ворота. Он ушел и я знал, что он сделает, как я сказал, потому что он был мой лучший друг, и мы всегда делаем так, как необходимо другу. Я пропустил один за другим два гола, отшвырнул вратарские перчатки и ушел. На задах, за густым кустарником был заброшенный сарай, в котором мы собирались тайком и это был наш «штаб». Энгельс Джанабаев пришел в «штаб» не один, с ним была Ирма Залка, моя будущая жена, и она протянула мне кулек. Она передала тебе конфеты, сказала она, а я ударил по ее руке и кулек разорвался. Конфеты упали на землю. Они были в ярких, желто-синих обертках, я таких никогда не видел и не пробовал, и я сказал – раздайте ребятам. Или съешьте сами. Я вылез через дыру в задней стенке сарая и спустился к реке, и они пришли туда, и Ирма протянула раскрытую ладонь, последняя, сказала она, а на желто-синей обертке была нарисована ласточка. Я смахнул конфету, и она упала в воду, ласточка утонула, и по воде пошли круги. Мои друзья не знали, я им не сказал, я и себе стараюсь не говорить этого, но я ходил туда, к ограде детдома, где ты ждала меня. Я увидел, как ты уходишь, издалека, и это длилось три мгновения. Голова твоя была низко опущена, ноги обуты в тяжелые, рабочие ботинки, и ты сделала последние три шага, и исчезла за углом. В горле у меня стоял большой и твердый ком, потому что я хотел, но не смог увидеть твоего лица, а мне хотелось запомнить твои глаза, наверное, они были полны печали и слез. Я постарался стереть этот день из моей памяти, но он остался, и я ничего не могу с этим поделать. Прости, мама, что я не вышел к тебя. Тебе было больно и тяжело, но мне было девять лет, и я был одинок, и мне хотелось помнить твои руки на моей голове, твои глаза и твой голос. Прости, если можешь, и если ты слышишь, положи свою руку мне на голову и скажи что-нибудь.
Черная пустота перед глазами ожила, и в центре ее надулся шар и он посветлел и стал голубым, потом это оказался клубок, сотканный из тысяч тончайших бело-голубых нитей. Клубок начал пульсировать и вращаться по часовой стрелке и от него протянулись в пустоту чернильно-коричневые крылья и тоже вращались, и от убыстряющегося коловращения изогнулись и превратились в тонкие, изогнутые линии, и пустота вокруг них тоже пульсировала. Бешеное коловращение убыстрялось и убыстрялось, так, что зрение не могло уследить за ним, и вдруг меняло направление на противоположное, и снова почасовой стрелке. Клубок посередине коловрата застыл, потом ожил, как будто задышал, потом взорвался, как пятисоткилограммовая авиа бомба, и от него разлетелись во все стороны мириады мельчайших осколков, и они тоже вращались и были ярко желтые. Ближе к краям пустоты, нет, не ее краям, а краям зрения, осколки кристаллизовались, и грани их переливались желтым и оранжевым светом. Коловращение продолжалось, и уже вращалась вся бесконечная пустота и линии, исходящие от клубка в центре, слились в коричнево-фиолетовую спираль, только желто-оранжевые кристаллы оставались на месте. Чернота стала проницаема взглядом, как густые сумерки, и самые дальние кристаллы вдруг заиграли зеленым отсветом и это были звуки или буквы, означающие эти звуки. Клубок в центре коловрата сошел со своего места, двигался и дышал, приблизился, и можно было увидеть, что он сплетен из тысяч тончайших светящихся бело-голубых нитей, живых и разумных. Они переплетались и снова расплетались и концы их протянулись к зеленовато отсвечивающим кристаллам на краях пустоты и обхватили их, как щупальцами, или пальцами, когда ты запускаешь их в волосы любимой женщины, и как будто меняли их местами и складывали из них слова. Слова эти невозможно было прочесть, но они звучали, как печальная музыка и падали в пустоту, как капли с хрустальных сосулек, и испарялись мгновенно и снова возникали, и опять складывались в слова, которые звучали.
Услышь, солдат!
Услышь сейчас, когда каждый глоток воздуха и каждая пядь земли под твоими ногами насыщены ядовитым соком смерти, и жерла тысяч орудий нацелены в твоё сердце и ежесекундно извергают кипящую смертоносную сталь.
Услышь плач матери и ребенка, и удесятери твой гнев и твою отвагу.
Добудь Победу в смертельном бою, солдат!
Или умри!
И пусть пуля, отлитая осиротевшим подростком, и пущенная твоей твердой рукой, достигнет цели и повергнет врага, преступившего все законы – Человеческие и Божии!
Добудь Победу, солдат! Или умри!
Ибо! Узрев порабощенным Отечество твое и склоненные под игом головы матери твоей и матери детей твоих, впадешь ты в великое отчаянье!
И ослепнешь от бессильной ярости!
И сердце твое разорвется на тысячу бесполезных осколков!
Добудь Победу, солдат, или умри!
Добудь Победу, солдат, и останься живым!
Добудь Победу и верни детским глазам сияние безмятежного счастья! Верни покой старикам и женам и зачни новую жизнь!
Добудь Победу, солдат, и вернись!
Возведи дом, сожни урожай и взрасти сына, который сложит Песнь о твоей Великой Победе!
Песнь, воспевать в которой твою доблесть и великие ратные деяния будут благодарные потомки твои до тридцатого колена!
Добудь Победу, солдат!
Аминь!
Глава 21
Сержант Чердынский
И все-таки мы добыли победу в этом бою. Мы устроили НП на высоте 32,8. Оттуда в бинокль я разглядел на противоположном берегу нашу лодку, на которой мы вырвались из болота. Она так и стояла в камышах. В 10-00 начался артналет, и мы разнесли к чертовой матери танковую колонну, которая разворачивалась для контрудара. Мы разнесли ее в пух и прах, вдребезги, но нас запеленговали. И командир перенес огонь на немецкий штаб, что был в двух километрах позади нас. Таков был план. Мы устроили засаду и пропустили команду, которая шла к высоте, чтобы взять нас. Ударили им в спину, а потом побежали к штабу. Иначе нам бы не выжить. Нас бы просто смяли отступающие немецкие части. Командир все продумал и просчитал. Я снял часового у двери одноэтажного здания, и мы вошли внутрь. Перебили немцев в кабинетах. Санька сказал, что один ушел, успел выскочить в окно. Каждый знал свое место и свою задачу. Немцы накрыли нас минометным огнем, пошли в атаку, потом опять минометы и снова атака. Загорелась крыша, и начали рушиться балки перекрытия. В общем, все было как в Сталинграде. Когда кончился боезапас, Георгий выскочил в окно и добыл патроны, но его срезали пулеметной очередью. Он успел забросить в окно вещмешок с патронами, и это помогло нам выдержать еще один штурм. Последний штурм. Потом кончились патроны, которые добыл Тбилиси и у нас остались только ножи. Командир все правильно рассчитал и наши прорвали немецкую оборону, и мы выстояли и дождались наших танков. Признаюсь честно, когда Санька закричал – Наши! Танки! – я заплакал. А как тут не заплачешь, когда вокруг чертова тьма фрицев и по тебе лупят минометы и пулеметы, а у тебя только нож. Тебе двадцать три года и ты еще не любил никого по настоящему, и у тебя только нож. Хорошо, что никто не видел, как плачет «Железный Феликс». Хорошо, что пуля ударила рикошетом и голова моя, и глаза были залиты кровью. Иначе насмешек не оберешься. Уж Чукотка бы вволю поизгалялся. Саньку спасла фляжка, которую он нашел на столе в соседней комнате и сунул в карман гимнастерки. Пуля пробила одну стенку и застряла во второй. Легкий и прочный сплав. У Саньки сломаны два ребра и синяк на всю грудь. Камал сказал, что такая же фляжка была у Хохенштауфа. Но я не сомневаюсь в том, что снял его там, в лесу. Командир упал, когда на него обрушилась балка перекрытия и ударила по плечу. Левая рука у него отсохла. У него оставался только кинжал и он схватился с немцем, который заскочил в окно. Здоровенный был фриц, но Парфеныч снял его последним патроном. Он был ранен в ногу, наш мудрый Парфенон…
Старший сержант Загвоздин Николай Парфеныч
Все-таки мы взяли этот штаб, как планировал командир, и теперь мне надо приготовься к самому главному в моей жизни, а жизнь моя была не такая уж плохая. Да, может быть, не очень интересная, но зато мне довелось узнать, что такое справедливость. И я сам участвовал в этой справедливости с семнадцатого года. И это ничего, что у меня не было семьи. Правильно будет – сèмья. Потому что одно зерно, это семя, а много – сèмья. И мои сèмья – это мои ребята, Санька и Чердынский. И командир мой – Камал, тоже мое сèмя. И те, кого уж нет с ними. Те зерна, что посеял я в их душах, произрастут в них, и в их детях, и, значит, я не зря прожил жизнь. А теперь приготовься перейти линию фронта, старик. Надо перейти чисто, не оставляя за собой хвостов. Чтобы не остаться на нейтральной полосе. Это самое худшее – остаться на нейтральной полосе. Тогда проку от тебя не будет никакого. И помогать своим сèмьям ты уже не сможешь. Главное, чисто перейти линию фронта, а потом все пойдет по плану. И я встречусь там с нашей девонькой, и расскажу ей о нашей победе. Как я найду ее? Найдешь, старик, не сомневайся. Среди миллионов душ, там, за линией фронта, душа ее будет сиять бело-голубым теплым сиянием, и ты сразу увидишь ее. И тогда вы вдвоем станете помогать вашим ребятам в их нелегкой работе. Двое – это уже коллектив, две родных души – это уже Род. Главное – перейти линию фронта чистым.
* * *
За освобождение города Невель Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 07.10.1943 47-й особой стрелковой дивизии было присвоено наименование – Невельская, и с этого дня она стала именоваться – 47-я Невельская особая стрелковая дивизия.
Конец 2-й части
Часть 3 Бухарест
Глава 1
Человек предполагает, а Генеральный штаб располагает, – сказал Чердынский в ответ на сетования Саньки Саватеева в связи с приказом 47-й Невельской дивизии сдать позиции у города Приекуле и выдвигаться в район Вайнёде и дальше в Шауляй. Смена позиций – обычное дело, но солдатское радио уже разнесло слух о том, что дивизии предписано передислоцироваться на Южный фронт, то ли в Молдавию, то ли в Румынию. Санькины планы о пленении Гитлера рушились, и на его ругань по адресу штабных стратегов Чердынский заметил, что пути господни неисповедимы, а потому Берлин и ефрейтора Гитлера будут брать не ефрейтор Саватеев с сержантом Чердынским, а маршалы Конев и Жуков. Города берут солдаты, а слава достается полководцам.
47-я Невельская ордена Ленина и ордена Суворова особая стрелковая дивизия в начале марта 1945 года погрузилась в эшелон на станции Шауляй и отправилась к новому месту назначения. На станции Гумбиннен, в сорока километрах от Кёнигсберга, образовался железнодорожный затор, и эшелон встал, и сколько будет длиться остановка, было неизвестно.
Привокзальная площадь Гумбиннена сразу же, стихийным образом, превратилась в рынок, где можно было приобрести у местных жителей если не все, что душе угодно, то почти все. Толкотня была невообразимая, но Саньку такое многолюдье только раззадорило, и, пока Чердынский топтался в нерешительности на краю площади, он растворился в толпе. Да бог с ним, лишь бы не вляпался куда-нибудь! – подумал сержант, – тут, с краю, торговки посговорчивее будут. Прикупив какую-то мелочь в дорогу, он не стали дожидаться Саватеева и вернулся в расположение.
В теплушке никого не было, кроме Арбенова – солдаты толклись меж железнодорожных путей, курили и вели разговоры. Старшина, полулежа на своем месте в нижнем ярусе трехъярусных деревянных нар вдоль стен вагона, читал книгу и, когда Чердынский стал раскладывать на соседней кровати покупки, поинтересовался:
– А где ж ты Саватеева потерял? Вляпается ведь без пригляду в какую-нибудь историю!
– Не успеет, – сказал Чердынский – когда я уходил, там уже комендантский патруль начал работать.
Только сержант произнес эти слова, как какой-то солдатик спросил громко, заглядывая в теплушку:
– Кто тут старшина Арбенов? Давай, собирайся! В комендатуру тебя вызывают!
– Как в воду глядел! – сказал Чердынский. – Это точно, наш байпак что-нибудь натворил!
Когда Арбенов вслед за посыльным, пересекал площадь, толпа уже разошлась, и патруль выпроваживал последних торговцев. В железнодорожной комендатуре седой, лет пятидесяти капитан с тремя нашивками за ранения, комендант станции, спросил только, отдавая Санькины документы:
– Твой оголец? Боевой парнишка, только шебутной малость. Поскандалил с местной торговкой, она заявление написала, теперь хлопот не оберешься! Давай, старшина, уводи его от греха подальше!
Саватеев нервно прохаживался у крыльца вокзала в ожидании командира и вполголоса материл ту горластую немку, что втянула его в скандал. Никакой вины он за собой не чувствовал, но знал, что наказание за это происшествие все равно придется нести, и душа его просто кипела от такой несправедливости. Это стало ясно и по лицу старшины, когда тот вышел из вокзала и прикуривал на крыльце.
– Ну, Александр, что скажешь в свое оправдание? На кой хрен ты связался с этой немкой? Обмишулить ее хотел?
– Все было гораздо не так, командир! Все было гораздо по-другому! У них там целая банда, эта кабаниха немецкая отвлекает, а они в это время по карманам шарят! Они девчонку эту хотели обмишулить, вот я и влез. Ты что, не веришь мне, командир?
– Верю, Саня! – старшина засмеялся на его слова и Санька понял, что прощен. – Про девчонку комендант ничего не говорил. Немка эта требует, чтобы ей штраф выплатили, правда, непонятно за что. А значит, будет дознание, и сигнал придет в дивизию. Понимаешь, чем это грозит?
– Да понимаю я, командир! И дежурный этот, – позоришь Советскую Армию, и всякое такое! Спроси у нее, у этой девчонки, командир! Она подтвердит! Она у коменданта.
– Вот что я тебе скажу, Александр. – Арбенов отвел Саньку в сторону. – Давай, дуй в расположение и из вагона не высовывайся. Запомни, если что-то подобное повторится, выведу из группы!
– Как так из группы, – сказал Санька, уходя, – это не справедливо! За какую-то немецкую тетку, мать ее так, и из группы. А что они на нашей земле натворили, это что, не учитывается? Да вот же она, эта девушка!
Старшина оглянулся и увидел девушку лет двадцати пяти. Она была в сером, поношенном пальто, на голове коричневый берет крупной вязки, и в руках небольшая дорожная сумка. Девушка улыбнулась Саватееву и, когда перевела взгляд на старшину, лицо ее стало серьезным, и одна бровь изогнулась сильнее другой. Она смотрела внимательно и как будто хотела спросить что-то, но не решалась.
– Простите, фрейлейн, – сказал Арбенов, – подождите меня, пожалуйста, здесь. Мне надо поговорить с вами.
Старшина решил еще раз побеседовать с комендантом, чтобы уладить дело. Комендант пообещал, что уладит все с немкой и не даст делу хода, после чего старшина Арбенов вручил ему необходимую для уплаты штрафа сумму, на том и договорились.
– А эта девушка, – спросил старшина, – ее допросили?
– Да, – сказал комендант и покачал головой, – странная она какая-то. И по-русски разговаривает. Она подтвердила показания твоего солдатика, но это вряд ли нам поможет. Я ее отпустил. Да не переживай ты, старшина, дело-то по сути плевое. Деньги этой немке отдам, на том и уладится.
Арбенов вышел из вокзала, но девушки у входа не было, и он зашел обратно в здание. Поискал глазами, но ее не было и в зале ожидания, и он вышел на привокзальную площадь, огляделся, и присел на скамейку под развесистым деревом. Из-под вагона товарняка вылезли несколько человек, гражданских, в основном это были женщины-полячки и направились к вокзалу – уже вечерело, и им нужно было как-то устраиваться на ночлег. От толпы отделилась та самая девушка в сером пальто, и Арбенов вдруг пожалел, что не спросил у коменданта ее имени.
Девушка подошла к скамье, поставила на нее сумку и, спросив разрешения, села с усталым вздохом. Она сняла берет и каштановые, с золотым отливом волосы рассыпались по плечам, и девушка, стянув их в тугой узел на затылке, заколола его шпилькой. Арбенов невольно залюбовался грациозностью, с которой она проделала такую обычную для всех женщин процедуру, и подумал, что их, женщин, вряд ли создали из адамова ребра, иначе они были бы похожи на нас, мужчин. Они другие и в чем тайна их создания, так и останется вечной загадкой для мужчин.
Девушка улыбнулась ему и кивнула, как старому знакомому. Раскрыла дорожную сумку. Достала тряпичный сверток и аккуратно развернула его на коленях. Там оказался ломоть черного хлеба, и она стала отщипывать от него небольшие кусочки и жевала медленно, с удовольствием, и время от времени отправляла в рот крошки, упавшие в подставленную ладонь. Она смотрела в небо с легкой полуулыбкой и иногда чуть-чуть кивала головой, как будто разговаривала с кем-то. Незнакомка, почувствовав взгляд, повернула вдруг голову, и протянула Камалу руку с оставшимся хлебом:
– Хотите? – девушка смотрела внимательно. Левая бровь у нее была чуть изогнута, а правая изломана, и от этого взгляд ее казался удивленным.
– Нет, что вы! – он смутился. Он забыл о том, что хотел поговорить с ней о происшествии с Санькой. – Я не голоден!
– Вы так внимательно смотрели, как я кушаю, и я подумала, что вы тоже голодны.
Она улыбалась и в ее карих с зеленоватым отливом глазах отражались неспешно плывущие по вечернему небу облака. Что с тобой, старшина, что за детские игры, мы уже это проходили.
– Нет, я смотрел… просто, вы так смотрели в небо, как будто кто-то должен был вам ответить, помахать оттуда рукой.
Девушка засмеялась легким, заразительным смехом и Камал невольно улыбнулся, нарушая внутренний запрет, а она, стала говорить весело и доверчиво, как давнему знакомому:
– Я люблю смотреть в вечернее небо. Понимаете? Днем небо другое, оно как освещенный купол, а вечером когда солнце уходит, в нем появляется глубина, такая бесконечная. Ведь, правда? – она заглядывала в его глаза, ища подтверждения своим словам. – Такая добрая, радостная глубина. А ночью я не люблю смотреть в небо. Некоторые обожают смотреть на звезды или на луну. Ночью в небе глубина какая-то тревожная, пугающая. И еще она давит, пригибает к земле. Ведь, правда? Что вы смеетесь! – она немного смутилась и замолчала. Завернула аккуратно тряпицу с остатком хлеба и, подержав на ладони, словно взвешивая, убрала в сумку и вдруг спросила с улыбкой:
– Офицер, простите! У вас, случайно, не найдется маленького глоточка воды?
– Конечно! Найдется большой глоток! – сказал Камал и, отстегнув от пояса солдатскую фляжку, протянул ей. Она запрокидывала голову и прикрывала глаза, поднося фляжку ко рту, пила с наслаждением маленькими глотками, как какой-то божественный напиток и снова засмеялась со словами:
– Вы опять так внимательно смотрите, как будто никогда не видели, как женщина пьет воду!
– Не видел никогда! Правда! Не обращал внимания, – признался Камал и отвел взгляд. Черт, пялюсь, как ребенок на новый велосипед. Никогда не думал, что есть хлеб и пить воду можно так красиво, как танцевать. А в глазах ни усталости, ни тревоги, хотя видно, что не первый день в пути. Куда она едет в такое-то время и как далека ее дорога? Словно угадав его мысли, девушка закрыла фляжку и, протягивая Арбенову, сказала с некоторой печалью:

