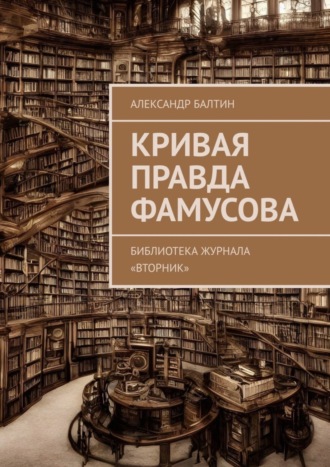
Полная версия
Кривая правда Фамусова. Библиотека журнала «Вторник»
Точно прозрачный янтарь тонкой плёнкой покрывает картины, горы на которых излучают величественное спокойствие, одинокую задумчивость, умную силу.
Горы, горы…
Сила камня – таинственного в могучем своём нагромождении: кто возьмётся утверждать, что у столь значительных природных образований нет душ?
Кто сможет доказать, что души эти проще человеческих?
Лермонтов словно стремился изобразить души гор: поразительные, замкнувшиеся в своём величии, волшебные.
Разные ракурсы, но схожие оттенки: точный оттиск авторского почерка, неповторимой манеры.
Горцы едут, аулы возникают.
Кавказ Лермонтова своеобычен: показанный через фильтры его гениальности в слове, он дополнительно раскрылся и в живописи поэта – так ярко и колоритно добавляющей ноты гармонии к величественному образу великого человека.
Чичиков – главный персонаж «Мёртвых душ», или – всё-таки Россия?
Буйная и таинственная, долго запрягающая и несущаяся тройкой, не сделавшаяся за две века понятнее даже самой себе?
Шармёр Чичиков, какой сегодня не воспринимается подлецом – о! ещё бы! – в мире товарно-денежных отношений, где вынуждены жить все, его афера тянет скорее на подвиг, сколько бы Гоголь ни разоблачал оную…
Персонажи уничтоженных частей – того, что осталось от них, – играют яркостью не в меньшей степени, чем хрестоматийные Плюшкин и Ноздрёв: чего стоит один Петух с его бесконечной едой; но вот Муразов – миллионер благородного образа мыслей и аскетичного образа жизни – не наполнен кровью реальности: ибо не бывает таких Муразовых в действительности, невозможны они, не совместимы денежный избыток и душевная стройность.
Гоголь-тайна, Гоголь-сказочник – и страшные сказки нависают над нами, то очаровывая, то предупреждая: помните, что случилось с персонажем «Портрета»? Бойтесь денег, художники…
Хотя… как без них-то.
Вьются смыслы, волокна сострадания перевивают вечного Акакия Акакиевича, и грозит он с того света, появляется призраком: не обижайте малых сих! Не трогайте маленьких!
Да всё равно – и обижают, и трогают, и всегда будет так.
Литература никого ничему не учит – особенно в нынешнем мире, когда и сама-то она смотрится архаикой.
Сверкает гоголевский язык: роскошный, несколько не правильный, с самоцветами драгоценных слов, с немыслимыми сочетаниями; хлёсткий, кипящий, точно из бездн своих производящий новых и новых персонажей…
Грустно смотрит столь многому учивший нас Гоголь: и через образный строй своих книг, и через «Выбранные места…», каковые, в сущности, и являются третьей – райской – частью «Мёртвых душ»; и через пример истовой и истинной веры своей – недоступной нам, непостижимой в дебрях тайны своей…
Многому учил – да разве нас научишь?
…и вертятся современные Чичиковы, выгадывая и выкраивая, и брешут Хлестаковы, не остановить, и новые господа обижают новых Башмачкиных.
Ибо, как было сказано, – «Скучно на этом свете, господа».
В небесах торжественно и чудно!Спит земля в сиянье голубом…Что же мне так больно и так трудно?Жду ль чего? жалею ли о чём?В небесах торжественно и чудно!Спит земля в сиянье голубом…И взор его с такой любовью,Так грустно на неё смотрел…То не был ангел-небожитель,Её божественный хранитель:Венец из радужных лучейНе украшал его кудрей.То не был ада дух ужасный,Порочный мученик – о нет!Он был похож на вечер ясный:Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!..Глобальный Гоголь
1
2
3
4
5
6
7
Чичиков соответствует времени нынешнему – как, вероятно, будет соответствовать почти всем временам: пока человек не изменится физически, не станет другим физиологически, пока он будет оставаться природным буржуа, мещанином, рантье…
Подлинно ли души умирают в недрах тел: ибо именно это, как известно, и имелось в виду?
Но это «иметь в виду» связано с порывами самого Гоголя – высокими, и устремлениями тонкими – куда там лучи Рентгена! Связано с убеждённостью, что жить надобно темой духовного роста, постоянного совершенствования себя, тогда как жизнь хозяйством, как у Собакевича (крепкий, кстати, сильный хозяин), есть вариант внутренней низины, из которой не подняться уже…
Но типажи и образы «Мёртвых душ» совсем не мёртвые, коли вглядеться в окружающий нас человеческий пейзаж: большинство живёт так и, вероятно, будет ещё жить неисчислимые гирлянды веков – свой дом, своя семья, достаток…
Что для человека важнее?
Но Гоголь не хотел оным жить, он рвался в космическую запредельность духа, для него выражавшуюся церковным деланием, он жаждал ухода в иные реальности, и – мечтал об усовершенствование человека.
Россия жрёт.
Спит, играет в карты…
Мчится на бричке – как вариант: но это движение по пути обогащения, а вовсе не полёт в сокровенные пределы духа.
Всё конкретно, смачно, сочно, как гоголевские описания – еды ли, внешности людской, усадебного быта.
Мечтательность порок: когда даже попытки реализовать мечты не производится, на сцену выходит Манилов, рассуждая о майском дне с именинами сердца.
Скукоженный Плюшкин противоречит тематике обычного русского размаха; но разнообразие людских типажей слишком велико, встречается и такое…
Россия, сильно изменившись внешне, остаётся очень похожей на гоголевскую Русь: и в учреждениях вечно встречаются кувшинные рыла, и аферисты выигрывают в большей степени, нежели люди, занятые устроением собственной души (впрочем, победы последних лежат в плоскости, не подлежащей объективным исследованиям).
Остаётся зайти во дворик и поглядеть на скорбный памятник Гоголю, так точно передающий поздние настроения самого грустного классика…
Страшный «Портрет», горящий и горчащий неистовостью предупреждения; «Невский проспект», растворяющий перспективой ступивших на него…
Главная ли «Шинель»?
Такого сгустка сострадания не ведала русская литература – а знала ли мировая?
Как жаль, что, дойдя до вершин, пройдя многими изломистыми и извилистыми тропами, она забыла про феномен оный…
Сострадание… даже снег, кажется, проявляет его по отношению к Акакию Акакиевичу.
Даже снег.
…и идут вереницы таких – слабых, малых, не согретых жизнью: идут среди нас, будто не изменилось ничего…
И сияет феноменальный язык Гоголя, будто собранный из самоцветных камней, вместивший в себя столь многое, что захлебнёшься, пробуя перечислить.
Художественность и боль, выразительность и сострадание: умножение, дающее результат, прободающий время.
Умножение высот, отрицающих низины.
«Утро делового человека», как круглая светящаяся призма, показывает лучи-реплики драматургического шедевра… который почему-то не возник.
Крутые, сильно сделанные механизмы гоголевской драматургии работают мощно, несмотря на мох времени…
Задор и мистика «Игроков», превращающие и колоду карт в персонаж.
…Говорит мне зять, Андрей Иваныч Пяткин…
И уже неважно, что говорит, ибо представляешь его: круглого, бритого, ленивого…
Собираются персонажи «Женитьбы» – из душистого теста жизни слепленные, великолепно выпеченные; собираются, наполняются начинкой бытия: чтобы навсегда отразиться в нашем.
Вспыхивает фитюлька Хлестаков, да горит криво, смрадно чадя – враньём, тщеславием, неумением концентрироваться на чём-то одном, бесконечным пустозвонством…
Другие собираются: а сколько их вокруг, в жизни: у этого нечто от городничего, у того – от Ляпкина-Тяпкина, у третьего – от того и другого.
А у самого-то?
Всех пробрал Гоголь, всё включил в чудную свою драматургию…
Так ли плох Чичиков?
Чичик, щёголь, всегда прекрасно одет, способный поддержать любую беседу, шармёр…
Он вполне потянул бы на героя сегодняшнего дня: но день этот, длящийся годы, давно перевернул понятие о солнце и тьме.
Задуманный подлецом, он и является таковым: с размахом проезжающий в бричке, несущейся, как Русь.
Больно быстро понеслась, замедлить бы…
Недра России – сонные, сытые, с Петрушками и Селифанами, с Коробочками, становящимися государственными людьми.
Не знаю такого помещика, нет такого помещика…
Мощно ест ничему не удивляющийся Собакевич; облако проплывает, и упрятанный в него на века Манилов повторяется из века в век.
Как все они – вечным кружащие хороводом… как Ноздрёв – сколько таких вокруг.
Плюшкин редок: в России так не ссыхаются, но… ведь не пережил смерти жены, ведь после неё стал таким скукоженным, и… что уж теперь.
…небо Италии, выкипающее в синеве золота, так не похоже на небо России, простёртое над бездной земли с бесконечными дорогами и мчащейся вновь и вновь бричкой, в которой сидит подлец, бывший бы сейчас героем…
Отчаянно едящая Россия: о! тут Петух забирает верх, держит первенство – тут самый смак процесса, тут жизнь, подчинённая еде полностью: но… с каким восторгом.
Плотно, веско, скучно, основательно употребляющий пищу Собакевич, более порхающий – в этом плане – Манилов: и того попробует, и этого отведает…
Чичиков, садящийся за стол в любое время, и часто-часто чувствующий уже аппетит.
…странное сопоставление: Гоголь, стремящийся идти по пути духовному, Гоголь, чуть ли не умирающий от того, что духовник запретил ему монашескую стезю, – и такое пищевое изобилие…
Но ведь оно – портрет реальности.
…не замечали – еда отвлекает от мыслей?
Пышная и избыточная вдвойне.
Физиологи утверждают, что самое приятное для человека есть.
Кто оспорит сие?
Физиология не слушает проповедей…
Гоголь изображал как было: и смачность, и сила изображения были чрезвычайно велики; врезались в память: не забыть.
Да и не стоит забывать.
Еда, заменяющая жизнь, еда, становящаяся фетишем, еда, дарующая эйфорию.
Ломящиеся столы Петра Петровича Петуха, соответствующие аппетиту Чичикова: осетры, поросята, раки, расстегаи, и проч., и проч.
Еда у Гоголя играет сакральную роль: каковую действительно играла у некоторых бар России.
У некоторых – представить Плюшкина пирующим невозможно.
Но: непременная черта Чичикова – аппетит, ибо в любой час и после всякой закуски он готов обедать.
…так чудно ест и Афанасий Иванович: то грибки, то скородумки – и всё перед обедом.
Почему так?
А потому, что через избыточную привязку к еде идёт избыточная же привязка к материальной жизни – значит, и душа становится омертвелой, пустой, выхолощенной.
Такая страшная избыточность – хоть и данная с чудесным художественным размахом, смаком, вкусом…
Гугль-Гоголь, Гоголь-Гугль…
Из небесного далёка глядя на мир – с доброй, грустной, но и лукавой усмешкой, Гоголь, зная, как функционирует сеть (особенно соблазнов), сознаёт, насколько поделился своею фамилией с будущим, в котором никто не может обходиться без Гугла…
…Иван Иванович никогда не помирится с Иваном Никифоровичем: и ситуации эта настолько типическая, насколько мир, изменившись внешне, мало изменился внутренне.
Чичиков не будет ныне восприниматься подлецом: нормальное желание разбогатеть – что ж поделать, что честно не реализовать оное?
Мы ж в России… Приятнее взирать на неё из римского далека: возможно, под тамошним солнцем реже встречаются Хлестаковы и те же Чичиковы, хотя… они всеобщее: анти-достояние.
Всеобщее: врут везде, аферы крутят, не стремясь к чистоте душевной, не слишком видя разницы между живой душой и мёртвой.
Мёртвая – усохшая, скукоженная, как Плюшкин, не реагирующая на чужую боль – только если на свою обиду.
Мёртвая – до того ещё как умерло тело.
Много феноменов психики зафиксировал Гоголь, роскошною гроздью персонажей одарив грядущее человечество; и персонажи эти – в большинстве своём – не менее реальны, чем ваши соседи.
…вон дворовый Ноздрёв снова, захватив куражу в дозе допинга, брешет, размахивая руками…
…вон сладко прожектирует современный Манилов, давно потерявший грань разницы между явью и вымыслом.
И несётся, всё несётся, не останавливаясь, не открывая цели своей – птица-тройка: о которой столько всего можно узнать из Гугла…
Духовный дом Достоевского
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
…он кажется героем такой чистоты, что преступления будто бы не было.
Раскольников – сгусток больной совести, сострадания, желания помогать: неужели обладающий такими качествами человек возьмётся за топор, воплощая выморочную идею…
…этак всякий пойдёт старушек лущить: человек и развился, когда перестал использовать физическое устранение неприятных ему других, и стал пользоваться возможностями слова…
Впрочем, нет – убивали, убиваем и будем убивать: так устроены – не мешай, моя территория…
Но Раскольников убивает не из-за территории, едва ли процентщица так уж мешает ему; он ставит экзистенциальный эксперимент – над собой, над внутренним своим составом: выдержит ли…
Не выдержал.
Ахматова говорила, что Достоевский не знал всей правды, полагая, что убьёшь старушку, и будешь мучиться всю жизнь; он не предполагал, что утром можно расстрелять пятнадцать человек, а вечером выбранить жену за некрасивую причёску…
Может, предполагал?
Ведь нарисовал же бесов, пользуясь красками гротеска, вообще излюбленными им.
Не только ими: красками правды, предчувствия, постижения реальности, и человека в ней…
Раскольников верует буквально, то есть не очень глубоко; Достоевский, используя формулу… до тех пор, пока человек не переменится физически – предполагал, что такое возможно, значит, видел сквозь плотные слои материальности.
Как видел творящееся в недрах человеческих душ: а там закипает столько всего, что не захочешь, а напьёшься…
И пьют у Достоевского, пьют многие; недаром черновое название «Преступления и наказания» – «Пьяненькие».
Пьяненькие, жалкие, вбитые в нищету…
Она хрипит старухой: скученность больших домов противоречит жизни, и опять Мармеладов развивает теорию бессмысленности просить в долг…
А… кто это выходит на сцену?
Крепкий, щекастый – разумеется, Фердыщенко, заставляющий усомниться в том, что воспоминания – ценность.
Ведь ежели хороши, их хочется повторить, когда худые – забыть, отказаться…
Из жизни не вычеркнешь ничего – как из черновика: замечали?
Невозможность отступления увеличивает безнадёжность.
Мышкин проявится, но не в его силах будет изменить мир: оставшийся и после Христа таким же, как был – с насилием государств, войнами, тотальным неравенством, смертью, болезнями…
Люди не говорят, как у Достоевского, тем не менее его людей – хочется слушать.
Они сбивают речевые пласты наползающими друг на друга структурами, захлёбываясь, спеша…
Всё спешит, всё несётся, мелькает калейдоскоп разнообразнейших персонажей; Карамазовы – это будто один, расчетверённый человек, и Иван уравновешивает мыслью сладострастие отца, который будет убит смердом, смердящим…
Нет людей хороших.
Нет плохих.
Снег падает на городские задворки; всякий человек – и белоснежен внутри, и грязен, как неприглядные задворки эти; Достоевский, показывая человеческое разнообразие, призывал быть терпимее друг к другу, добрее; всегда проводя через мрачные коридоры к астральному свету: надо только почувствовать…
Сундук, на котором ребёнком спал Достоевский, можно увидеть в музее, располагающемся рядом с больницей, во дворе которой стоит странный, сильный памятник: писатель, словно разбуженный выстрелом, или… выдирающийся из лент небытия к сияющему простору мистического космоса.
Не от утлости ли того пристанища, где пришлось спать ребёнку, – банька с пауками? Потусторонняя тоска Свидригайлова, который уедет в Америку на энергии выстрела?
Страшные колодцы петербургских дворов – в Москве таких нету: недаром Достоевский именовал Петербург самым умышленным городом на свете, когда Москва обладала естественностью прорастания в явь.
Москва пьяновата и пестровата.
Петербург холоден и строг.
Вам жалко Макара Девушкина?
Ведь он жалок…
А вы сами?
Жалкое – вместе растерянное, детское – есть в каждом.
И впрямь: мало живущий, ничего не знающий ни о Боге, ни о том свете человек таков, что его не может не быть жалко.
Но Достоевский провидел тайный свет, и постоянное стремление к оному – и это важнее даже огромной языковой работы, проделанной классиком.
Смертное манит, запредельное влечёт; Кириллов, строящий теории самоубийства, больше вызывает сострадание, чем…
Провинциальная дыра становится вместилищем кошмаров, принимая в себе бесов.
В революции, кроме крови и жертв, Достоевский не видел ничего; и, ожидая кошмарных перспектив, не предполагал общечеловеческого прорыва к свету.
…который знал, как мистическую основу бытия; свет, определяющий жизнь, влекущий, манящий…
Суть Достоевского – свет: дорога к оному, прохождение сквозь лабиринты, ради обретения световой гармонии.
Бытует мнение о хаотичности языка классика – это так, и нет.
Действительно, Достоевский с неистовостью – точно текст летит над земными препонами – сбивает пласты разных речений: канцеляризмы, жаргон – тут захлёст всего, мешанина, но – именно такой язык и нужен для построения лабиринта, ведущего к световым просторам, столь редко встречающимся в жизни.
Если бы было иначе, не вышло бы эффекта, и речь на могиле Илюшеньки не прозвучала бы такой чистотой и болью.
Раскольников кажется чистым настолько, что убийство невозможно: будто это развернулись фантазии его.
Но нет – дребезжат детали, громоздится мерзкий быт, выглядывает из щели двери отвратная старушонка.
Мерзкого много, провинциального много, церковных долдонов много.
Страха, страсти.
Мышкину не найдётся места – как не сложится условий для второго пришествия, как невозможно представить условия посмертного бытования.
Достоевский кажется всеобщим братом и всем другом.
И мерцает слезинка ребёнка – вечным предупреждением.
Слезинка ребёнка мерцает предупреждением, не услышанным миром.
Не увиденным.
В своей огромности и вечном захлёсте страстей мир сносит подобные мелочи – которые так велики сущностью.
В недрах себя каждый согласится с Достоевским, но внешнее организовывается сложно – боль и насилие продолжают созидать мир.
Книги не меняют его.
Но и без книг совсем захлебнулся в несправедливости и прагматизме.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

