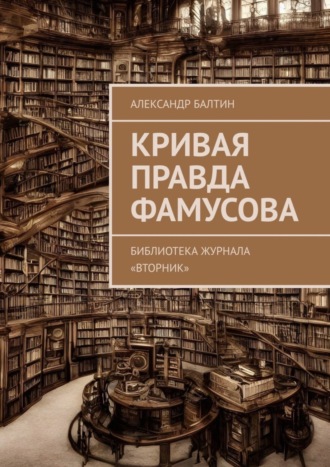
Полная версия
Кривая правда Фамусова. Библиотека журнала «Вторник»
Живое пламя Пушкина
1
2
3
Трепещут лепестки на ветру, переливаются прожилками таких известных смыслов: с которыми ничего не сделать, ибо верны:
Формула точности, и вместе – лёгкости: необыкновенной, пенной, воздушной.
…на имени Пушкина лежит такое количество глянца и елея – имперского, гимназического, академического, советского, антисоветского, анекдотического, школьного, что, кажется, через все эти слои пробраться к живому слову поэта практически невозможно – уже.
Между тем надо просто вслушиваться:
И сам напев утишит душевный раздрай, уврачует раны, наносимые избыточно технологической современностью…
Мороз не стал менее крепким, а солнце не потускнело: ему-то что до человеческого прогресса?
Волшебное поэтическое дыхание ощущается через все дебри сложностей, навороченные последующими веками: волшебное дыхание выси, услышанное и почуянное поэтом, перенесённое в человеческую речь…
…возможно, Пушкин сначала видел свои стихи, как композитор видит музыку, – суммами красивых цветовых наслоений и узоров: там, в недрах себя, в глубинах, о сущности которых сам не знал, – а потом уже проступали слова…
Такие простые, такие знакомые, совершенно особенные, точно наполненные духовным млеком слова, сочетающиеся в строки, знакомые с детства (раньше, по крайней, мере), строки, работающие на осветление пространства который век…
…Лев Толстой писал про стихотворение «Воспоминание»: «Таких много если десять на всех европейских языках написано; а финал его представляется предельно мрачным, донельзя противоречащим и пушкинской лёгкости, и моцартианскому началу».
Страшное совершенство стихов словно расщепляет сознание читающего – но именно в этом совершенстве и есть световая основа, высота, заставляющая видеть себя под таким неприглядным углом, чтобы меняться…
Едет возок, скрипят полозья:
Почему-то кажется – зимой писалось, можно свериться со справочниками, да стоит ли?
Лучше представлять – возок, синеющие отвалы снежного серебра, маленького человека в тяжёлой шубе, задумавшегося о собственных сроках.
Часто задумывался.
Многажды мелькало в стихах: словно проглядывала жуткая тварь между домашними, привычными мыслями…
…несчастный безумец бежит от грозного всадника, чья медь вовсе не предназначалась для того, чтобы сводить кого-то с ума.
Онегин вглядывается в грядущее, которого – ни понять, ни представить; потом, махнув рукой, уходит в вечность: через массу деталей и подробностей, через пресловутый каталог жизни – уходит, чтобы никогда не умереть; да и друг его – несколько нелепый Ленский – всё жив и жив, пока не застрелит его Евгений…
Образы Германии встают: вездесущий и всезнающий, вечно ироничный Мефистофель, впрочем, обозначенный полупрезрительным – бес, потопит корабль, как и было велено.
Финские камни возникнут.
Жарко коснётся души дыхание Корана, чья кропотливая вязь слишком непривычна европейскому сознанию.
У Пушкина оно мешалось – с русским, с любовью – до страсти – к сказкам, былинам, ко всему, что давал предшествовавший ему русский космос.
Дон Гуан проедет по ночному Мадриду, где кружево арабских кварталов таинственно вдвойне; Дон Гуан, рассчитывающий на приключение, а не на визит Каменного гостя.
Рассчитывал ли Пушкин на долгую жизнь?
Если верить русскому провидцу Даниилу Андрееву, смерть его, убийство есть следствие чрезвычайного сопротивления демонических сил силам провиденциальным, пославшим в русскую реальность поэта…
Цепочка кровяных пятен на снегу, плачущий Данзас…
Много лет прошло: совсем чуть-чуть; жарко дышит анчар, всё отравляя…
Надо просто читать.
Коды прозы Пушкина – в поэзии: растёт из неё, и строится по своеобразному принципу – будто не фраза, а строка, та же естественность любого поворота, и рифма, мнится, вспыхивает двоением в роскошно отполированном зеркале вечности.
Страшна ли «Пиковая дама»?
В детстве можно испугаться – правда, сегодня вряд ли кто-то будет читать рассказ ребёнку…
Психология даётся своеобразно: тонко просвеченными нитями, намёками – тут ещё нет последовавшего в русской прозе мощного психологического портретирования.
Да в рассказе «Гробовщик» (скажем) оно и невозможно: тут важен сюжет, схема необычности, выход за пределы реальности…
Любовь к отеческим гробам – проступает, искажённая карнавальной стихией.
«Капитанская дочка» разворачивается спокойно: не суля нагромождения, напластования трагедийных ситуаций, и Пугачёв, появляющийся почти в начале, ничем не похож на того, неистового…
Он для Пушкина двойственен: и объект научного исследования, и символ стихии русского бунта – логично избыточного, ибо альфа социальной несправедливости особенно сильно чувствовалась в России.
(Сейчас, впрочем, тоже – хотя декорум сильно изменился.)
…снежные, свежие, морозные строки-фразы – даже ежели речь о лете, или любимой осени; строки, отливающие мрамором: без его тяжести, белым-белым…
В Тоскане те, кто добывали камень, именовали его мясом: живое мясо земли…
Живой мрамор пушкинских строк, созидающих суммарно прозу поэта, сияет, маня, влечёт всё новыми и новыми погружениями в такое знакомое пространство…
Борис Годунов раскинет мощно цветовые слои исторического космоса по небу – духа…
Страшный, несчастный Борис – из недр шекспировского как будто мира, совершенно русский, растянутый, когда не распятый на крюках грехов, с наползающим ужасом, сминающим все чувства, все возможности дальнейшего бытования…
Сколь возвышен белый стих!
Кажется, и рифмы – лёгкой подруги – более не надобно, мешала бы, отвлекала…
Европейское время растягивалось, как великолепная река, теряя точную атрибутику периодов; впрочем, в противостояние двух (о котором не подозревает солнечный Моцарт) время конкретно, как донельзя конкретен трактир, и вино – мнится – можно попробовать оценить вкус…
Скупец, спускающийся в подвал, опьяняющий себя сильнее всякого вина: гипноз золота своеобычен, его не истолкуешь так просто, иначе по-другому строилась бы жизнь…
…воздух Украины вполне отвечает европейской старине, поражая такой словесной прозрачностью, что ощущения собственные – спустя два века – уточняются как будто:
Громоздится восковой череп замка; зреют события, вызревает тугая, полная таинственным соком виноградная гроздь истории…
Пушкин не мыслится вне её: она близка – различная – и Римом, и Византией, и Испанией, и Германией, – щедрое сердце поэта вбирает в себя все эпохи, чтобы перевоссоздать их по-русски, приблизить к русской тайне и космосу.
…Пышно говорил Достоевский на открытии памятника: сильно, восторженно; Бунин отвечал на вопрос о Пушкине: «Не смею я о нём никак думать…»
Буйная пестрота цыган, неистовство разрывающих крючьями страстей: но тело-то остаётся – крючья работают метафизические…
Ту цыганщину, которую любил Пушкин, не представить сегодня: и песен таких не уцелело, и накал подобный был бы в диковинку.
Смириться?
Пушкин был против – большую часть огромной, такой короткой жизни.
Он был против до периода:
Тут уже смирение ощущается: тугими пульсациями, всё более и более важными гордому человеку…
…Ахматова писала о нём легко и таинственно; Цветаева – с волшебным своим жаром-захлёбом-неистовством; Тынянов рассматривал трезво, научно, если и допуская фантазию, то в пределах источниковедения; Даниил Андреев так, как мог бы моряк блуждавшего в темноте корабля отнестись к маяку.
А вот – Пушкин анекдотический – из рассказа Зощенко «В Пушкинские дни» – Пушкин, увиденный сквозь кривые мещанские окуляры, словно ставший забавным, хотя забавны те, кто так видит…
…Руслан вечно несётся на бороде Черномора; а сказки кота отдают извечностью тайны; запутаны многие тропы «Руслана и Людмила», начинены, кажется, содержанием, которое передал молодому поэту таинственный волхв.
Или не было такой встречи?
Разное можно предполагать: храня живого Пушкина – через пуды напластований, через школьную, познанную всеми рутину, храня чудо философского камня его грандиозного наследия.
Сердце в будущем живёт;Настоящее уныло:Всё мгновенно, всё пройдёт; , . Что пройдёт то будет мило , Буря мглою небо кроет Вихри снежные крутя;То, как зверь, она завоет,То заплачет, как дитя…Мороз и солнце; день чудесный!Ещё ты дремлешь, друг прелестный —Пора, красавица, проснись:Открой сомкнуты негой взорыНавстречу северной Авроры,Звездою севера явись! И мою, с отвращением читая жизнь Я трепещу и проклинаю,И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,Но строк печальных не смываю. Долго ль мне гулять на свете То в коляске, то верхом,То в кибитке, то в карете,То в телеге, то пешком? . Тиха украинская ночь Прозрачно небо. Звёзды блещут.Своей дремоты превозмочьНе хочет воздух. Чуть трепещутСребристых тополей листы.Луна спокойно с высотыНад Белой Церковью сияетИ пышных гетманов садыИ старый замок озаряет. и , Отцы пустынники жёны непорочны Чтоб сердцем возлетать во области заочны,Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,Сложили множество божественных молитв;Но ни одна из них меня не умиляет,Как та, которую священник повторяетВо дни печальные Великого поста;Всех чаще мне она приходит на устаИ падшего крепит неведомою силой:Владыко дней моих! дух праздности унылой,Любоначалия, змеи сокрытой сей,И празднословия не дай душе моей.Лира Лермонтова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…в сущности, Лермонтов первый, кто продемонстрировал возможности сгущения прозаической фразы, предельно ёмкого её наполнения: не потому ли Чехов, доведший искусство лаконизма до высшей, максимально выразительной, точки, так высоко ставил «Тамань»?
Гроздья слов организуют сок смысла.
…Максим Максимыч, фактически не замеченный бывшим другом, вызывает жалость; а какие чувства вызывает более глобальный Печорин?
Скорее негативные: да и мотивы его тотальной разочарованности отдают скорее пресыщенностью, чем глубиной натуры…
Однако сгущение фразы до высокой ёмкости, впервые продемонстрированное Лермонтовым, получило вектор дальнейшего развития: и Толстой, и Чехов, даже, думается, в определённом смысле и Платонов – этот беспрецедентный стилист XX века, – черпали отсюда: из лермонтовских бездн…
…поэзия необыкновенного звука, мелодии столь же возвышенной, сколь и питающей душу, творилась Лермонтовым, не способным довольствоваться только видимой реальностью.
Духовные очи позволяли ему видеть голубое сияние, в котором спит земля, – задолго до возможностей космического полёта, предоставившего возможность получить фотографии.
Необыкновенный звук множится на ощущение неба как дома – неба, сообщающего человеку ту близость, которая должна отменять всякую безнадёжность.
Колорит поэзии Лермонтова мрачен, но это не игры в раннюю усталость, или следствие избыточного житейского опыта – тут создаётся ощущение всеприсутствия поэта – во многих эпохах, в разных временах…
…точно был свидетелем цивилизации титанов, опалённых божественным огнём, громоздящих гигантские скалы; точно такая прапамять окрашивала множество его произведений…
Но вдруг звучало «В минуту жизни трудную» – так задушевно, пронзительно, что становилась очевидна надмирная природа поэзии.
Молитвы Лермонтова не уступают – когда не превосходят – церковное: словесное совершенство множится на ощущение великой субстанции жизни, разлитой повсеместно.
Вчитываясь в Лермонтова, непроизвольно ощущаешь мистические струи, омывающие реальность, начинаешь верить, что наш, видимый, мир – только следствие неизвестных миров, равно не постижимых причин.
Космос не может стареть, даже если учесть все изменения, произошедшие в языке; и космос Лермонтова раскрывается вновь и вновь – всякий раз по-новому, любому поколению иначе, и невозможно представить, как будет прочитан поэт ещё через сто лет… двести…
Ах, какой пир!
Тут не горой даже, а глыбами гор, суммами их – как суммами витых и простых, точно никогда не звучавших, переливающихся самоцветами словес, – поёт лермонтовская поэма.
Торжественный стих, плавный и музыкальный, и словесная живопись, достигающая зримости, отражается в зеркалах вечности, чья великолепная полировка отражает только лучшее.
Печаль любимого опричника заботит великого и страшного царя, словно в палатах становится более тускло, и райские их росписи теряют в своём цвете.
Царю забота о лихом опричнике привычна, как – в силу смены настроений – и кара: кого угодно, за что угодно.
Но Кирибеевич получает дорогие предметы, чтобы смог посвататься к своей зазнобушке.
Посвататься, однако, нельзя, что не останавливает опричника от назойливых ухаживаний; и обвинения, получаемый Алёной Дмитриевной от мужа, несправедливы, как гнев его – не обоснован.
Рассказ жены всё расставляет по местам, и кулачный бой, воспоследующий, словно вынут из времени того…
Сила поэмы вовлекает в иное время, так, будто огромного промежутка не было, будто мы – в сущности, не представляющие психологию тогдашних людей – становимся участниками, свидетелями, персонажами времён, сделавшихся историей.
Слово ярко, слово таково, что будто расписаны им палаты царские, им же организовано всё действо истории, которой не противостоять.
Жалко победителя?
Он с гордостью уходит в смерть, на казнь, показав пример слабым.
Жалко убитого опричника, не совладавшего со страстью?
Ничуть…
Деспотизм царя естественен, хотя свободолюбцу Лермонтову он, очевидно, претит.
И гудит поэма – теми колоколами, что гудели над Москвой, и переливается яхонтами и жемчугами словесного величия, не тускнеющими, вечными.
Скалы и ущелья «Мцыри», словесные впадины, вдруг возносящие вверх, и парение, раскрытое над бездной…
«Мцыри» выкроен из материала бунта, как «Демон», но демон опаснее – каверзы его безвестны, как и психология, а «Мцыри» работает с психологией молодого человека, рвущегося к масштабам новой неведомости и светозарному полюсу высоты.
Сам Лермонтов, очевидно обладая развитым внутренним зрением, прозревал области, которые не могли не поражать чистотою сияний, и опускался в такие, от которых цепенела душа.
Всё построено на полюсах: контрасты, определяющие данность, слишком велики, чтобы можно было ими пренебречь.
Формальная церковь, как и официальная церковная догматика, коснеющая всё больше и больше, едва ли могла устроить Лермонтова, в творчестве и жизни которого звучат ноты духовного титана: он ощущал иное устройство мира, слишком отличное от того, что предлагалось церковью.
Соответственно и молодого, истового бунтаря, ставшего героем поэмы, не мог устроить монашеский постриг: слишком формальная сторона дела.
К тому же память о родном Кавказе едкой кислотой жжёт его душу: там иной воздух, там понятие свободы не пустой звук.
Попытка побега, как известно, не удаётся, и герой умирает от тоски.
Исповедь, вылитая в стихи, пульсирующие космосом, рвущиеся жаждой высоты и свободы, и составляют поэму.
Исповедь, звучащая и звучащая, бередящая сердца и души читателей разных поколений; исповедь, исполненная лучащимся стихом, близким к понятию «совершенство».
Лира Лермонтова, поражающая глубиной звучания; лира, давашая песни мистической мелодики…
Внутреннее зрение поэта, разрывающее пласты пространства:
Увидено задолго до исследований, ставших возможными в иное время, увидено так точно, будто ангелы, услышав подобные мелодии, поднимали поэта к вершинам, открывая ему реальность подлинного знания…
В сущности, Демон ли Демон?
Ничего сатанинского, лютого нет в построенном образе, и через мелодию дивных песен предстаёт он скорее несчастным, действительно – ангелом, утратившим роль…
Или поменявшим её на новую…
Какая удаль звенит в купце Калашникове!
Как бьётся и чеканится стих, точно клинком булатным высеченный на поверхности вечности! О! Она приоткрывается при чтении Лермонтова, она даёт многообразие своих форм и оттенков, перестаёт быть непонятной, серой, равнодушной…
Откуда ещё могут идти «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Выхожу один я на дорогу», «Парус», «Бородино»?
Отточенность каждой строки такая, что будто входят строки в пазы друг друга: не разъять никак и никогда.
Молитвы Лермонтова звучат, не уступая церковным, а может быть, превосходя их – нежностью, точностью послания.
Бунтарский элемент всегда был сильной составляющей души поэта; но и уравновешивался он таким ощущением гармонии, что всякий бунт казался бессмысленным, пустым…
Можно ли стихами врачевать души?
Изменять время?
Казалось бы, читавший Лермонтова должен в корне меняться своим душевным составом, осветляясь, стремясь только к гармонии – во всём, всегда…
К сожалению, иллюзия остаётся иллюзией: поэзия никого не меняет и никому ничего не доказывает.
Что не отменяет её саму – в величайших своих проявлениях по крайней мере.
Прекрасная звукопись прозы Лермонтова!
Льющиеся, но и чеканные фразы, не уступающие поэтическим строкам; медленное погружение в чудо сказки, разворачивающейся в пространстве, имеющем чёткие приметы и, вместе, уже лишённым их – ибо лёгкое бремя вечности и всеобщности открывает новые перспективы…
Старинная турецкая легенда, услышанная поэтом на Кавказе, где она известна всем; Кавказ, раскрывающий свои природные и фольклорные богатства ссыльному Лермонтову: решительное и роковое «На смерть поэта» не могло пройти даром. «Ашик-Кериб».
…Богатый, живущий в Тифлисе турецкий купец, обладающий массой золота – но подлинное богатство его – прекрасная дочь Магуль-Мегери.
Бедный странник, влюбляющийся в неё, – слишком бедный, чтобы рассчитывать на что-то взаимное…
Игра на сазе и прославление знаменитых воинов Туркестана – вот занятие бедняка.
…Он говорит с возлюбленной, которая уверена, что отец даст им столько золота, что хватит на двоих; но странник горд – он не хочет попрёков в былой бедности, он обещает семь лет ходить по свету, собирая богатство… своё
Хитрый всадник нагоняет его, желая странствовать вместе с ним: однако планы его вовсе не такие – когда Ашик-Кериб бросается в реку, чтобы переплыть её, Куршуд-бек забирает его одежды, чтобы показать их матери девушки и убедить её в смерти Ашик-Кериба.
…Нечто от легенды об Иосифе Прекрасном звучит в этом фрагменте: не так ли убеждали братья отца в смерти Иосифа, показывая одежды, измазанные кровью животного?
Нечто грозное и провидческое спрятано во многих негативных действиях людских.
Будет счастливым финал повествования, ибо пряно цветущая восточная сказка не должна завершаться чернотой неудачи; будет счастливым – но придётся подождать, пока поющий паше певец, получающий бесконечное золото, вспомнит свою Магуль-Мегери, вспомнит, чтобы соединиться с ней наконец.
…Не сам ли Георгий Победоносец на белом коне переправляет певца в родные места?
Солнце золотится, и в крутых очерках гор есть нечто непримиримое.
Золото застит солнце любви.
Золото топит печи всего негативного в душах.
Много символов в сказке – яркой, как жар-птица.
Лермонтов берёт основу – и наполняет её своим содержанием, чётко разграничивая положительных и отрицательных героев; дарители и помощники, чудеса и приключения мешаются в пёстром калейдоскопе; волшебные звуки музыкальной речи – и цветовое пиршество текста…
Сказка, опубликованная после смерти поэта, начала широкое шествие по миру, играя оттенками, вызывая печаль и радость, слёзы и умиление; сказка, воспевающая то, что должно быть, а то, что есть обратное, – так это дело сиюминутности, а вовсе не вечности.
Демон печален – а воспоминания его счастливо мерцают и блистают…
Ошибся первенец творенья в бунте своём?
Сожалеет об оном?
Не есть ли подобный персонаж, избранный в качестве главного, ошибка поэта?
Стихи, чья плавная музыкальность давно стала чуть ли не эталоном поэзии, опровергают предположение об ошибке классика…
…Демона вообще склонны романтизировать люди, разве что Данте один показал правду: слишком страшную, чтобы была привлекательной.
Но Демон Лермонтова – как будто и не Демон: одинокий поэт, или космический вариант Печорина…
Демон, сам попавший в таинственные сети Кавказа; ковры, роскошно расстеленные, пир, удары в бубен, пение…
Вино, туго льющееся в чаши.
И вновь одиночество изгнанника – одиночество поэта, только Демон обладает бльшими возможностями. ó
Суровый колорит поэмы, точно прорезаемый сильными красными вспышками – в том числе страсти.
Ведь Демон не может любить никого, кроме себя: на том и держится гордыня!
А тут…
И вот последний портрет персонажа, словно опровергающий его демоническую суть:
Нет у человека достоверных сведений о небесных и адских насельниках; нет, несмотря на целый ряд книг, и никаких достоверных, проверяемых свидетельств о существовании подобных метафизических областей; но кажется, духовные очи Лермонтова разрывали пределы материальной видимости, и то, что представало запредельному взору поэту, смущало его самого…
Впрочем, отлившиеся в поэму видения настолько обогатили поэзию, что иные соображения представляются праздными…
Арбенин, сходящий с ума, бросает Богу: «Я говорил Тебе, что ты жесток!» – что, ни в коей мере не воспринимая Арбенина как альтер эго поэта, заставляет всё же задуматься о системе взаимоотношения Лермонтова с высшими инстанциями…
Произведениям его – лучшим из них – присущи мрачный колорит, сгущение сил, и дерзновенная попытка вырваться за пределы реальности: казалось, в памяти Лермонтова бликовали, когда не бушевали воспоминания, которые не могут быть связаны с земной жизнью.
Недоказуемо? – Разумеется…
Но и Демон, нарисованный им, привлекателен, и Арбенин не удосуживается задуматься о напластовании собственных поступков, приводящих к трагедии…
Дальше непроизвольно вытягивается цепочка размышлений, требующая окончательных ответов, которые невозможно получить: грех, сиречь нравственное нарушение, есть не материальный закон, которого человек не может создать, но полностью подчинён ему; чтобы стало возможным убийство, должна проявиться идея убийства, и эта идея должна быть введена чуть ли не на генетическом уровне в человеческое устройство – в противном случае люди не возмогут убивать.
Чьё же это творчество?
И почему человек – столь маленький, мало живущий, мало знающий человек – вынужден расплачиваться за чьё-то неведомое творчество?
Отсюда – богоборчество: ибо как же всеведающая любовь могла творить первоангела, прекрасно зная о грядущем его отпадении и последствиях оного…
Лютование страстей «Маскарада» – пьесы, столь же совершенной поэтически, сколь и психологически изощрённой, – заставляет ещё и задуматься о свободе воли…
Арбенин поступает только так, как он может поступать, являясь и продуктом определённой среды, и заложником собственных пристрастий.
Воля, напруженная внутренними мускулами, не смогла бы утишить страсть к игре, пока не подошёл некоторый рубеж… но и за ним оказалось, что человек не может не играть…
(Попутно возникает вопрос о свободе выбора, якобы существующей в мире, но… человек не может выбрать языковой среды, где он появится, своих родителей, собственный характер – он заложен; из массы занятий человеку придётся выбирать между двумя-тремя, к которым проявится склонность и так далее…)
Не есть ли «Маскарад», почти завершающийся столь богоборческим восклицанием, мучительная, развёрнутая сценами и картинами попытка докопаться до окончательных ответов на головоломные вопросы?
И не есть ли богоборчество (прерываемое порой эзотерически-световыми перлами, такими как «В минуту жизни трудную…», или «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») нечто стержневое в гениальности классика?
Живопись Лермонтова профессиональна, и предлагает ту высоту, в бесконечность которой устремляется его поэзия…

