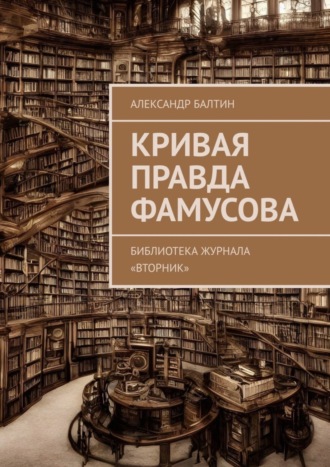
Полная версия
Кривая правда Фамусова. Библиотека журнала «Вторник»

Кривая правда Фамусова
Библиотека журнала «Вторник»
Александр Балтин
Игорь Михайлов Редактор
Инна Тимохина Корректор
Дмитрий Горяченков Обложка
© Александр Балтин, 2022
ISBN 978-5-0059-0685-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
…Потому, что телефон и холодильник (всего лишь, хотя это великие изобретения) изменили нас сильно, а «Дон Кихот», «Мёртвые души» и «Мастер и Маргарита» никак…
Утверждение Р. Музиля – «Что остаётся от книг? Мы – изменённые», – к сожалению, всего лишь прекраснодушие, тщетная надежда автора, всю жизнь потратившего на сочинение огромного, великого романа.
То ничтожное место, какое занимает в сознании современного человека классическая литература, свидетельствует не о кривом, чрезмерно прагматичном воспитании, а о том, что книги не дают ответов на необходимые вопросы и никак не помогают жить.
Болтовня про вечность – мол, ждущую писателей – самоуспокоение неудачников.
Какая вечность? Помилуйте!
Мы о литературе Атлантиды не имеем никакого представления, не говоря о том, что попросту не знаем, была ли она сама.
Так что в лучшем случае художественная литература не справилась со своим заданием, если предположить таковое, – мы по-прежнему остаёмся корыстны, властолюбивы, эгоистичны, агрессивны, конфликтны, а в худшем литература – это просто род развлечения, более высокого, конечно, чем футбол, водка и карты, но… всего лишь развлечения.
И не следует уделять ей такого уж внимания…
Так что ж – прав Фамусов: «Собрать все книги бы, да сжечь?»
А пожалуй, и был бы прав, если бы не одно «но».
«Но» это заключается в следующем: если бы не «Дон Кихот», «Мёртвые души» и «Мастер и Маргарита», мы были бы ещё более космато-корыстными, грязно-эгоистичными, чёрно-самовлюблённо-самолюбивыми…
Так что не стоит недооценивать литературу, равно сбрасывать её со счетов: ведь будущее наступает всегда, и мы никогда не знаем, каким оно будет.
Словесная медь восемнадцатого века
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Боярского княжеского рода – того, что претендовал на происхождение от византийских императоров, – Кантемир получил изощрённое, блестящее домашнее образование, и отец, которого он потерял рано, отказывая своё состояние тому из сыновей, кто проявит к наукам наибольшее расположение, имел в виду именно Антиоха.
Уехав за границу, Кантемир во внутренней российской жизни участия более не принимал, может быть, ему хватило событий, приведших к воцарению Анны Иоанновны, в которых он участвовал избыточно…
От могилы его ничего не осталось: разрушение соборов и монастырей было заурядным делом в советской империи, устанавливавшей собственный культ.
Первый сатирик, Кантемир чувствовал изъяны человеческой породы и любого общества с тою безжалостностью, которая позволяла находить наиболее ёмкую словесную форму для их изображения: хотя сегодня требуется изрядный труд для чтения подобных виршей.
Когда-то сверкали, играли драгоценными каменьями, созвучьями, чтобы потом казаться непроворотными, очень тяжёлыми, если не обветшавшими.
Нужно делать скидку на огромный временной пласт, отделяющий нас от Кантемира, и не предаваться иллюзии вечности слова: сохраняясь как зыбкий памятник, оно меняется настолько, что чтение столь древних авторов может иметь только ознакомительную функцию, на уровне эстетическом и смысловом, едва ли кого-то сейчас в чём-то убеждая.
Тем не менее жизнь и литературная деятельность Кантемира – блестящий пример цельности, внутренней силы и той сосредоточенности на главном, какая и позволяет, при столь краткой жизни, высказаться полно.
Ломоносов, жизнь которого сплошное преодоление, помноженное на прорыв, сделал, вероятно, первую попытку обмирщения книжной, высокой речи, речи, вскормленной классицизмом:
Но обмирщение подобного рода не есть путь вниз – напротив: за оной попыткой стоит совсем иное видение реальности – подобно тому, как заглавные буквы в словах «Стекло» и «Минералы» свидетельствуют о высоком почтении, каковое выказывает поэт и учёный нормам, и сути вещества, столь необходимого в жизни…
Словесная живопись высокой степени выразительности присуща многим произведениям Ломоносова, и самая тяжесть их, плотность и вещность, точно есть следствие неустанно бушевавшей в сознании его поэтической стихии, выплёскивающей могучие краски на холст бумаги:
Мера искусственности, которая слышится сейчас в стихах Ломоносова, как и в любых стихах восемнадцатого века, преодолима за счёт осознания временных пределов, в которые вписаны оные сочинения: вписаны с тем, чтобы проложить мостки будущему, каковое будет распоряжаться языком совершенно иначе.
Ломоносов, ответствующий Анакреону; Ломоносов, могущий петь о любви, но:
Ибо сам Ломоносов – герой, прободающий пространство ради победы света; ибо он – несущий факел во тьму, любезную большинству; ибо поэтическая речь его – сгусток сил и таланта, мускульно поднимающий своё время, чтобы приблизить его к потомкам…
Ломоносов – игривый в речи, ловко воспевающий бороду, славное струенье волос:
Ломоносов, щедро раздаривавший впечатанные в него многие дары, дабы в мире увеличивалось количество света и уменьшался процент несправедливости…
Вектор энергии Тредьяковского требовал обновления поэзии, всего её состава, самой сути: но ориентация на классицизм – с его незыблемыми принципами – не позволяла отступать в мирскую стихию языка.
Всё должно быть возвышенно.
По крайней мере – высоко.
Стихи должны звенеть, ложиться на медные доски вечности, избегая тления, и даже «Здравствуйте, женившись, дурак и дура», писаные с забористым перцем, дьявольщинкой, собачьим сердцем хранят в себе начинку высокого стиля.
Он не соответствовал живому языку, оттого и гудит непроворотно, будто даже скрипит.
Ничего не поделать – язык развивается вовсе не при дворцах, и то, что высокими его плодами могли пользоваться тогда лишь немногие, не помогало пииту.
Живые ручьи иногда блистали внутри тяжёлых построений Тредьяковского:
Но играл Тредьяковский значительную роль – играл всерьёз, смертельно: мостил дорогу будущему обмирщению языка, в пределах которого будут созданы незыблемые шедевры.
Громокипяще и медносверкающе извергся Державин в данность, созидая стихи твёрдые, как камни, и сверкающие гранями, что алмазы.
Громогласно заявил:
Ибо исследование жизни души – истинно поэтическое дело, или – самая важная составляющая из всей суммы поэтической необходимости.
Ибо стихи необходимы в мире, чтобы не окоснел в броне сует и выгод, чёрствости и безвкусицы.
К Богу, даровавшему возможность писать – помимо возможности жить, в чём, очевидно, Державин не сомневался, – поэт мог обратиться напрямую, замирая восхищённо в недрах сквозящей жизненной тишины и всего величественного, что простирается повсюду.
И Ньютон так верил, и Коперник, хотя их поэзия другого рода: проникновение в тайны, но не описание следствий их.
Ибо мир зримый есть следствие глобальных тайн, сокрытых от умопостижения причин, корней, залегающих так глубоко, что никакой рассудок не в силах постичь.
Державин полнозвучно избыточен, и хоть обмолвился где-то Пушкин, что стихи его напоминают тяжеловесные переводы блистательного оригинала, думается, именно державинский звук можно проследить в дальнейших лабиринтах русской поэзии: Тютчев, Некрасов, Маяковский – от него брали свои ноты, обогащая их собою.
Шикарно блещущий драгоценностями «Водопад» продолжает своё извержение в поэзию двадцатого века: Цветаева именовала Мандельштама «молодой Державин», и сама брала от певца Фелицы многое.
Державин фривольный, игривый, жизнелюбивый – разный, как радуга; щедрый, как ливень, сложный, как сама жизнь…
И «Грифельная ода» верна лишь отчасти: ведь жив блистательный Гавриила Романович, жив, несмотря на «жерло времени»…
Звучит и сегодня: звонко, ярко, возвышает дух, наполняет хорошей гордостью, и – точно открывает ретроспекцию, уходящую очень далеко: туда, где жизнь Василья Кирилловича Тредиаковского бушевала и разливалась, казнила его и возносила, миловала и лупила – через судьбу – палками по голове.
Но ничто и никогда не лишило его дара: растущего и мужающего, подкреплённого неустанными занятиями, изучением языков, умноженного на странствия, раскрывавшие миры других пространств.
Басни расцветут: тяжеловесные, приподнятые, важные, точно в напудренных париках, и вместе – сверкающие гирляндами смехами.
«Ворон и Лисица», «Леший и мужик»…
Вечность Эзопа дохнёт в лицо.
Взыграют оды:
Загудят – и вместе струнные переборы дадут; хотя, вероятно, оргáн пришёлся бы впору Василью Кириллычу: он мечтал о мощном звуке, о полифонии звуко-смысла, о величии подлинном: возвышающем величии стихов.
…а как разойдётся – уже совсем другим языком: «Приветствие, сказанное на шутовской свадьбе»!
Полыхнёт оскал шутовства, запляшут, заболбочат несчастные карлы, и выдохнет… не более счастливый Тредиаковский:
Эх, с перцем, с собачьим сердцем, с адскою силой, а – на века…
Века вобрали опыт Тредиаковского.
Вряд ли сейчас можно испытывать сильное эстетической удовольствие от его стихов, но высятся они причудливыми колоннами, прорывом в небо, и никто из желающих знать тайны русской поэзии не обойдёт их…
Капнист зазвучал уже легко – с блеском, точно опровергая ямбы и зарывая определённые ямы века своего; он раскрывался посланиями – Батюшкову, к примеру, – где искры словесных граней переливались то иронией, то глубиною смысла; он сострадал красоте, которой не находится места в мире:
И среди многих общепоэтичностей ярко выхлёстывал собственную индивидуальность, словно драгоценную жидкость, что не удержать в сосуде своём.
Пел природу, дружбу… всё, что полагается – но песни были своеобычны, отличаясь определёнными нотами, что и позволило им остаться…
…параллельно ему длились басенные свитки Хемницера: звонкие, сложные, умные.
Лестница – глобальный символ, и очевиден факт, что низ её всегда не слишком интересен, когда не чреват – в метафизическом смысле: навечно застрянешь внизу.
Что ж?
Ритмический рисунок не из Хемницера ли черпал Крылов, гений русской басни? Крылов, снабдивший русский мир столькими роскошными афоризмами, что и повторяющие подчас не ведают автора?
Мощно звучит Хемницер – устаревше, обветшало…
(Интересно, как через пару сотен лет будет восприниматься сегодняшний язык?)
Но – будто странные серебряные нити соединяют двух поэтов, Капниста и Хемницера, словно тайное родство чувствуется – разлитое в составе их произведений, а как объяснить его?
Впрочем, стоит ли?
Достаточно ощущенья.
Индивидуальность в поэзии определяет почти всё: как в любом из творческих миров, вероятно; индивидуальность бывает того рода, когда проявляется на уровне стихотворения, но не уровня неповторимого голоса, и больше дана через запоминаемость стиха, нежели через узнаваемость всего поэтического ряда…
Но – и индивидуальность может быть напоена таким низовым разгулом, что цена её снижается: Барков тому примером.
Он уникален – в середине восемнадцатого века писал языком середины века девятнадцатого, опережая на столетие развитие родной речи.
Он уникален – тем, что, практически минуя бездны, каковые призвана освещать поэзия, полностью отдался срамной, озорной, низовой, карнавальной стихии, воплощая в стихах, звонко и весело, её бурление…
Он мог бы, используя те нормы языка, какие создал сам для себя, опережая время, создавать шедевры величавого метафизического и великолепного поэтического звучания, но… остановился на срамных одах, став притчей во языцех…
Впрочем, звёздная пыль, блещущая в недрах похабных виршей, всё равно переливается чудесно, ибо всегда мы, даже изрядно меняясь с веками, остаёмся людьми…
Разворачивается эпос «Россиады», звучат эпические накаты, железно идут ряды шестистопного ямба, сияют колонны классицизма.
Помпезно, приподнято, никаких срывов – они чреваты, ибо поэзия должна быть высока.
Так высока, что тянуться к вершинам надобно всей душою, всею интеллектуальной силой.
Завоевание Иваном IV Казани Херасков считал датой окончательного освобождения России от треклятого ига; но элемент чудесного, весьма значительный в поэме, не соответствует правилам Буало: тут нет античных богов и героев, но действует сам Бог, православные святые, Магомет…
…персидский чародей Нигрин, несомый драконами, и глядящие отовсюду лица аллегорий – столь же очевидные, сколь и завуалированные обилием словес.
Их чрезмерно – они приподняты, они отличаются торжественной важностью; но в «Россиаде» много пластов: и масонское видение правды жизни вполне совмещается с православным взглядом на мир; а библейские реминисценции, облечённые в одежды классицизма, красивы…
Хераскова именовали русским Гомером; поэма была благосклонно встречена соотечественниками, и гимназисты долгое время (вероятно, страдая) заучивали вступление наизусть.
Трагедия «Венецианская монахиня», сделавшая Хераскова знаменитым, и государственные дела; циркуль масонства и – куратор университета: жизнь Хераскова изобильна, когда не избыточна во многих моментах своих; и то, что громокипящие его, тяжелостопные вирши, в том числе и составившие первый русский эпос, едва ли сегодня могут восприниматься иначе как ветхие памятники, – не очень важно, пожалуй…
…эпистолы, сатиры, элегии, песни, эпиграммы, мадригалы, эпитафии…
Оды.
Сумароков писал всё, был всеобъемлющ, обладал жанровым фундаментализмом; он использовал все существовавшие тогда размеры и экспериментировал в области рифмы, и созидал орнаменты разнообразных строфических построений.
Изначально следуя принципам поэтической реформы Тредиаковского, он заинтересовался ломоносовской силлабо-тонической системой и довольно быстро политизировал свою поэзию, давая советы Елизавете Петровне от имени российского дворянства.
Сумароков узнал взлёты и падения, амплитуда его судьбы, включавшая зигзагообразное движение, приводила к эпосу; но гекзаметры «Телемахиды» не обрели успеха…
Песни, басни и пародии – как линии, определяющие временнýю сохранность наследия Сумарокова; и жанры эти он, по сути, заново создал в русской литературе.
«Узаконение» песни в жанровой системе русской лирики было квантом творческого мужества Сумарокова, тем, что определило краткость и мелодию данного словесного движения…
Космос Сумарокова поражал универсализмом: использовать всё, чтобы создать свой, неповторимый, овеянным индивидуальным ароматом космос, – вот дело сильного, высокоштильного, ярого, блестящего, тяжелочитаемого ныне Сумарокова.
Воспринимаемое ныне архаикой звучало некогда высоко и набатно: классицизм предполагал громкогласие, приподнятость, точный баланс высокого и низкого; и Иван Пнин, созидая стихи, учитывал бездны, раскрывавшиеся в самых возможностях стихосложения:
Система мира, взятая как будто из научного обихода, точно зажигает первую строку, делая её столь же полнообъёмной, сколь и красивой; и, разумеется, стихотворение, наименованное «Бог», должно возносится скалами твёрдости, и… сияний…
Стихи тяжелы… но и глубоки; упоминаемый океан точно разверзается суммой русских словес, поставленных на места, с которых уже едва ль низвергнуть.
…в пятнадцать лет Иван Пнин, внебрачный сын маршала Репнина, получивший усечённую фамилию, написал первую оду; за ней последовали другие.
Разворачивая панораму стихов – за одами высветились лирические стихотворения, заиграли басни, – поэт стремился воспеть нравственную природу человека: поражавшую его своим законом, как Канта; но – исходя из оной же – он протестовал против унижений, насилия, рабства.
Мысль работала в произведениях Пнина: тяжело ворочая камни, ибо осмыслению подвергались самые сложные участки бытия:
Время, закипающее в недрах иных, непроворотных созвучий, свидетельство за поэта: он был – его стоит перечитать, вслушаться в имена слов, которые он произносил, прочувствовать одическую силу; его стоит перечитать – ни в коей мере не сбрасывая с гамбургского счета истории отечественной словесности.
Шёл и шёл, пейзаж менялся; шёл и пел, и песни предполагали божественный сад, и мир, закидывая тонко сплетённые сети, не поймал его…
Тяжело ли звучат ныне песни Григория Сковороды?
Конечно – язык сильно меняется.
Способно ли время вымыть из них внутреннюю суть, размягчить, сделать не солёною соль?
Ни в коей мере…
Мудрость одиночества наполняет и стихи, и песни, и басни:
Множественность проведённого через тончайшие ощущения ложится золотыми нитями в пространные вести вечности…
Концентрация, данная в иных строках, велика, как отсвет духовного океана…
…он шёл и шёл: философ, поэт, баснописец, педагог; своеобразный дервиш восточнославянского духа; сады цвели, имения манили, золотой блеск пресловутых кругляшей был привлекателен для всех, но не для него…
Он шёл сквозь сети, сплетаемые соблазнами, и разрывал их силой духа для дальнейшего пути…
Его душа была, вероятно, преисполнена такой гармонии, о которой немногие имеют хотя бы представление.
И – Сковорода мог прозревать духовные пещеры: с их причудливою светотенью, игрою оттенков, тайными созвучиями, всем сокровенным; он мог их зреть, прекрасно ведая, что подлинная жизнь – это жизнь духа…
Ядро века просвещения – благородство мысли, чья энергия должна быть настолько сильна, чтобы преобразовывать мир.
Михаил Чулков происходил из семьи солдата московского гарнизона, обучался в разночинском отделении гимназии при университете, затем слушал лекции в нём же; а придворную карьеру начал лакеем, очевидно, не имея в душе ничего лакейского…
Публиковаться он начинает с рассказов, выпускает их четыре сборника, и они, наполненные и патриотизмом, и здоровым смехом, своеобразно показывают тогдашнюю жизнь: кругло катятся её яблоки, тяжело пашется земля…
Но вот в рассказе «Горькая участь» впервые проступает детективный сюжет: идёт расследование убийства, – русская литература обогащается новыми возможностями.
Единственный русский плутовской роман «Пригожая повариха…» написан именно Чулковым, и брызги забавных приключений долетают и в наши дни…
Энергия Чулкова велика, а мозг требует глобальности: он занимается издательской деятельностью, затем выпускает «Краткий мифологический лексикон», где объясняет происхождение имён и легенд; он сотрудничает с Николаем Новиковым, вводя в реальность собрания разных песен…
Он тяготеет, в сумме, к большим историческим осмыслениям; он создаёт «Историческое описание российской коммерции», и несть числа документам, пересмотренным, переработанным, скопированным, чтобы книга плотно и полно отобразила эту сторону бытия.
Разносторонне восприятие жизни, и ум, впитывающий всевозможные знания, позволяют создать и «Словарь русских суеверий», и лечебник, призванный помогать крестьянам, лишённым всякой медицинской помощи.
Просвещение!
Сила и лозунг жизни Михаила Чулкова, жизни, исполненной столькими различными деяниями, что не верится, будто она принадлежала одному человеку.
Есть некоторая заманчивость в мерцании древних словес классицизма – таких тяжёлых, таких крутых, столь крупных; кажется, вес слов был иным: можно взять в руку, поднять, ощупать…
Так, Силов! рассвело, воспрянем ото сна,
Нас бодрствовать манит прекрасная весна;
Растворим чувствия, способности разбудим
И размышленьем мысль быстряе течь принудим.
Так пел Василий Петров – и громогласие его бухало в медь времён; и чувствия, перехлёстывающие через край произведений, срывались в пределы других миров: нашего, например, о котором старый поэт не имел ни малейшего представления…
В послание Силову вложил все свои размышления, чаянья, думы; соль и перец вспыхивают белым и чёрным, и всяческие метаморфозы мира льются и ткутся прихотливо, причудливо…
Чудесный Петров!
Как мощно соплетает он строки, как закручивает орнаменты мысли, внутри которых горит, пламенеет алая правда…
Потом возникают «Должности общежития», в которых излагается кредо поэта – необходимость быть полезным обществу: невозможность праздной жизни:
Проснись, о смертный человек!
И сделайся полезным свету;
Последуй истины совету:
В беспечности не трать свой век.
Летит не возвращаясь время, —
Спеши пороков свергнуть бремя:
Заутра смерть тебя ссечёт,
Во гроб заутра вовлечёт.
Кажется, сам поэт даром не потерял и дня: всё в нём было подчинено единому порыву к свету и справедливости, столь владевшему его поэзией…
Невысокого звания, Владимир Лукин был рождён для одолжения – от сердец великодушных; изведал армейскую службу – и неистовый картёжный азарт, круговращение надежд и отчаяний; а литературную деятельность начал под руководством Елагина, снискавшего, составившего себе известность хорошего писателя и переводчика, – слог его считали ярким, а самого именовали первым после Ломоносова писателем в прозе.
Лукин начинал как переводчик: опять же совместно с Елагиным, но популярные некогда «Приключения маркиза Г.» (в шести частях), представляя собою библиографическую и букинистическую редкость, не представляют литературной.
Иное дело «Мот, любовию исправленный» – оригинальная комедия Лукина, отличающаяся простотой языка и… относительным изяществом исполнения.
Лукин первым выступил против условностей классицизма, о переделках и переводах западных произведений утверждая, что они должны быть очищены от всего не присущего русскому космосу (естественно, не используя этого слова).
Следовал этому принципу: «Щепетильник» – взятый с французского – раскрывает галерею персонажей, ибо сам Щепетильник торгует безделушками во время маскарада, что позволяет провести перед зрителями ряд лиц, фамилии которых говорят сами за себя – Вздоролюбов, Обиралов, Легкомыслов.
Лукин вершил труды по оздоровлению языка, его приближению к реальности, и что сам не свершил великих пьес – было скорее логично, нежели трагично: время не пришло.
Первое издание стихотворений Ивана Дмитриева называлось «И мои безделки» – хотя безделками его поэзия вовсе не была…
Перекличка с Карамзиным, опубликовавшим «Мои безделки»?
Скромность, обычно не знакомая поэтам?
(Кстати, замечательная буква «ё», которую современный мир взялся третировать, встречается впервые именно в издание стихов Дмитриева…)
…басни Дмитриева – одно из чудеснейших явлений русской поэзии в этом жанре докрыловского периода.
Лапидарно сжимая строки, отцеживая возможный словесный жир, Дмитриев, казалось, приближался к идеалу: писать белой, крупной солью, давая метафизические образы изрядной густоты и силы:
Их можно цитировать целиком – басни Дмитриева: они обладают чрезвычайной ёмкостью и золотой структурой смыслонесущих конструкций.
Они завораживают и по сегодня – мудростью, не так часто встречаемой в нашем мире.
Разумеется, талант поэта не мог быть ограничен только басенным ладом: были популярны его стихотворные сказки; а сила его метафизического голоса наиболее полно прозвучала в одах – «К Волге», «Ермак»…
Тут развернутся стяги классицизма, и тяжеловесность их обещает возвышенность: иначе невозможно…
Однако, думается, вековечные перлы в поэтическом своде Дмитриева – именно басни: чудесные, забавные, актуальные всегда – словно идущие параллельно со временем, вечно двигающимся вперёд…
Неправо о вещах те думают, Шувалов,Которые Стекло чтут ниже Минералов…Царей и царств земных отрада,Возлюбленная тишина,Блаженство сёл, градов ограда,Коль ты полезна и красна!Вокруг тебя цветы пестреютИ класы на полях желтеют;Сокровищ полны кораблиДерзают в море за тобою;Ты сыплешь щедрою рукоюСвоё богатство по земли.Героев славой вечнойЯ больше восхищён.Борода предорогая!Жаль, что ты не крещенаИ что тела часть срамнаяТем тебе предпочтена.Виват, Россия! виват драгая!Виват надежда! виват благая.Се слово мне гремит предвечно:Жив Бог – жива душа твоя!Измерить океан глубокий,Сочесть пески, лучи планетХотя и мог бы ум высокий, —Тебе числа и меры нет!Виват, Россия! виват драгая!Виват надежда! виват благая.О! не ярости во время,Господи, мя обличи;Зол же всех за тяжко бремяИ за многое тех племяНе во гневе в казнь влачи.Здравствуйте, женившись, дурак и дура,Еще и <…> дочка, тота и фигура!Теперь-то прямо время вам повеселиться,Теперь-то всячески поезжанам должно беситься:Кваснин дурак и Буженинова <…>Сошлись любовно, но любовь их гадка.Увы! что в мире красота? —Воздушный огнь, в ночи светящий,Приятна сердцу сна мечта,Луч солнечный, в росе блестящий.Мгновенье – нет Авроры слёз,Мгновенье – льстить мечта престала,Мгновенье – метеор исчез,Мгновенье – и краса увяла!Всё надобно старатьсяС погребной стороны за дело приниматься;А если иначе, всё будет без путиХозяин некакий стал лестницу мести;Да начал, не умея взяться,С ступеней нижних месть. Хоть с нижней сор сметёт,А с верхней сор опять на нижнюю спадёт.«Не бестолков ли ты? – ему тут говорили,Которые при этом были. —Кто снизу лестницу метёт?»Систему мира созерцая,Дивлюсь строению ея:Дивлюсь, как солнце, век сияя,Не истощается, горя.В венце, слиянном из огней,Мрачит мой слабый свет очей.Но кто поставил оком мируСей океан красот и благ?Кто на него надел порфируВ толико пламенных лучах?Теченьем правит кто планет?Кто дал луне сребристый цвет?Тот ныне царь – вселенной правит,Велит себя как бога чтить;Другой днесь раб его – и ставитЗаконом власть боготворить,Ударит час – и царь вселеннойПадёт, равно как раб презренный,Оставя скипетр, трон, венец…И, наконец,Всё преимущество царя перед рабомВ том будет состоять,Что станет гроб в стократ богатый заражать.Не наше то уже, что прошло мимо нас,Не наше то, что породит будуща пора,Днешний день только наш, а не утренний час.Не знаем, что принесёт вечерняя заря.…не будет сыт плотским дух.Всякому сердцу своя есть любовь!Завоюй земной весь шар,Будь народам многим царь,Что тебе то помогает,Если внутрь душа рыдает?Бык с плугом на покой тащился по трудах;А Муха у него сидела на рогах,И Муху же они дорогой повстречали.«Откуда ты, сестра?» – от этой был вопрос.А та, поднявши нос,В ответ ей говорит: «Откуда? – мы пахали!»От басни завсегдаНечаянно дойдёшь до были.Случалось ли подчас вам слышать, господа:«Мы сбили! Мы решили!»
