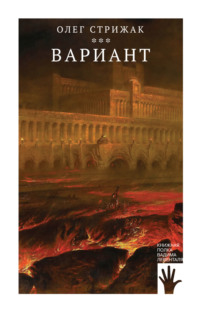Полная версия
Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках
…нет; с вашего позволения, – угрюмо и скучно сказал вдруг мальчик.
– Жену, – сказал скучно мальчик, – играет Корнеева.
…Псс! – удивился я высокомерно. – Значит, по-твоему?..
– Мое мнение, с вашего позволения, – сухо сказал мальчик, – не изменивает состав исполнителей. Жену молодого ранчера играет Наташа Корнеева.
И мальчик хмуро вынул из курточки и вежливо положил, на полные чёрных окурков, яркие апельсинные корки, бело-голубую программку.
Сказал, очень просто:
…я тоже ходил утром, и в тот же театр.
И девочки, доморощенные грации, тупо уставились на него. Общее неприветливое молчание мальчик неверно истолковал как приглашение говорить. Мальчик не умел ещё чувствовать, когда говорить следует, а когда нет.
…пружину интриги; вот-те клюква, подумал я, главного-то я в пьесе и не понял; и о романе, по которому написана инсценировка; в жизни я про такой роман не слышал; и о литературе тридцатых годов в Америке; и о подробностях последних лет жизни автора; сволочь какая, подумал об авторе я; и о неизвестном мне пуделе Чарли.
А хорошо говорил Мальчик! Умудрялся лепить картинку: яркую сцену, конюшню (ранчо, штат Оклахома). В каждой его фразе жил сюжет; фраза имела развитие и окончание; жаль, никто из присутствующих не мог этого понять. И умел дать почувствовать вкус премьеры, томительный дух театра. Всё это я пишу и вижу уже теперь. В тот миг я испытывал злейшее раздражение.
…прибавив, что премьера, конечно, событие в театральной жизни Города, но скорее музейно-историческое, потому что долго спектакль не протянет; не жилец, угрюмо сказал мальчик; и замолчал (и всё это скупо, кратко, точно; почти не поднимая глаз от коньяка в чашке; хрипловатым и твёрдым голосом; и без всякой подачи на девочек).
Твёрдая манера мальчика говорить, держаться никак не вязалась с его детским видом, дрянным сереньким свитерком, детскими пальцами в ссадинах. И девочки, поджав губки, смотрели на него с неприступным сомнением.
…Чёрт бы побрал неприступных девочек! Вызывающую их независимость; ковбой Неуловимый Джо! скачет по прерии ковбой, усмехнувшись, сказал я. Неуловимый Джо; он не потому неуловимый, что его никто поймать не может, он потому неуловимый, что он на … никому не нужен, и все с оживлением засмеялись; и забыли о неприличной выходке мальчика3 выпить! выпить, заговорили все с оживлением, девочки стали поправлять на себе, независимо, свои шарфики (уголочком глаза тревожно следя, не забудут ли им налить), и не выпить ли нам за вечную тайну театра, с усмешкой сказал я, кстати, в качестве тоста, театральная история. Когда моя первая книжка, грехи юности, вышла третьим изданием (и я тоже был здесь чужой. Но совсем иначе, нежели сумрачный мальчик), то пьеса, по книге, шла уже в тридцати семи театрах Российской Федерации… да вы, верно, помните мой фильм, по той же книжке?.. глаза девочек стали фиолетовыми, громадными, как новгородские блюдца (…на берегу у водной глади лежат в песке четыре блюдца!..).
3 Любопытно, психологически: мне они внимали с религиозным уважением: а на мальчика глядели тупо, как на заговорившее полено. Бьюсь об заклад, они не поняли ни единого слова из того, что мальчик им говорил: мальчик не отвечал их представлению о людях, которые ходят на премьеры, что-то значат и что-то умное имеют сказать. Мальчик мог бы… не знаю, глотать огонь, творить из воды вино и из горелой спички живую розу: и в лучшем случае заслужил бы тупой, очень неодобрительный взгляд. Имеющая место социальная группа, заранее, не глядя, назначила ему норму поведения. Все они, априорно, считали себя умнее, воспитаннее, приличнее, и все они лучше знали жизнь! То есть: они были старше на несколько прожитых глупо лет, были развязней в обращении, с гордым шиком носили галстук из Гостиного двора и костюм от лучшего портного с Пяти Углов и имели в мозгу три готовые истины (крокодил летае, но низэнько). И хотел бы я наконец догадаться: чтó такое знать жизнь? – Прим. С. В. – оцкого.
XXIII
…где я? …ночь, что ли, прошла? Горела настольная лампа. (Как утром, подумал я. Изумрудная женщина!..) Гости исчезли; и девочки с фиолетовыми глазами исчезли; и хозяин.
Горела настольная лампа. Низкое окно в чёрную ночь, дождь, было распахнуто. Угрюмый мальчик, в детдомовском сереньком свитерке, сидел на кривом подоконнике, глядел, с горькой печалью в складке губ, в ночь. И я, присев возле мальчика на венский скрипучий стул, горячо его в чём-то убеждал, и клялся ему, что я сам из детдома, и пришёл в Город в лаптях, из дремучей деревни; очень хотелось мне угодить неуживчивому, угрюмому мальчику!
…исполнить любой его каприз…
Мальчик потянулся: жёстко, коротко, с хрустом! точно стряхивая осеннюю дремоту, ночной мерзкий озноб; и сказал, раздумчиво и хрипло: я бы выпил чего-нибудь… и съел.
Кость от ветчины (бывшей) нагло валялась на столе среди мусора и черепков: синих, в белых горошинах (?); ничего не помню; выпить не осталось ни капли; ну, и пьют же гости. Который же теперь час?!.. и будильник, на полочке с книгами, указал: без четверти одиннадцать. Господи, засмеялся счастливо я; и осенний ночной озноб текучей дрожью пробежал у меня по спине, капризно требуя похмелиться; неужели всё еще длится всё тот же вечер? вечер вторника, двадцать первое октября? утренняя, легкомысленная насмешливость, удачливость, твёрдое веселье вновь, исподволь, овладевали мной; и ничего невозможного и невероятного не было для меня в вечернем, любимом моем Городе; жди!.. крикнул я мальчику, и… а в полутёмном коридоре, на соседском дореволюционном сундуке, под чёрным довоенным телефоном, где ветхие, красные, грязные обои были густо исписаны за тридцать лет именами и координатами всяких танечек, леночек, давно ставших старухами… дремал, роняя и тяжело поднимая голову, юный, с рыжей бородкой, хозяин; и я быстренько (спаточки пойдем, спатеньки…) отвёл его в комнату, уложил на измятую сидевшими здесь гостями постель, и, в пиджаке, выбежал весело на ночную набережную Фонтанки, в дождь…4 такси с огонёчком зелёным в тот же миг вынеслось из темноты и огней, к гостинице! к ресторану; и бегом поедем обратно; не обижу! садись; добавлять, понимающе кивнул шофер, усугублять, отвечал я, смеясь, арго той поры, вторник, думал я, нечётное, значит: Катя, Катенька, перевезёт меня дощатый катер, с таким родным на мачте огоньком, перевезёт меня к брюнетке Кате, с которой я, пожалуй что некстати, так много лет не больше чем знаком, стихи любишь, люблю, весело отвечал я, удачлив я был, легкомыслен, красив, очень нравилась мне официанточка, темноволосая Катя… и Фонтанка ночная проносилась, со вздохами мостов, и я нравился Катерине, смешливой и очаровательной, высокая гостиница, видная издали в излучине Фонтанки (и уехать бы мне в том такси домой, на Пять Углов; молить юную красавицу жену о прощении!..), уже загораживала полнеба, налитая ярким жёлтым светом, в шестьдесят девятом году гостиница считалась ещё новой, шикарной, и кабак её числился одним из лучших в Городе, у Катеньки была дочь лет четырёх, и я не торопился с Катей сближаться, подозревая матерей-одиночек в неразборчивом, злом желании добыть себе мужа, а замужних, прекрасных, горячо мечтающих о любви женщин кругом множество, швейцар в ресторане любил меня крепче родни, деньги меня не заботили, я из дому не выходил без семи, восьми сотен в бумажнике, громадные в ту пору деньги, ах, Катюша, смеялся я, целуя её в горячее ушко за кулисами ресторана, и золотая серёжка в ушке дрожала, вкусно царапая мои губы, уже притащили подружки шампанское, пробка хлопнула, пена полилась в фужеры, за Катю! нет, красотки мои, я на минуточку…
4 Ошибка, частая в различных Записках: по тону, окраске, характеру воспоминания герою хочется, чтобы в тот вечер шёл дождь, за этою мелочью встают как вечная неверность человеческой памяти, так и одна из глубокомысленных школ отечественной литературы, унаследованная частью от романтиков (решительно без понимания романтической эстетики): выражение мятущегося духа героя, а также пророчеств, предчувствий и проч. – через природу; т. е. гром гремит и молнии сверкают – когда ужасти накалены, ветер свищет и дождь льёт – когда худо и тревожно, солнышко блещет – когда радостно; допустимо, как вариант изящного психологизма, противопоставление… и т. д.; лично я всем психологическим школам предпочитаю календарь. Нужно заметить (и это подтверждается Архивом метеослужбы), что вечером серого дня 21 октября 1969 года в Городе не наблюдалось ни дождя, ни мрачного ветра со стороны залива, ни угрозы наводнения. Вне зависимости от несчастий, счастливости, восторгов или слёз каждого из четырёх миллионов его жителей вечерний Город был необычайно, отрешённо красив, в ожерельях фонарей; в тонком, прозрачном, искрящемся тумане. К исходу ночи, перед рассветом, ударил морозец; загорелись в чистом небе звёзды; и тонкий туман лёг на Город пушистым, осенним, праздничным инеем. Иней обнаружится в следующей, второй главе, где речь пойдет о КПЗ. Пока что мне приходится терпеливо ждать окончания затянувшейся первой главы, которая, в сущности, и не глава вовсе; а длинный и, смею надеяться, важный Пролог ко всей, изрядно подзапутанной, рукописи… – Прим. Мальч.
XXIV
Хозяин спал; сопел, за занавесочкой. Горела лампа на кривоногом письменном столе; мальчик листал внимательно книги по математике (хозяин, кажется, учился… и вообще, я видел его второй раз в жизни); и мальчик посмотрел на меня задумчиво и скучно: будто ему каждую полночь привозили (запыхавшись и торжествуя!) из лучших ресторанов лучший ужин.
…и расставляли услужливо перед ним, на тяжёлых тарелках с золочёной каймой: горячих и истекающих томящимся соком, зажаренных под прессом цыплят, икру, заливную нежную рыбу, холодное мясо, салаты, зелень, вино, мягкий хлеб и коньяк (мальчик, в коротких штанишках, обруч гонял, когда этот виноград наливался солнцем…).
Чисто, спокойно и будто бы привычно мой нежный мальчик выпил два стакана коньяку. Подумал, налил ещё треть стакана и выпил. Чуть поморщившись (…вот так же покривил он губы у висячего мостика в августе, через семь лет, при первом выстреле в небо, от толчка рукоятки в ладонь!). И принялся за еду.
Он был очень голоден. Но ел он неторопливо, сосредоточенно. Воздавая должное хрустящей корочке, вину, зелёной травке, коньяку. Вкусно ел. И при этом глубокая задумчивость не покидала его. Кости хрустели в тишине на волчоночьих его зубах (…не пей, жёстко, не поднимая угрюмых глаз, попросил мальчик; ты нужен мне трезвый).
Всё доев, мальчик выпил ещё. Кинул лениво на стол салфетку. Даже с виду он потяжелел, и как будто стал шире.
Нет, лениво он отказался от дорогой моей сигареты с золотой короной. Вынул из курточки испачканную пачку беломора. Прикусил папиросу: привычно, с неким раздражением в движении губ. Задумчив он пребывает часто, подумал я. И раздражителен часто. И курит – очень давно. Он прикурил от длинного пламени моей зажигалки (мода на длинное пламя: Трентиньян, фильм Мужчина и Женщина). Кивком поблагодарил.
Курил мальчик, глядя на меня сквозь дым: лениво, изучающе. Где-то я тебя видел, сказал я, Возможно, кивнул он; лет восемь назад, на Ждановке. Я засмеялся. Лет восемь назад он в первый класс ходил. Ходил, кивнул мальчик. Задумчиво он что-то вспомнил. Прищурясь от дыма, лениво вытащил из кармана дрянных брючек:
…внушительную пачку денег…
(Черт!..); отделил, не глядя: зелёненькую, в пятьдесят рублей. И положил, пристукнув жёсткими пальцами, на ресторанную салфетку. За ужин.
Горько я расстроился. Хотел удивить, порадовать, и вышло обидно. Будто я лакей его! Мальчик смотрел внимательно, холодно, как разглядывают муравья.
…и чтобы скорей покончить с этим, я, нервничая, скрутил зелёненькую бумажку, сунул в кармашек жилетки. Мальчик погасил папиросу: пора мне. Должок за мной (я, признаться, не очень понял его. И я всё ещё мог не ходить за ним!).
…и всё-таки я увязался! Провожу, во дворе покурим; душно здесь. Иди, равнодушно пожал плечом мальчик. Чёрной лестницей, с узкими железными поручнями, спускаясь (мальчик молчал, о чем-то глубоко задумавшись) в ночной, чёрный двор, я говорил без умолку, в надежде мальчика заинтересовать; вновь хвалился удачливой жизнью, литературой; и тут же и прилгнул… Что таить: я невероятно хотел понравиться ему!
Глава вторая
I
…И очнулся: затравленный, ошеломлённый, в страшном сердцебиении, испугавшись великого ужаса и отчаяния, защемивших мне сердце… очнулся в загадочном помещении с жёлтыми, грязными и неровными стенами. Помещение освещаемо было тусклой лампочкой в сетке; и показалось мне ненастоящим. Жуткий страх, от которого сжималось и прыгало моё сердце, заслонял и затуманивал всё. Мне было очень плохо.
Попробовав приподняться, я увидел, что даётся мне это с трудом. Всё же я приподнялся, и сел. Безобразные грязные люди лежали возле меня на тёмных крашеных досках. В нише под лампочкой обнаружилась дверь: железная, тёмная и глухая. Я, поднявшись с трудом, побрёл к двери, опираясь о неровную, очень холодную стену. Железная дверь, прочно запертая, не имела ни ручки, ни замка. Я бессильно и вяло, а потом всё отчаянней, торопимый моим тёмным ужасом, застучал кулаком в железо холодное двери. Откликнулось эхо. Безобразные люди пошевелились.
– Ты!.. – сказал очень злобный, ненавидящий меня голос.
Хрипло:
– Кой ему мусор нужен?
– Дай ему по глазам…
– Ляжь! падла… – крикнул с ненавистью голос.
И я почему-то покорно, обессиленный болью отчаяния, рухнул на крашенный тёмной краской помост: не сознавая ещё ничего, кроме чёрного и громадного моего ужаса и отчаяния.
И в чёрное это отчаяние я провалился…
Когда я очнулся вторично, уже от лютого холода, в загадочном низком помещении, освещаемом тусклой лампочкой в сетке, я лежал один на тёмном нечистом помосте. Помост глухо врезан был в жёлтые, нечистые стены. В четвёртой стене, в которой мы ночью лежали ногами, продолблена была ниша и втиснута глухо железная дверь. В двери был глазок. Над дверью горела лампочка. Вдоль этой стены, меж помостом и дверью, был провал, небольшое пространство цементного пола, шага три в длину и шаг поперёк. Лютый, невыносимый холод, холод ледника, погреба шёл от каменных стен. Почему-то подумалось мне, что уже утро. Холодный несвежий воздух держал духоту ночевавших здесь неприятных людей. Всё тот же, мутный и жёлтый свет распространяла лампочка. Лёжа ничком и дрожа, я пытался согреть тяжёлое, бесчувственное лицо в ладонях, и дрожал так, что кости мои стучали о доски.
Дверь залязгала, залязгала, и тяжело распахнулась.
В тёмном её проёме стоял, упираясь в нечистый пол толстыми, крепко, ногами, грязный, крайне широкий: в сапогах и мундире, с мятыми и затёршимися погонами.
– Выходи, – предложил нелюбезно он.
– …Куда?
– На отправку.
Я попробовал, без большого желания, встать, и нога моя, как перебитая, вихнула по цементному тёмному полу вбок: колено, распухшее, взвыло звёздной, неведомой болью, так что пот неуместно потёк у меня по лицу…
– Но! придуривать… Руки зá спину!
И мы двинулись по цементному полутёмному коридору: я, едва ковыляя, тяжело припадая на левую и с руками, неумело скрещёнными на пояснице, и он, неторопливо и грузно, привычно, позванивая и скрипя, на два шага сзади. Синеватый утренний свет сквозил робко в конце полутёмного коридора. Приблизившись к этому робкому, синеватому свету, я увидел порог, и за ним, в этом призрачном свете, дрянной закуток, грязный кафель и лужи, кран в облезлой и мокрой стене над округлой поржавленной раковиной и в цементном полу устройство: как на вокзале.
Мой вожатый меня смущал назойливой внимательностью; но безразличность внимательности дала мне понять, что дверей в туалетной комнате нет затем, чтобы он за мной присмотрел. С наслаждением, чуть ли не со стоном облегчаясь, я узнал, что желал помочиться – ужасно, и именно это желание вместе с холодом и внутреннею тревогой возвестили мне утро.
Затем я попробовал умыться под струёй ледяной воды над чёрной от ржавчины раковиной и едва не завыл: от боли, и от слабости, набежавшей вслед сразу за болью… осторожно касаясь лица холодными, мокрыми и словно чужими пальцами, я определил, что лицо моё безобразно разбито… осторожно и трепетно промывая ледяной и ломящей водой мои раны, вздрагивая всем телом от каждой, вновь обнаруженной боли, внутренне подвывая, я отдирал кровавую корку, смывал свежую кровь, слабея – и очень боясь, что закружится окончательно голова и я упаду. В лице, в костях его, дергалась боль. Колено и рёбра, под вздохом и в пояснице: всё болело и выло. Господи… кто же это меня так?.. в носу, переломанном и распухшем, и глотке всё было забито чем-то мерзким и густым, отчего неприятно и трудно было дышать; я стал вымывать это мерзкое и густое и увидел, что это засохшая кровь…
Меня долго, мучительно рвало; обессилев вконец, я поднимался с корточек, глотал жадно холодную воду, и меня рвало снова: чернью, мерзостью и болотной какой-то зеленью и желчью; изнемогая, я думал, что здесь и умру… наконец я почувствовал, что я пуст и бессилен. Упав грудью на раковину, я подставил разбитую и болящую голову под широкую ледяную струю, – с облегчением, вялым, чувствуя, как вода, освежая, течёт по загривку, по груди и спине. Мне захотелось вот так и уснуть: под струёй, лёжа грудью на ржавой раковине. Затем я плескал себе воду горстями на грудь; с мокрых волос текли струйки; пиджака на мне не было почему-то; и жилетка была вся в засохшей и чёрной крови, отчего меня вновь замутило. В крови, заскорузлые, были манжеты рубашки. Жилетку я снял с омерзением и, свернув, запихнул её и проволочную урну в углу…
– Пробросаешься, – буркнул вожатый мой.
…рукава мятой, грязной, промокшей насквозь рубашки оторвал по локоть и отправил туда же; и почувствовал себя легче.
Под потолком туалетной комнаты было крошечное, в два креста решётки, без стёкол, окно. В него втекал робкий, утренний и синеватый, осенний свет, втекали холод и свежесть; низ окошечка приходился вровень с асфальтом незнакомого мне и почти не видного каменного двора. На камне, на прутьях решётки в синеватом неясном свете лежал свежий иней. От холода, инея, свежего утра меня, мокрого с головы до ног, вдруг прохватила, заколотила дрожь.
– Выходи. Руки за спину!..
И человек в сапогах, мундире, с ключами, привел меня, мокрого, мерзкой дрожью дрожащего, по полутёмному цементному коридору в уже известное мне помещение, низкое и ледяное, с тусклой жёлтой лампочкой в сетке.
– …Гд-де я?
– В КПЗ.
– Зачем? – я не понял его, дрожа.
– Кх-х!.. – сказал он. Он был неразговорчив.
Но лицо моё, видимо, изменилось…
– Низачем: дак на волю, – рассудительно молвил он. – А зачем: дак в Кресты.
Дверь захлопнулась. Лязг!..
II
Если вымолвить честно, я не хотел на волю. Воля была непонятна мне…
Я хотел домой.
Дрожа, я с отчаянием обозрел помещение, которое было: камера. И присел, дрожа, мокрый, зажав кулаки меж колен, – и помост, крепко сбитый и крашенный тёмной краской, был: нары. Ужас объял!.. Заточили. И я совершил что-то очень ужасное. Сердце прыгало. Внутри у меня дрожало.
«Пять лет лагерей!» – начертано было карандашом на сте не. «Три года в Перми», «Небо в клеточку», «Манька сука» и «Мусор!». Пять лет подавили меня. Их привозят с суда, и они карандашиком. Разве суд говорит, куда увезут. Нет; отсюда на суд не… Конвойный сказал: в Кресты. «Кресты» называлась тюрьма; глухой тёмный кирпич… Что же я натворить мог? Господи. Кто меня так?.. Мысли прыгали. Дрожа, я постигнуть не мог, что сильнее всех обрушившихся на несчастную мою голову мук не побои, а тяжкая мука похмелья.
«…лет лагерей», «…Перми», «…сука» разноцветно крутилось перед глазами. Мне хотелось, чтоб в низкой и мутной камере обнаружилась пусть хоть крохотная отдушина. Пусть за решёткой, но с воздухом, небом, инеем! Отдушины не было: имелась лишь пластина в углу, железная, с дырочками: вентиляция. Глазок в двери.
Лагеря. Зимний мрак и колючая проволока. Метель. Фонари, их качание на ночном ветру. Лай собак… долгий срок, много зим… я дрожал, замерзая, измученный и изводимый тревогой. В чём-то жутком я был повинен; похмелье выкручивало меня.
Тюрьма.
Выгоды бесчисленные свободы прихотливо и слабо увязались как-то в моём сознании с Пермью и неизвестной мне Манькой, и погасли. Воли в вещественном её воплощении я не усваивал. Мне хотелось лишь умереть.
Прижимаясь к нечистым нарам, тщетно надеясь найти в них хоть крошку тепла, я думал: вот закрою глаза, чтоб темно, и вздохну глубоко, и умру. Трусливо вздохнув, неожиданно я закашлялся: всей глоткой, промытой и вычищенной, я почувствовал, вдохнул наконец пропитавший меня и живущий здесь вечно запах тюрьмы: дезинфекции, ржавчины и ободранных стен, мочи, нужника, духоты от грязных людей и чего-то еще специфического, тюремного. И проникшись, как запахом, мучительной тоской бесконечных лет вони, решёток, конвоев, я по-волчьи готов был завыть: воли!.. хочу воли!..
Воля дышала утренним холодом за решёткою в грязном нужнике, лилась нежным утренним светом. В груди у меня защемило тяжёлой болью: так хотелось мне воли. Не зависеть, не подчиняться, стать как легкий, холодный, опушенный инеем ветер, текучим, как утренняя синева, и в любое мгновение уметь ускользнуть и уйти насмешливо – над решетками, лязгом, электрическим светом, над соборами, тёмными крышами, парками, горьким дымом и огоньками костров, я хочу быть как синее лёгкое утро.
Вот что такое воля.
От горечи я уснул.
И во сне мне виделась воля.
…Утро светлое и росистое над лугами и вольной, лежащей спокойно рекой, утро в тонком, прохладном начале лета. Зелень мокро, туманно темна, уже рассвело, но солнце ещё не взошло и стоит во всем мире великая тишь. И листья, и воздух сырой, и намокшие тёмные травы не шелохнутся. Луга выпукло и полого уходят вниз меж высоких темных кустов в прозрачную дымку и разводы тумана, что поднимаются, движутся неуловимо над светлой водой. И в высокой, намокшей росою траве: я, восторженный, тёплый спросонок, лет пяти иль шести, я спешу вниз к реке, босиком, в драных трусиках и в промокшей уже понизу и великой мне, до земли, рубахе с мужского плеча. Дивный, необозримый в утренней дымке простор лежит передо мной, я, не помню зачем, тороплюсь вниз к реке, погружённой в полусонную дымку, к её свежей, заманчиво чистой, очень тёмной вблизи воде, и, конечно, задерживаюсь, чтобы со всей осторожностью тронуть каплю росы, зацепившуюся в волосиках узкого, тёмно-зелёного травяного листа, коснуться её осторожно, зацепить, холодную и сверкающую, и глядеть, как, прозрачно сверкая, она рассыплется на множество мелких шариков и стечёт тихой струйкой по тёмно-зелёному стеблю…
Двери. Камень! И лампочка в сетке.
Лязг!..
– Выходи. Руки зá спину.
III
Врач заметил мне нынче после утреннего обхода, что если я не перестану нервничать и волноваться, то он отберёт тетради и запретит мне писать: мы вас лечим, стараемся уберечь, а вы все усилия наши зачёркиваете, что-то мрачное и тревожное пишете вы, вы пишите заманчиво лёгкое, сказал он, улыбнувшись, и печататься легче, и все будут читать и хвалить, и к тому же, заметил он, то, что для сочинителя и тревожно и горько, для читателя часто: фью, чушь собачья (верно, верно, с тоскою подумал я, я пишу чушь собачью), я печатать записки мои не намерен, возразил хмуро я, и надеюсь, никто не прочтёт их, а вот это уже не существенно, мне заметил насмешливо он, ведь вы пишете, стало быть, в отношениях ваших с жизнью поднимаетесь на неизвестный и качественно необычный уровень, начинаете мыслить не реалиями, не явлениями, а текстом, вещью темной и слабо изученной нами, разумеется, ежели вы сочинитель, не бездарность и не графоман (я бездарность, подумал я горько), разумею под словом текст нечто, что отличается от заявления в жилконтору по поводу протекающей крыши, я не стал бы об этом вам говорить, но я помню прекрасно вашу раннюю книжку (вот-те клюква, огорчённо подумал я, меньше всего мне хотелось видеть читателя моей ранней, как выразился мой врач, вышедшей лет семнадцать назад и единственной моей книжки) и хочу вам сказать (мне не хочется ничего услышать!..), что книжка ваша удивительна прежде всего чистотой, чистотой и здоровьем, и потом уж талантливостью (вот-те раз, огорчился я), граф Лев Николаевич был совершенно неправ, утверждая, что все счастливые семьи схожи, а несчастливы все несчастливые семьи по-своему, это неверно, несчастие, так называемое, есть предмет медицины, и несчастливы все одинаково, по единой для всех и известной схеме, склоки, алкоголизм, побои, неудавшиеся любови, мотовство, ложь, измены, хищения, лицемерие, злоба, слёзы, гордо нести свой крест, всё известно, единая, повторяю вам, схема, что же касается счастья, то оно вне нашего знания, к сожалению моему, невзирая на кипы разноцветных брошюр, помню, был я проездом в Хабаровске и увидел на тамошнем клубе, доме, помнится, офицеров, афишу, извещающую о лекции с лаконичным, чудесным названием: Цель и смысл жизни, читает подполковник такой-то, продолжительность лекции сорок минут, вход за тридцать копеек, до сих пор, поверите ли, жалею, что не пошёл, ведь всего за сорок минут и за тридцать копеек; я отвлекся, и вот я к чему, полагаю, что счастье непонятным мне образом есть синоним таланта (я несчастлив, подумал я грустно), здоровья, почему все плохие писатели схожи друг с другом, все плохие писатели очень несчастливы, независимо от дырявых их башмаков или дач и дублёнок и золота в сейфах, несчастливы нездоровьем, они неизлечимо больны, существуют, должен заметить, и другие воззрения, например: считают, что художник есть исключение, что художник являет собою несчастный случай, считают, что здоровье в творчестве: когда пишут про ясных и крепкоголовых людей, ну а если напишут вдруг неурядицы, горести и душевные сдвиги, то это уже нездоровье, не знаю, читали ли вы, лет полсотни назад в наших литературных журналах писали о Фолкнере, что его Шум и Ярость представляет собою гниение (не читал, машинально отметил я): о великой, и крепкой, как морозный осенний день, книге! я физически не выношу нездоровья, извольте, я объяснюсь: когда утром я иду на работу и вижу на заборе плакат, где розоволикий строитель с квадратной челюстью и ямами вместо глаз одною рукой в рукавице кого-то приветствует, а другой что-то строит, я ощущаю ярость, ведь человек, сотворивший это, тягостно нездоров, вы поверьте, у него поражены очень важные сосуды головного мозга, и я ярюсь, оттого, что он хочет, чтобы эти сосуды были поражены у меня, я физически чувствую, как они закупориваются при взгляде на этого сварщика, господи, есть Моор, есть Леже, есть Карлю, рисовавший гаечный ключ, да, гаечный ключ в кулаке, но рисовавший так, что гаечный ключ запомнится мне на всю жизнь, он приятен мне, он человечен, он побуждает трудиться! сотворитель же сварщика, с розовым деревянным лицом и ямами вместо глаз, – злобный, уверенный хищник, за возню свою с этим плакатом в течение дня или двух он получит примерно столько, сколько наш главврач зарабатывает в полгода; и он мечтает, этот изобразитель, чесательльна, чтобы у всех закупорились те же сосуды, что и у него, тогда жить ему будет удобней и комфортабельней, людей умных, талантливых он с наслаждением обвинит во враждебности, заговоре; обвинить во враждебности и в заговоре легко, и люди талантливые уступали соблазну; когда Миллер в своих Ежемесячных Сочинениях Сумарокова напечатал, а Тредиаковского нет, то Василий Кириллович, академик, написал простодушно в Синод, дескать, Миллер и Сумароков в журнале посягают на православие: до того привычно, что скучно; но наш плакатист приносит ещё один вред, он портит мне настроение. Людям нельзя портить настроение, когда они идут на работу. Мне нельзя портить настроение. Я врач. У меня тридцать восемь больных (я бездарен, подумал я, да… я нездоров, я несчастлив), хвала богу, есть Крюков канал, вдоль которого утром иду я в больницу, есть колокольня Николы Морского над каналом, догадал бог Савву Чевáкинского слепить игрушку (ах, слепил бог игрушку, подумал я, – женские глаза…), гляжу на неё по утрам, отчуждаюсь; добрею. Вероятно, талант есть здоровье нравственное, но талант иссякает, и нечем его подменить, не подменишь его умозрительностью, усилием, честностью, желанием искренним постичь истину, возвестить её, указать; вот и Лев Николаевич: грустно… но, поверьте, отчётливо видно, что Войну и Мир писал крепкий, нерушимейшего здоровья человек, и уже Воскресение сочинял утомлённый, измученный неверием, старавшийся убедить нас, а не себя… вы помните, у моего врача засветились весёлостью глаза, как солдаты походной колонной, песенники, накануне Шёнграбена: песенники, вперед! – ах, какие чудесные три страницы! и мой врач вдруг тихонько пропел: выпускала соколá да из право́ва рукава… гениальный писатель!.. но Фёдор Михайлович, тот, пожалуй, здоровьем сильнее, да, кивнул задумчиво я (вспомнил: ночь дождливая, поздняя осень, окно на канал Грибоедова, струйки дождя по стеклу, и Насмешница о Достоевском, смеясь надо мной), необоримого здоровья писатель, мечтательно сказал врач, и к старости становился всё крепче, мощнее, пронзительней, перечитываю Дневник, сколько свежести, остроты, или последние главы Братьев, десятая книга, Мальчики, мечтательность и любовь в глазах моего врача, глядевшего вдаль в окно, где в осенней печальной дымке плыла лёгкая колокольня Чевакинского, странно переливались, это ведь самое светлое, прозрачное, что он написал, ну да что там. Есть физическое томление красотой, чисто любовное, исключительно, вокруг этого бродят и млеют, одни не усматривая очевидного, другие не рискуя сказать, хоть говорено было не раз, и век назад, и того много раньше, красота и эмоциональность и сила духа жёстко связаны, понимаю, что вскользь говорить об этом несерьёзно, но касаясь только здоровья, – всё искусство заверчено на древнем могучем винте, вся природа эстетического волнения: притягательность, удовольствие, наслаждение, боль и страх этой боли, страдание, умирание, очищение, – и познание через чувственность: наслаждение, боль и страх, очищение болью, вот вам вся поэзия, и драма, и литература: в схеме; форма в искусстве есть содержание (…Мальчик! Мальчик! – подумалось мне, это он мне говорил!), движут формой могучие древние силы, силы рода, вот почему, по личному моему убеждению, в искусстве нечасты женщины, их начало чаще пассивно, выжидательно, их начало приемлюще, а не дающе, но уж если они творят, то вершиной – Сапфо, изощрённая чувственность; а бесполость, бессилие так бессилием и остается; стиль ваш, форма суть мировоззрение, лишь условие существования, и не только ваше условие, но и условие для читателя; если нет у вас этой силы, то вы не существуете, сочиняете дурно романы, которые суть многотомные характеристики от месткома, розоволикий сварщик на тысячах городских заборов; и с другой стороны творческого нездоровья – анемичность (я бессилен, подумал я, я бездарен, я скоро умру), плаксивость, выдаваемая за размышления, всё знакомо, давнишнее, столетней всё давности, читайте Чехова, но и чеховскую ироничность прочитывают теперь так, будто писано было всерьёз; томление сонное по утопиям, при неспособности полной не то чтобы забить в стену гвоздь, но чихнуть вкусно; вид пропасти, как говорит мой брат, вызывает у них мысль о конечности пути, а не о мосте, ну а вид человека, строящего этот мост, будит в них естественное раздражение: не внимает всей прелести вздохов о жизни (про меня это он, про меня, думал с горьким отчаянием я, это я вздыхаю о жизни), я скоро умру, сообщил я ему как некую новость. Умрёте, согласился он буднично. Если не перестанете сочинять ваши записки. Я вынужденно улыбнулся. Погибая от жажды, сказал я, я выпил чашу с водою из Леты… научил меня этим словам один мальчик, давно, в чудесном старинном доме на Грибоедовом канале, вам бы, доктор, познакомиться с этим Мальчиком, вы бы пришлись друг другу, жаль, он, кажется, умер. Мой врач терпеливо и с мягкой улыбкой смотрел на меня, он, казалось, был старше, много опытней и, наверное, много умней меня и интересней, мне хотелось бы взглянуть на его любовниц, взгляд на женщину может многое сказать о мужчине, которого она привлекает, мимолетный, случайный наш разговор у окна в коридоре происходил нынче утром, и в течение дня я заметил, что мне стало легче, во всяком случае, я иначе стал относиться к моему молодому врачу, перестал ревновать и прислушиваться к его смеху с сёстрами в коридоре, беседам его с другими больными, ощутил даже некоторую приподнятость, гордость от общения с ним; да, дела мои, видно, плохи. Кто ваш брат, спросил я, вы говорили что-то о вашем брате, приятно он засмеялся, и я понял, что он очень любит брата, наверное, младшего, горемычный писатель мой братец, на семь лет старше меня, он занятный писатель, фамильная гордость, понимаете ли, или фамильная скромность не позволяют мне говорить о нём в превосходных тонах, но он интересный писатель, весьма, как фамилия вашего брата, спросил я, боясь быть назойливым, я знаю многих писателей в городе, ну-у, его вы не знаете, он ещё ничего не напечатал, и врач легко назвал мне фамилию… рассказ Повесть! – сказал я, Ленинградская Правда. Лето; семьдесят шестой год; на четвёртой странице; внизу слева. Лето семьдесят шестого года, последние дни июня… вы отчётливо злой читатель, засмеялся мой врач, я, например, даже года не помню, ещё бы не помнить мне, подумал я, тот летний день, ведь в тот день я в последний раз перед тем видел Мальчика, да, сказал врач, до сих пор это единственный напечатанный им рассказ, у него готовы три книги, лежат, ждут часа в издательствах… однако! Мы с вами зацепились тут друг за друга и треплемся уже тридцать минут; дело ждёт; вы пишите свои записки, если вам они как отдушина, но старайтесь быть веселей; и старайтесь быть внимательней; чаще посматривайте на Николу Морского; поможет; и мой врач улыбнулся серьёзно и пошёл торопливо вдаль по громадному каменному коридору старинной больницы: в шапочке и не очень чистом халате, летних брючках, тапочках, деловитый; смешной. Не очень усвоив многое в его непривычных мне, излишне убеждённых словах и тронутый добротою его ко мне, я хотел уверить его, что нервничать буду меньше и напишу… и задумался: а что, собственно, я напишу? Что напишется, то напишу. Жизнь ничтожна моя; отчего же тогда так мне горько, что я умру? Гм! Всё, что было: редакции, деньги, постели, мои и чужие, кружева чужие, рассветы в чужих домах, казённая мебель в учреждениях, ненужные мне совещания с ненужными мне людьми, сигаретный дым, неразличимо схожие попойки, пишущая машинка, ночи, измучивший меня роман, больничные каменные своды… неволя. Почему же почти за сорок лет я ни единого дня не был так волен, как в то утро, росистое, в тумане, над Волгой, пятилетний, босой и в рубашке отца, убитого, сгинувшего под Смоленском… почему?