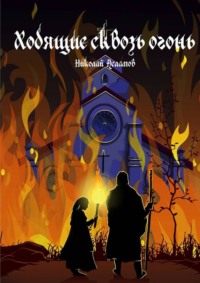Полная версия
Шаг вперёд, два назад
– В Ломбардию что ли?
– Нет, в Лотарингию идут! Тамошнего короля воевать!
– Там разве не герцог?
– Да какая разница? Все равно из нашей мошны уплачено!
– Орехов надо кому?
– Мне отсыпь.
Вдоль дороги колыхалась целая река из людских затылков. Покрытые и непокрытые, в платках и в шляпах, лысеющие и кудрявые, с длинными волосами и с короткими – все сбежались к дороге, и теперь качались из стороны в сторону, поднимались на цыпочки и опадали вниз, пытаясь высмотреть что-то особенное, но в основном только загораживали друг другу обзор и снова начинали колыхаться.
На взгляд мальчика, ничего интересного на дороге не было. Какие-то пушки везут, вон лошади как напрягаются! Рядом люди верхом едут – пушкари, наверное. Одежда у них не очень. Вот раз мимо герцог проезжал, у него люди – это да! В черно-желтых ливреях, с красивым оружием. А эти чего? Какие-то топоры, молотки… Такого добра и в деревне полно.
Вальтер сидел хорошо, и поэтому все-все-всешеньки видел. Вон Лукас к дереву бежит, ну и дурак! Дерево от дороги далеко – ничего оттуда не углядит. А вон Якоб карабкается на крышу сарая. Ох, лишь бы его пивовар не увидел! Это его сарай, и Вальтер сам слышал, как пивовар обещал вставить оглоблю в дыру тому, кто в тот сарай полезет. В какую именно дыру вставит, Вальтер не знал, у Якоба вся крыша в дырах после зимы. Но как же они жить-то будут с оглоблей, которая прямо внутри дома торчит?
– Мам, тебе не тяжело? – спросил мальчик, наклоняясь вниз.
– Да сиди уже! – резко ответила мать, подбросившая его чуть повыше. – Всю жизнь на моей шее!
Смотреть было нечего, поэтому Вальтер снова прислушался к разноголосому гомону.
– Они за императора воюют?
– За герцога нашего!
– Да им все равно!
– Точно! Всегда сами за себя! Лишь бы им платили!
– Мам, а хочешь, я тебе рассказывать буду? – вновь спросил мальчик.
– Я вижу, не беспокойся! – пропыхтела снизу мать. – Ты, главное, сам смотри!
На что смотреть, мама не уточнила, но мальчик послушно разглядывал телеги, накрытые холстиной, и людей, ехавших на козлах. На его, Вальтера, взгляд, ничего примечательного ни в телегах, ни в людях не было. Где-то далеко пели песню:
Наш кайзер Карл тут узналЧто армию француз собрал,Чтоб замки стойкие пленитьИ Верхнюю БургундиюЧтобы дотла спалить.Он известил о том господ,Из Оберланда в тот походПришла большая сила:Ландскнехты тоже были там,Их всех война взрастила.– О! Слышите? – завопил кто-то гнусавым голосом. – Маршируют герои! Защитники империи! Да здравствует император Карл! Да здравствуют храбрые кнехты!
– Бездельники, трепачи и воры! – ответил ему деревенский кузнец. – Девок бесчестить, вино пить да песни орать – вот и вся их доблесть!
– Мам, а кто это? – спросил Вальтер, снова свешиваясь вниз.
– Да не ерзай ты! – вспылила мать. – Сейчас сам все увидишь.
Десятки мужских глоток продолжали нестройное, но очень задорное пение, расслышать которое становилось все легче:
Итак, переместились всеПод город, что звался Мезьер.Его мы обстреляли —Взлетел на воздух больверк весь —Ух, как там осерчали!Дома от выстрелов горели,И камни вниз со стен летели,Ворота мы разбили —«Немало рухнуло дверей»,Как многие шутили.По дороге теперь шагали мальчишки. Кто-то его, Вальтера, возраста, а большинство постарше. Одни волочили длиннющие пики, другие гордо несли на головах шлемы, которые им были слишком велики, третьи держали на плече мечи. Двое несли алебарду наперевес: один – за тупой конец, второй – у самого лезвия, за окованную часть древка.
Вальтер никогда оружие в руках не держал и тоже захотел с ними. Наверное, для этого надо еще немного подрасти.
– А чего это они детей вооружили? – спросила мать Якоба.
– Да не, – ответил кузнец, – это их, кнехтская, бишь, сброя. Только в походе сами не таскают – им-де зазорно себя до битвы утруждать! И шанцы не роют, все баб своих заставляют.
– Зато как в бою стоят, молодчики! – разорялся гнусавый. – Из аркебуз пальнут, потом пиками ощетинятся, и в атаку. Строем ходят в ногу, слитно, как один человек! Никому спуску не дадут!
– А швейцарцы?
– Не, наши посильнее будут, – ответил трактирщик. – Всех бивали: и французов, и гишпанцев, и ломбардцев, и швейцарцев тоже. Даже Папу Римского к ногтю прижали14.
– Аааапчхи!
Вальтер замотал головой и звонко чихнул.
Мать, вытягивая шею, вглядывалась в клубы пыли, будто высмотреть хотела кого-то. Мальчик тоже смотрел, но видел только силуэты телег в клубах пыли…
Наш раздосадован отряд —Последний выпущен снаряд.Они нам предложилиСвои снаряды. В день восьмойИх удаль испарилась.Господь удачу дал и статьИх стены напрочь расстрелять —Заряды нам прислали.Пятьдесят три выстрела по ним —И руки все подняли15.Они вышли из густой пелены, как сказочные витязи из пещеры дракона, и выглядели такими огромными и такими сильными, что казалось, встреть они на своем пути черта, схватили бы его за козлиную бороду и отправили пинком в ад.
Вальтер смотрел во все глаза, стараясь запомнить каждую деталь: ладонь, то и дело хлопавшую по мощным бедрам, черную повязку на левом глазу, сотрясавшиеся от смеха густые бороды, у кого-то лохматые, нестриженые, у кого-то, наоборот, расчесанные и завитые.
А одежда… Таких костюмов Вальтер не видел никогда. Слуги герцога в своих ливреях казались теперь просто оборванцами.
У первого вся одежда была изрезана. На груди, на боках, на спине, даже на гульфике – везде были прямые ровные разрезы, из-под которых проглядывала кроваво-красная подкладка. Человек казался изрубленным с головы до ног, только он не истекал кровью, а радостно гоготал. Пышные буфы на плечах были разных цветов – синий слева, желтый справа. Непомерно раздутые штаны тоже различались, только желтая штанина здесь была слева, а синяя справа. На голове у человека была плоская широкополая шляпа с тремя пушистыми, закрученными из-за чрезмерной длины перьями розового цвета, которые колыхались при каждом повороте головы.
Другой был весь в бантах. По зеленой одежде ровными струями водопада сбегали каскады бантиков, бантов и бантищ, постепенно менявших цвет от светло-розового до темно-пурпурного. Такими же бантами был украшен и непомерных размеров гульфик. На голове у человека красовался плюмаж из пышных белых перьев, свисавших в разные стороны.
Третий носил чулки и короткие черные штаны в обтяжку, зато рукава были широченные, Вальтер мог бы залезть в один такой целиком, и состояли они из нескольких ярусов черных ленточек, хитро сшитых друг с другом и поблескивавших так, словно они были мокрыми. Что это за ткань, Вальтер не знал, но вместе с ярко-желтой курткой и большим черным беретом из той же блестящей ткани, надвинутым на одно ухо, смотрелось очень красиво.
Четвертый…
– Мам, ты чего? – спросил Вальтер, почувствовав, как вздрогнула мать.
– Нет-нет, сынок! Смотри!
И Вальтер смотрел. В глазах рябило от мельтешения красок диковинной одежды, блеска золотых и серебряных цепей, ярких бликов, разлетавшихся от перстней и начищенных пряжек, но мальчик боялся моргнуть – вдруг диковинные люди исчезнут!
– Ишь, вырядились, как петухи! – возмутилась какая-то женщина. – Распорядок им не писан!16
– Им никакой порядок не писан, – буркнул кузнец. – Нет на них управы.
– Цвет империи! Молодцы! Красавцы! – восторженно вопил гнусавый.
Но вели себя эти люди совсем не красиво. Они стояли, сидели и лежали в телегах, распределившись, как попало, и по очереди прикладывались к большим глиняным бутылям. В одну из телег вместо лошадей они запрягли женщин и теперь подбадривали их щелканьем кнута, свистом и улюлюканьем. В другой телеге два человека, хохоча, крепко держали третьего, чтобы четвертый мог вливать ему в глотку какое-то питье из бочонка. Рядом с ними, покачиваясь, сидел еще один и тупо смотрел куда-то вперед. В какой-то момент этот человек не выдержал и, переломившись через край телеги, изверг под ноги отшатнувшейся и вопящей толпе содержимое своего живота, вытер рот красивым рукавом и поехал дальше, наполовину свесившись с борта.
– Мам, а кто эти люди? – спросил мальчик.
– Ландскнехты, Вальтер.
– А они хорошие или плохие?
– И то и другое, – ответила мать, глубоко вздохнув. – И то и другое.
Лагерь издавал вполне обычные запахи и звуки. Воняло гнильем, испражнениями и блевотиной. Трещали костры, изрядно охрипшие глотки нестройно тянули очередную солдатскую погань, перечислявшую прелести девушки, ожидавшей возвращения солдата:
– У моей миле-е-е-енки сиськи до пупа-а-а-а…
Мерзкое хихиканье и кокетливые фразочки обозных проституток сопровождали завывания, которые язык не поворачивался назвать пением. По мнению Вальтера, если тебя дома ждет такое страшилище, лучше вообще не возвращаться.
– У моей миле-е-е-енки только один глаз…
– Нам сюда.
Йост уверенно потянул Вальтера влево.
– Почему именно сюда? – недоверчиво переспросил он, не желая вновь знакомиться с корытом для свиней.
– Слышишь?
Где-то совсем рядом раздавался негромкий раскатистый стук.
– Да, – кивнул Вальтер, – в кости играют. А то, что во время броска не галдят, означает, что игроки еще трезвые.
– Ох, дружище, вечно ты все усложняешь! – недовольно затянул шут. – У них просто двери нет. В случае чего сбежим.
Вальтер только собрался было указать на очевидную проблему, которая несколько затруднит его попытки бежать «в случае чего», как шут уже потянул его вперед, заставляя пригнуть голову. Дохнуло, как из преисподней. В доме было слишком сильно натоплено, и люди внутри, должно быть, сильно вспотели. Музыканта обдало смрадом от гнилого лука и кислого пива, но главенствовал над всем запах давно не мытых человеческих тел с явными нотками трупного разложения.
Кости опять стукнули по дереву, и помещение взорвалось хлопками, восторженными воплями, стонами, звоном сгребаемых монет и богохульствами.
– Все, я отваливаюсь, – устало произнес низким голосом баварец. Речь баварцев обычно звучала хрипло, из горла, но конкретно у этого тембр несколько отличался.
– А нечего, нечего было перебрасывать! – заорал земляк Вальтера шваб, фривольно обращавшийся со звуком «н». – Два шанса из шести, чего тут дергаться?
– Не знаю я, причем тут шанцы, но сегодня я тебя, мать твоя курва, обыграю! – прохрипел житель севера. Растянутые гласные выдавали в нем жителя нижней Германии, а резкое звучание согласных говорило, скорее о Заэльбье, но точно определить местность Вальтер так и не смог. Каждый из троих говорил на каком-то специфическом наречии. Видимо, давно друг под друга подстраивались.
– Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, – громко прошептал еще один. – Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни.
– Апостол, давай не сейчас, а? – заявил уроженец Гессена; к местной речи за последние дни Вальтер уже успел привыкнуть. – Эта шельма нас раздевает каждый вечер, должен же он когда-нибудь оступиться!
– Деньги на кон, братья мои! – провозгласил шваб, как проповедник с кафедры. – Пора помолиться господину Пфеннигу, чтобы он пустил нас в свой маленький рай!
– Аминь! – весело отозвался Йост.
– Это кто? – снова вступил в разговор баварец. Его глубокий голос, будто с трудом поднимавшийся из самого нутра, прозвучал весьма угрожающе.
– Воины придорожных канав, полководцы полуденных мух, борцы со скукой, мастера остроумной шутки и просто бродячие артисты! – бодро оттарабанил шут, который, судя по голосу, задумал какую-то каверзу.
Баварец хмыкнул.
– Отнимаете хлеб у полевых капелланов?
– Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! Не стадо ли должно теперь пасти пастырей?
– Да уймись ты уже, Апостол! – вспылил шваб. – Короче, бродячие мухи, если играть – милости просим к бочонку. Нет денег – проваливайте в свою остроумную канаву.
– Да как же не быть-то! – сообщил шут и зазвенел вовсе не бубенцами, хотя еще утром, когда они уходили с постоялого двора, заявлял, что все деньги кончились. Но Вальтер был не в обиде; он тоже припрятал немного на случай нужды.
– Вот это я понимаю, наш парень! – обрадовался хриплый северянин. – А друг твой играет?
– Боюсь, что не в эти игры, – с сожалением произнес Йост. – Но я, как могу, наставляю его на путь истинный.
Вечер тянулся, как лошадиная вонь за рейтарами, пока не появились эти двое. Впервые за долгое, очень долгое время игра не просто убивала время, а приносила искреннюю радость и удовольствие всем участникам.
Кости прокатились по пустому бочонку и замерли на тройке и шестерке. Тройку Эмих перекинул, но получил два. Восьмерка – ни то, ни се. Плохо бросать первым.
– Дай-ка я!
Плечистый Штефан загреб кости волосатой лапищей. Эмиху каждый раз казалось, что глиняная кружка треснет, реши померанец сжать пальцы посильнее. В обычное время его можно было бы запрягать в плуг вместо вола, но сейчас Штефан был не в лучшем виде: бледный, на лбу испарина, трясется, то и дело рожу кривит и к бедру тянется. А воняет от него, как от мертвого. Оно и понятно – ногу оттяпать не захотел, вот и гниет теперь заживо.
Стук костей, десятка. Сегодня Штефан в ударе.
– Хо-хо! – обрадовался померанец. – Давай-ка, благородие, покажи мастерство!
Каспар из Гессена молча забрал у него кости и, как всегда, начал долго кружкой трясти. Ну что он там натрясти хочет? Ладно бы кости были его, Эмих встречал таких мастаков, которые поворачивали свои кубики нужными гранями, ориентируясь по звуку, но Каспар не из таких. Эмих его терпеть не мог. Сидит в траченных молью штанах и рубахе по ландскнехтской моде, но по роже видно, как он всех здесь презирает. Коня нет, доспехов нет, зато гонору – на троих! Побритый подбородок выпятил, грудь колесом, а губу нижнюю прикусывает. Волнуется, рыцарь драный, хотя шанс-то хороший! С перебросом – почти четверть. Треснуть бы его по благородной роже, да вот незадача – дерется он лихо. Они на этой почве с Ульрихом когда-то побратались. До сих пор выяснить не могут, кто из них лучше.
Выпало семь.
Шут в первом кону сидел, как вкопанный, только глазами стрелял. А теперь при каждом броске ловко копировал манеру движений и речи, изображая Штефана неуклюжим паралитиком, Каспара величественным занудой, а его, Эмиха, коварным хитрованом. Все игравшие, кроме того, кого шут показывал, веселились от души. Вот только игра у дурака не шла совсем. Надо будет отсыпать ему немного из сегодняшних трофеев…
Штефан сгреб деньги с бочонка, а Эмих окинул взглядом помещение, чтобы ненадолго отвлечься.
Худой и всклокоченный Апостол, как всегда, уткнулся в засаленную Библию. Он прочитал ее столько раз, что страницы начали выпадать, но Апостол снова и снова беззвучно шевелил губами, повторяя одни и те же словосочетания в попытке их запомнить. Безоружный, небритый, босой, в рубище, но с ног до головы увешанный трофейными распятиями – кипарисными и дубовыми, бронзовыми и серебряными, на бечевках и на цепочках (как только шея у него не переломится!), Апостол водил пальцем по строчкам и покачивался взад-вперед в такт только ему слышимой музыке.
Рыжебородый роттмайстер17 Ульрих сидел рядом с ним. Не такой здоровый, как померанец, но тоже крепкий и с очень мощными предплечьями. Когда баварец, как сейчас, точил свой гигантский меч с волнистым лезвием, на запястьях и возле локтей жилы бугрились, как корни дуба. Даже на фоне пышной бело-голубой одежды с обычными для братьев разрезами предплечья казались слишком развитыми, будто по ошибке приделанными не к тому телу.
Пришлый оборванец с повязкой на глазах тоже сидел, прислонившись спиной к стене, но к противоположной. В чем состояло его актерское ремесло, Эмих так и не понял. Колени слепой подобрал и старательно делал вид, что игра ему нисколько не интересна, но стоило костям загреметь в глиняной кружке, как он тут же напрягался, как сторожевой пес, и ждал, какой объявят результат.
В комнате все сильнее пахло жареным. И отнюдь не фигурально.
– Кто сегодня за еду отвечает? – спросил, не выдержав, Эмих.
– Наш роттмайстер, разъедри его дыру! – откликнулся Штефан.
– Брат Ульрих, убирай железку, пока не порезался! – улыбнулся Каспар. – В котле вся вода выкипела.
Пробурчав под нос короткое кощунство о Деве Марии, баварец в последний раз лязгнул сталью о сталь, отставив двуручный меч в угол, где лежали его доспехи, и в следующий миг загремел уже чугуном.
– Кстати о девах, – встрял в разговор шут, использовавший на этот раз баварский говор. – Почему благородные господа при деньгах лишают себя общества любезнейших дам?
– Да, Эмих, где баба? – прохрипел Штефан.
Такого поворота Эмих, мягко говоря, не ожидал.
– Вы ж сами сказали ее заткнуть! – удивился он. – Ну, я и того… За бруствером она валяется.
– Ты нормальный язык понимаешь или вы, швабы, поголовно тупые? – заревел Ульрих. – Я сказал, чтобы она не хныкала, как монашка на исповеди, согрешившая со свечкой. Запугать, поучить уму-разуму, можно и ножом потыкать немножко, коли охота, но убивать-то зачем?
– Да, брат Эмих, кого теперь прикажешь пользовать? Не тебя ли? – поддержал гессенец.
– Заткни хайло, пока есть чем пользовать!
Эмих уже готов был потянуться за ножом, но в этот момент слепого, сидевшего ближе всех ко входу, грубо оттолкнули в сторону. Прямые белые кресты на одежде, короткий меч и алебарда, которую пришлось наклонить, иначе в дверь не пролезла бы. Швейцарец, из трабантов18! В переполненном доме сразу повисло гробовое молчание, прерванное только стуком костей.
– Брат Ульрих, не овечьим ли дерьмом завоняло? – спросил Штефан, шумно принюхиваясь.
– Не, скорее бараньим, – ответил Ульрих, у которого даже шутка звучала угрожающе.
– Не знал, что господа ландскнехты так тонко разбираются в запахах дерьма, – добавил от себя шут, – но усы стоящего в дверях господина из Берна мне тоже кажутся намазанными.
– Кто роттмайстер? – выдавил, наконец, вошедший швейцарец. – Почему не в карауле?
– А почему благочестивые братья должны отчитываться перед каким-то швейцарцем? – ответил Штефан, поднимаясь во весь свой немалый рост.
– У рейтаров конь пропал.
Трабант, хоть и молодой, нисколько не испугался померанца, хрустевшего пальцами. Ни одним мускулом не дернулся и за оружием не потянулся. Еще и заявился один, а не с друзьями. Где только хауптман19 нашел такого? Обычно швейцарцы звереют от первой же иголки в зад, и начинается потеха, а этот, видимо, из камня сделан.
– Ты ли дал коню силу и облек шею его гривою?
– Погоди, Апостол, со своей гривой! Мы-то здесь при чем? – спросил Ульрих.
– Ваш караул – с вас пропажа, – разъяснил трабант.
– Знаешь что, любезный, – сообщил Ульрих, складывая руки на груди, – топай-ка ты к себе в горы и не елозь нам по ушам этой белибердой.
Швейцарец как ни в чем не бывало вышел, и все оставшиеся проводили его хохотом и подробным разбором происхождения трабанта по женской линии. Когда дело дошло до прапрабабушки, шваб, до того разошедшийся, что бока заболели, вдруг почувствовал сильнейший сквозняк. Хотя нет, это был не ветер. Ощущение было такое, будто в воздухе резко похолодало.
Огонь в очаге опустился к самым углям, а от дверного проема внутрь потянулись сверкающие завитки инея. Заморозки посреди лета!
Эмих, прекративший смех, только хотел было обратить всеобщее внимание на эту странность, как вдруг в дом вошел скелет.
Голый костяк без нижней челюсти и левой руки по-хозяйски огляделся внутри, уперев единственную руку в тазовую кость. Он поворачивался на одном месте, разглядывая всех присутствующих по порядку, пока не остановил черные провалы на Эмихе. Оглядев его с головы до ног, костяк уверенно двинулся вперед.
У шваба все внутри оборвалось.
«Нет! Только не я!»
Скелет внезапно остановился, по-прежнему буравя Эмиха пустыми глазницами. Будто услышал и ждал продолжения разговора. Медленно поднял руку, указав вытянутым пальцем на Каспара.
«Да, его! Его в первую очередь!»
Палец переместился на Штефана.
«И его тоже! Ему терять нечего!»
Скелет тыкал в одного ландскнехта за другим. Замерший, как мышь, Эмих, боясь выдать присутствующим страшного гостя, бился в беззвучной истерике:
«Всех! Всех забери!»
Скелет, вопросительно наклонив голову, стал поднимать руку, собираясь указать на него, Эмиха.
«Нет, нет, нет!» – замотал головой шваб. – «Что хочешь, дам, что хочешь, сделаю, только не я! Не я! Мне еще рано!»
Скелет внезапно повернул череп к слепому оборванцу в углу, который снова сидел, сжавшись у стены, и пошел к выходу.
– Хватит рожи корчить, Эмих! У дурака это лучше получается, – захрипел рядом Штефан. – И где только Франца носит с нашим пивом?
– На, ешь! – произнес совсем юный голос, и в руку Вальтеру сунули палку с наколотым куском мяса.
Горячий бульон стекал, обжигая пальцы, но кусок так аппетитно пах, а есть так хотелось, что музыкант ни за что на свете не отдал бы угощение. Ухватив второй конец, Вальтер уже раскрыл было рот пошире, чтобы впиться зубами в кусок, но внезапно вспомнил расхожие истории о том, чем наемники питаются в нужде…
– Что это? – спохватился музыкант.
– Конина, конечно, – задорно ответил тот же голос, совсем еще мальчишеский, и справа от Вальтера кто-то присел, громко чавкая. – Ничего другого не достать, разве что в замке…
– Франц, куда требуху и копыта дел? – спросил баварец.
– У саксонских палаток раскидал! – ответил мальчик набитым ртом.
– Молодец! – одобрил Ульрих. – Никогда не любил говор этих ублюдков.
– У меня похожий, – ляпнул зачем-то гессенец.
– Так я и твой не люблю! – заржал роттмайстер.
По дереву снова покатились кости.
– Хо-хо! – обрадовался шваб Эмих, громко хлопнув в ладоши. Он был как-то особенно возбужден игрой. – Тебе, шут, сегодня чертовски везет!
Глаза смерти20 шесть раз подряд – это ж невозможно, я таких чисел не знаю21! С перебросом попроще, конечно, но ты, я смотрю, не утруждаешься. Или в удачу свою не веришь?
– Знавал я в Парме одного студента, который тоже шансы хорошо считал22, – отозвался Йост, который, судя по голосу, совершенно не расстраивался неудачам. – Вот только ушел он от меня голый, как Адам до грехопадения. Ты погоди, брат ландскнехт, я еще разминаюсь!
– Чего годить-то? – промычал шваб, который после пива начал растягивать гласные еще больше. – Ты в кошельке шустрее разминайся! Новый кон начинаем!
Зазвенели монеты, падающие на деревянную поверхность, и Вальтера легонько тронули за плечо.
– Не выручишь ли, дружище? – вкрадчиво произнес Йост.
– Давай, колпак свой снимай! – хохотнул шваб Эмих.
То ли оттого, что воздух был слишком спертым, то ли от съеденного натощак куска мяса бродячий музыкант вдруг почувствовал, как к горлу подступает дурнота. Шут, видимо, расценил молчание иначе.
– Понимаю, дружище, ты питаешь к серебру столь же нежную и трепетную любовь, что и братья-ландскнехты. Тогда одолжи мне денег! Обещаю, что верну в двадцать раз больше.
– Весь лагерь собрался обчистить? – поинтересовался шваб и дико захохотал.
– Заткнись! – с неожиданной злостью осадил наемника шут, а потом так же спокойно, как до этого, продолжил: – Ну как, дружище, хочешь получить кучу денег?
Смех, как ни странно, прекратился. Наверное, все сейчас смотрели на них и ждали, что решит Вальтер.
Тот, несколько справившийся с тошнотой, прикинул, что ничего особенного не теряет. Да, Йост с легкостью спустит его деньги, это вполне в его духе, но, в конце концов, благодаря шуту они их и зарабатывают. Причем гораздо больше, чем музыкант в одиночку. Если же шут выиграет… Откуда он только узнал? Наверное, видел, как Вальтер прячет деньги.
Музыкант очень хотел сыграть сам. Он понимал, что его, калеку, наверняка обжулят, но сидеть просто так было уже невыносимо. Он буквально кожей ощущал тепло замызганной глиняной кружки и холод круглого металла. На слух различал, кто выигрывает, а кто проигрывает, не дожидаясь воплей и стонов, определяя это по сопениям, почесываниям и хлопкам. Но была одна проблема: чтобы определить, сколько выпало у него самого, нужно было коснуться костей после броска, а правила это строжайше запрещали.
«Сколько же всего можно купить на сто пятьдесят батценов23?» – подумал Вальтер, а руки сами тянулись к подкладке, в которую были зашиты монеты.
– Вот это я понимаю! – радостно заорал Йост. – Вот это настоящая, бескорыстная дружба! Все ради товарища!